Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
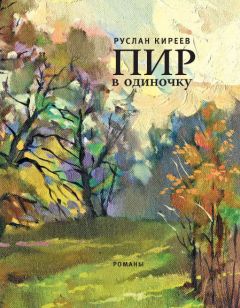
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
Последний раз виделись лет шесть или семь назад: то ли на слет какой приезжал, то ли на ВДНХ (тогда еще существовала ВДНХ и проводились слеты), – а может быть, даже не семь, а все десять, – но К-ов сразу же узнал в трубке подчеркнуто бравый, подчеркнуто панибратский, хотя на самом деле не очень уверенный в себе голос. Голос человека, который не привык и не умеет говорить по телефону.
Впрочем, не только по телефону. Он и в личном общении больше помалкивал, обходясь короткими отрывочными фразами, а то междометиями или просто дружеским хлопком по плечу, тяжеловатым и куда более выразительным, нежели слова. Неудивительно: руки слушались его лучше, чем язык. Большие, темные, короткопалые, с желтыми широкими ногтями в коричневых ободках – руки строительного рабочего, каковым и был всю жизнь, но одновременно руки фотографа, художника, скульптора и еще Бог весть кого. Поэта, к примеру, ибо стихи тоже писал – покрывал страница за страницей размашистыми, не шибко грамотными каракулями.
Стихи были ужасны, на этот счет литератор К-ов не заблуждался, что же касается всего остального – фотографий, чеканки, деревянных барельефов, которые сам автор именовал «досками», то здесь судить не решался. К-ову нравилась грубая выразительность этих «произведений», рождающихся в обилии и с неслыханной быстротой, – нравилась, да, но он подозревал, что все это были опыты дилетанта, а не мастера.
А как же выставки? Как же статьи в газетах, передачи по телевизору и даже фильм? (О Мише Греблеве сняли целый фильм.) Ларчик просто открывался: рабочая биография. Она-то и была золотым ключиком, вот только где теперь та волшебная дверца, которая ключиком этим отпиралась? Там же, надо полагать, где ВДНХ и помпезные слеты…
К-ов познакомился с ним на Дальнем Востоке, в Приамурье, куда, молодой журналист, приехал собирать материал для очерка о городе, который только-только появился на карте. (То было время, когда города росли как грибы.) К разным людям заходил и всюду слышал: Греблев… Миша Греблев! Он знает, он здесь с самого начала, с первой бетономешалки. У него фотографии, у него документы, у него экспонаты – да-да, экспонаты, Миша ведь музей организовывает, не слыхали? Словом, все дороги вели к Греблеву, и К-ов, слегка волнуясь, двинул к знаменитому человеку.
Мастерская (она же музей, она же фотолаборатория, она же, кажется, и квартира, хотя была еще и квартира настоящая, где жили жена с сыном) – мастерская располагалась в подвале блочной пятиэтажки, одной из первых в городе. У входа стояли по обе стороны деревянные истуканы с человеческий – а то и выше – рост. С них, собственно, музей и начался: Миша, который занимался еще и этнографией, разыскал их в нанайских селениях и привез на специальной, привязанной к велосипеду тележке.
Осторожно спустился К-ов по крутой бетонной лестнице. Дверь была приоткрыта и легко поддалась под его вежливой рукой. «Можно?» – произнес на всякий случай и, пригнув голову, вошел.
В захламленном, с низким потолком помещении не было ни души. Незваный гость огляделся. Топчан, бутыля какие-то, карта на стене. «Хозяева! – неуверенно окликнул визитер. – Или нет хозяев?»
Глухая подвальная тишина была ответом ему. Он повторил вопрос, теперь уже громче, и тогда из глубины донеслось: «На стул не садитесь!»
Удивленный К-ов еще раз обвел взглядом ярко освещенное голой лампочкой помещение и не узрел никакого стула. Стеллажи с инструментами, связки журналов на тумбочке, пузатый глиняный кувшин. На оштукатуренной, но не беленой стене висело несколько акварелей, а под ними стояли «доски» с мужскими и женскими лицами. То были первые увиденные москвичом творения амурского умельца, рассмотреть которые, однако, не успел: появился хозяин. Шел, чуть косолапя, улыбаясь широко, – сверкали металлические зубы, – на ходу вытирая ветошью руки. «Фотографии печатаю… Здравствуйте!» И – снова о стуле: вчера, дескать, сел один и грохнулся – стул-то поломанный, вот!
Демонстрируя, поднял за спинку, вытянул из-за тумбочки, где К-ов его сроду бы не приметил. А сам все приглядывался к гостю, как бы что-то высматривая в нем. Светлые быстрые глаза задерживались на секунду-другую – К-ов почти физически ощущал их остроту и цепкую проницательность, их ухватистость, как он после обозначит для себя это Мишино качество, но словечком при этом воспользуется опять-таки Мишиным. «Никак, – жаловался художник, – не могу ухватить тебя».
Это значило: не может нарисовать, не получается портрета…
Сочинитель книг понимал художника, и понимал очень даже хорошо: сколько раз случалось, что он тоже не умел «ухватить», не умел запечатлеть в тексте того или иного человека. Больно уж изменчивы люди, больно легко перетекают из одного состояния в другое. И лишь когда процесс этот завершается, когда человек, угомонившись, обретает наконец-таки свое место (что не обязательно равносильно физической смерти), образ ложится на бумагу.
Рисовал самородок Греблев по памяти, и выходило очень даже похоже, К-ов убедился в этом после их совместного путешествия в далекое нанайское селение, где долго беседовали (говорил, собственно, Миша – журналист помалкивал) со стариком нанайцем, изображение которого появилось после на стене греблевского подвала. Старик сидел с посохом в руке, узкоглазый, темноликий, с реденькой бороденкой, похожий на языческого, не подвластного времени божка…
Об этом их путешествии Миша вспоминал всякий раз, когда приезжал в Москву, причем, догадывался беллетрист, вспоминал не для себя – что ему эта воскресная прогулочка с одной ночевкой! – вспоминал для московского своего знакомца, у которого, не без оснований полагал он, поход этот оставил неизгладимое впечатление.
Удалось ли основателю музея раздобыть нанайскую утварь, ради которой поперлись к черту на кулички, – этого теперь уже К-ов не помнил, зато до конца жизни не забыть ему, как спали в заброшенном бараке для лесорубов на давно уже выработанной делянке и по нему, укутанному с головой в тонкое одеяло, всю ночь бегали, быстро-быстро перебирая лапками, легкие мыши.
Часть пути проделали на лесовозах с высоко поднятыми кабинами, в которые без труда помещались вдвоем, но чаще шагали пешочком, через тайгу, по сопкам, на взгляд К-ова, совершенно не отличимые одна от другой, Греблев же непостижимым образом ориентировался и даже называл каждую по имени. Стоял сентябрь, середина сентября, бабье лето: солнце светило ярко, но уже не горячо, темные тяжелые кедры замерли в неподвижности, неподвижен был воздух, не подавали голоса птицы. На всем лежала печать не то что вечности, но стабильности и надежности – на всем, в том числе и на Мише. Он ведь – удивительное дело! – не менялся с годами, не менялся совершенно, – потому-то, когда в сырой ноябрьский день раздался звонок и хрипловатый, врастяжечку голос произнес с неумелой фамильярностью: «Здорово, старина, как жизнь?» – то К-ов голос этот узнал мгновенно.
Миша приглашал на открытие персональной выставки «102 корабля российского флота». Выставки? Это в наше-то время, когда даже профессиональные художники не в состоянии приобрести краски с кистями, а тут – любитель, да еще живущий где-то в тьмутаракани… К-ов переспрашивал и уточнял, не веря ушам своим, а гениальный дилетант невозмутимо подтверждал, что да, он привез выставку конструктивных акварелей (конструктивных? филолог К-ов понятия не имел, что означает сие, но тут уж влезать не стал), открытие завтра в двенадцать. «Приходи, старина!»
Тяжелый на подъем сочинитель осведомился осторожно, где это, уверенный, что услышит название какой-нибудь московской окраины, нечто подобное тому, где жил сам и куда добирался с великими муками, но в ответ прозвучало: на Сухаревке.
На Сухаревке! В самом центре, куда и в прежние-то времена простые смертные могли пожаловать в качестве разве что гостя либо праздного зеваки, Миша же Греблев, бетонщик из Приамурья, приглашал на правах хозяина. Фантастика!
К-ов поехал. Он не был в этой части Москвы год или полтора, если не больше, и не узнал некогда благопристойного, чисто выметенного, вылизанного района. Все было облеплено ларьками с заморскими диковинками, напитками в основном, а вдоль тротуара выстроились самодеятельные торговцы. Чего только не предлагали в терпеливой и безмолвной надежде: пиво и молоко в пакетах, яблоки и рыбные консервы, причем, судя по этикеткам, старые, из домашних, видать, запасов, электрические лампочки и колготки… Все это держали согнутые, усталые, отяжелевшие руки, лишь кое-кто приспособил ящики, газетку же не расстелешь на тротуар – так развезло после выпавшего ночью первого в нынешнем году снега. Сырой, мерзкий ветер трепал обрывки газет и белые полоски написанных от руки объявлений на бетонных столбах. Грязные машины двигались беспорядочно – К-ов, не обращая внимания на светофор, пробрался между ними через слякотную мостовую на другую сторону. А некогда ведь был дисциплинированным пешеходом… Но мало ли кто кем был! Люди, торгующие барахлом в центре столицы, тоже были недавно совсем другими…
Дом, в котором, судя по адресу, ютился музей, стоял как бы на отшибе, во дворе, и внешне ничем не отличался от других жилых зданий – такой же унылый и обшарпанный. Или, может быть, Миша Греблев напутал что-то? Это он в дальневосточной тайге ориентировался как бог (на мгновенье беллетрист увидел залитые солнцем сопки), но Москва, тем более нынешняя Москва, способна сбить с панталыку кого угодно.
Две старушенции пробирались по брошенным в грязь дощечкам, одна в облезлой шубенке, другая в длиннополом синем плаще, кажется, мужском, и со сложенным черным зонтиком в руке. К-ов спросил у них о музее, и старушенции не удивились (он ожидал: удивятся), не глянули на него с подозрением (последнее время все глядели друг на друга с подозрением), а обрадовались, точно доброму знакомому. Оказывается, и они туда же, и они на выставку – в двенадцать открытие, да? – и он подтвердил с воодушевлением: в двенадцать. Галантно пропустив дам вперед, вошел следом – в подъезд, который ничем не отличался от остальных. Вот разве что дверь выкрашена почему-то в оранжевый цвет…
Музей существовал на общественных началах и занимал – на втором этаже – три комнаты, одну из которых, самую большую, и отдали под выставку. После К-ов усомнился, что на столь незначительном пространстве разместили 102 акварели, причем иные были очень даже внушительных размеров – например, первый российский броненосец «Петр Великий», – но не количество, в конце концов было главным тут и даже не качество, о котором он не брался судить (хотя выступающие, естественно, не скупились на похвалу), – главным для беллетриста К-ова было вновь испытанное им ощущение стабильности и надежности. Ах, как мало что изменилось в жизни Миши Греблева! Рисовал по-прежнему, вырезал, собирал экспонаты для музея, охотно демонстрировал свои работы, а что проезд в Москву оплатила вместо ВДНХ какая-то южнокорейская фирма (при чем здесь южнокорейская фирма, К-ов так и не уразумел) – значения не имело. То же солнце освещало те же сопки, так же покачивался на волнах «Петр Великий», российский броненосец, и так же с посохом в руке сидел на лавочке старик нанаец – Миша виделся с ним незадолго до отъезда и еще один написал портрет. «А вот тебя не могу ухватить», – прибавил сокрушенно и все примеривался взглядом, прицеливался, запоминал, толстые же, в заусеницах, короткие пальцы шевелились в нетерпеливом желании взяться за карандаш, дабы в один прекрасный день водворить на место, пришпилить… Стало быть, и для него, беллетриста К-ова, было уготовано местечко.
Когда коротенькая официальная часть закончилась, виновник торжества достал из целлофанового пакета бутылку сухого вина, кету, пол батона хлеба да граненый стакан. «Презентация», – сострил кто-то. Появились рюмочки, совсем крошечные и грязноватые, их мигом ополоснули, старухи – а были тут в основном старухи – чокались, вино же тихонько сливали К-ову, благо единственный стакан оказался почему-то у него. Рыбка для их зубов была жестковата, и они исподтишка припрятывали ее в сумки. Миша заметил это и, не слушая возражений, посовал им все, что осталось. Его увели на какие-то съемки, а захмелевший К-ов вышел на улицу и, подхваченный порывом сырого южного ветра, полетел на свою окраину – легкий, беспечный, в веселом и чуть жутковатом предчувствии, что еще немного, и зоркоглазый Миша Греблев наконец-таки ухватит его.
Воскрешение деревянного человечкаПоследний раз видел Стасика за два с половиной года до смерти, в специализированной больнице, куда его, старого алкаша, упрятали по решению суда на принудительное лечение. Заявление жена написала, многострадальная, терпеливая, преданнейшая Люба, – написала в отчаянии и робкой надежде: авось, убережет горемычного муженька от очередного срока, который, понимала она, станет последним для него. «Пусть хоть умрет как человек. Дома, в чистой постели».
Располагалась больница у черта на куличках, в степном поселке Костры. Врачей с сестрами привозили сюда из райцентра, каждое утро, а вечером забирали. Ходил и рейсовый автобус, но редко, два, что ли, раза в день, поэтому К-ов, в распоряжении которого были считанные часы, решил взять такси. Платил, разумеется, в оба конца, да еще набавить обещал, но шофер кривился и чесал в затылке. «А там долго стоять? В Кострах-то?» – «Пятнадцать минут. Ровно пятнадцать!»
Обычно ему хватало двух суток, чтобы, перед тем как вернуться в Москву после уединенной работы в приморском пансионате, проведать своих – и живых проведать, и мертвых, – но объявившийся нежданно-негаданно Стасик нарушил привычный ритуал: мать, тетка, кладбище, где лежат старики… Не виделись лет десять – да, десять, если не больше, – и когда теперь представится случай! Никогда… И мать, и тетка твердили в один голос, что братец, хоть и младше их, на ладан дышит – резаный, битый, обмороженный… Словом, москвич не скрывал от себя, что едет прощаться с дядюшкой, и оказался прав, хотя Стасик протянул еще два с половиной года. Еще два с половиной года пульсировала и билась эта изувеченная жизнь, но для К-ова последним ее рубежом, последним кадром – стоп-кадром – стал затерянный в степи поселок Костры.
А первым? Что было первым кадром? Шумное ночное вторжение Стасика, которого маленький К-ов ждал нетерпеливо и благоговейно, как героя, ждал, да, считал на пару с бабушкой месяцы до Стасикиного освобождения, потом недели и дни, он же все равно нагрянул внезапно, под барабанный стук в дверь, окно, снова в дверь. Хриплый голос, желтая, поблескивающая при свете керосиновой лампы лысина, треск проламываемых грецких орехов, на которые набросился с тюремной голодухи… Нет, не это было первым кадром, сохранился еще один, куда более ранний: К-ову годика три или четыре, он в постели – почему-то в постели – и вертит в руках деревянного человечка, которого принес ему Стасик, сам, однако, выскользнувший из детской памяти. Вот между этим-то человечком и лечебницей в Кострах и уложилась долгая, бурная и при всем том такая, в сущности, незамысловатая Стасикина жизнь. Ну как уложилась? И по ту сторону было что-то, раньше, и по эту – как-никак еще два с половиной года мыкался, но для К-ова дядюшкино странствие по земле отсеклось голеньким деревянным существом и убогой больничкой. Кадр первый, кадр последний…
Подобно изображению на фотопленке сокрыт до поры до времени этот последний кадр, но смерть – великий проявитель, и картинка стремительно проступает, поражая яркостью и сочностью, которые, знаем мы, никогда уже не поблекнут. Никогда не пожелтеет листва на хилых больничных тополях, только-только зазеленевших под апрельским солнцем, не выцветет синее кашне на дряблой шее, не пожухнет золотой апельсин в дядюшкиной руке, напоминающей пустую грязную перчатку. Такое же, будто внутри нет ничего, и Стасикино лицо: впалый беззубый рот, ввалившиеся щеки…
К-ов с теткой приехал, та звонкоголосо и взволнованно окликнула брата, Стасик вскочил и сразу же, не стесняясь приятелей, чьи серые греющиеся на солнце фигуры тоже отпечатались на этом отныне вечном кадре, захрипел, зашамкал, забулькал, руками замахал… Любка, это она, зараза, она упекла его сюда, она, но ничего, он разберется, пусть только сестра вызволит его, он ждал ее, вот бумаги – и, громко сопя, извлек из-за пазухи кипу мятых листков.
К-ов неприкаянно и тихо стоял рядом. «Здравствуй, дядюшка, – проговорил наконец. – Или не узнаешь племянника?» Стасик быстро глянул на него – быстро, остро, со звериной какой-то цепкостью. «Чего это не узнаю! Узнаю…» И в доказательство чмокнул мокрыми губами, после чего снова зашелестел бумажками, точно не из Москвы пожаловали к нему после десятилетней разлуки, а заглянули из соседнего дома.
Разволновавшаяся тетка попросила закурить, Стасик дал, и она тут же закашлялась. «Другого ничего нет?» – «Эти-то, – прохрипел он, – не на что купить! Денег оставите?» К сестре опять-таки обращался – московского визитера попросту не существовало для него, пока не существовало, это потом, когда через неделю сестра снова приедет, будет выспрашивать, каким чудом объявился племянник (К-ову подробно напишут обо всем), сейчас же видел лишь ее, спасительницу свою, последнюю надежду, и даже когда К-ов в ответ на просьбу о деньгах торопливо вложил в холодную руку двадцатипятирублевку, не ему, а ей бросил спасибо.
Напоминая о времени, засигналил таксист. Потом еще раз и еще. Наспех попрощались – опять эти мокрые губы, этот перебитый хлюпающий нос, который он шумно вытирал рукавом, хотя тетка сунула свой кружевной платочек, – попрощались и быстро пошли к распахнутым настежь свежекрашеным воротам. Хромая, Стасик припустил следом. Галоши слетели, в одних носках бежал, грязных и рваных, – торчал обрубок пальца. «Любке не говори, что была… Что денег дали».
Машина развернулась и ушла, подняв облако пыли, в котором растворилась (навечно, как выяснилось два с половиной года спустя) нелепая босая фигура с апельсином в руке.
Бабушка рассказывала, что в детстве Стасик был смышленым, ласковым мальчиком, добрым и тихим. «Кем ты, – спрашивали, – хочешь быть, когда вырастешь?» – и он отвечал: ангелом. Потому что ангелы, поведали ему, живут в небесах и никогда не умирают. Он и походил на ангелочка: большеглазый, с длинными кудрявыми волосами, в матроске и коротких штанишках. Фотография эта сохранилась, К-ов время от времени смотрел на нее, и ему казалось, что на лице взрослого Стасика, отпетого рецидивиста, нет-нет да и мелькнет то же, что на снимке, доверчиво-невинное выражение.
Доверчивость – сочинителю книг казалось это слово точным – сквозила и в Стасикиных преступлениях, поразительно наивных, беспомощных, лишенных и намека на изощренность, которую он вроде должен был приобрести за годы тюремных мытарств. Нет! Стасик воровал как-то по-детски открыто, не воровал даже, а брал, просто брал, единственную позволяя себе хитрость: не спрашивал, можно ли. А когда ловили с поличным, обезоруживающе и опять-таки по-детски улыбался беззубым ртом. Еще он любил смотреться в зеркало, и никогда при этом не ужасался своему виду, напротив: испытывал явное удовольствие от этого лукавого, исподтишка, созерцания. Будто сам-то – красавчик и лишь примеряет, забавляясь, страшные маски.
Телеграмма, что Стасик умер, пришла накануне похорон; поездом уже не успеть было, а последний самолет улетал через час. Не судьба, стало быть… К-ов подумал об этом с облегчением, но тотчас устыдился и давай звонить в аэропорт: нет ли случайно дополнительного рейса? Дополнительного не было, а основной, сказали, задерживается. К-ов тут же стал собираться.
Ему повезло: вылет еще отложили и кое-кто сдал билеты…
Шел второй час ночи, когда беллетрист с легкой дорожной сумкой спустился по трапу на родную землю. Хотелось пить, но буфет был закрыт, а автоматы не работали: темнели, скалясь мертвыми ртами. Автобусы не ходили. Три или четыре легковушки караулили в сторонке полуночных пассажиров, но пока К-ов безуспешно пытался раздобыть воду, уехали.
Еще стоял небольшой фургончик, без света, но на всякий случай К-ов подошел. Кажется, в кабине сидели, однако издали не разобрать было, и лишь вплотную приблизившись, убедился: да, сидят, причем не один – двое. Но сидят поразительно недвижимо, поразительно прямо, точно манекены какие. «Вы не в город?» – спросил прилетевший на похороны, но в кабине не шелохнулись, хотя стекло было приспущено и не слышать его не могли. «Мне до центра. Не подбросите?» И опять никакой реакции. Сидят, смотрят перед собой, молчат… Ну нет и нет, и он двинул было дальше – в конце концов не останется же навеки здесь! – но тут из кабины выпрыгнули. Без единого звука обогнув фургон, распахнули сзади дверцу. «Подвезете?» – обрадовался К-ов.
Человек, придерживая одной рукой дверцу, молча ждал. «До центра, да?» – уточнил на всякий случай ночной пассажир и, сгорбившись, полез внутрь.
Не успел сесть – только нашаривал что-нибудь вроде сиденья, – как дверца захлопнулась, и почти в тот же миг (дошел ли человек до кабины?) машина сорвалась с места. По жестяному полу прокатилось что-то, ударилось и замерло, а когда фургон повернул, покатилось обратно.
Ни сиденья, ни подобия сиденья не было – во всяком случае, К-ов не сумел отыскать в кромешной тьме и устроился на карачках, держась за прохладную, глухую, без единой щели боковину и вслушиваясь в катающийся туда-сюда загадочный предмет. Страха, как ни удивительно, не было – ни страха, ни ощущения ирреальности. Даже некую удовлетворенность испытывал сочинитель книг, вроде искупал вину перед Стасиком, чью абсурдную, полную опасностей жизнь он, с риском для жизни собственной, как бы продлевал сейчас в летящем сквозь ночь черном вороне. Вины за что? Разве когда-нибудь обижал Стасика? Разве читал ему мораль, учил праведности и благоразумию, что с такой страстью и таким самоуважением делали и мать, и тетка, и покойная бабушка? Нет. Единственный из всей родни, К-ов пусть недолго, пусть в силу детской несмышлености, но боготворил дядю, чей ореол мученичества и северной, почти джеклондонской романтики бросал, к зависти дворовых мальчишек, отсвет и на племянника.
Впрочем, не только мальчишек околдовывал Стасик. Какие обворожительные, какие веселые, какие красивые женщины вились вокруг этого лысого хрипуна! – художник слова отродясь не видывал таких. Или, правильней сказать, они не видели его, не замечали, проходили мимо, с озорным мимолетным удивлением – а чаще равнодушием – скользнув взглядом по написанным им страницам. Типографский текст, к которому сочинитель книг относился с благолепием почти мистическим, навевал на них скуку. А вот со Стасиком весело было. Стасик умел рисковать, и они ценили это, тем более им-то самим ничто не угрожало. Рыцаря забирали, увозили в такой же вот, как эта, колымаге, а они оставались, – молодые, свободные, в золоте и дорогих нарядах. Никто, разумеется, не ждал его, за исключением Любы, но Люба появилась, когда Стасик постарел уже, пооблез и поослаб.
Загадочный предмет, судя по звуку, круглый, продолжал кататься по металлическому полу. Уж не бутылка ли, подумал узник, облизывая пересохшие губы. Ветерок приключения, в Стасикином совсем духе, овеял лицо насквозь бумажного, насквозь кабинетного человека. Встав на колени, попытался поймать предмет. Фургон повернул, пассажир завалился было, но успел выбросить руку и… наткнулся на бутылку! Полную, закрытую – пальцы ощупали на горлышке ребристую нашлепку. Вода? Пиво? Кто сказал, что Стасик умер, он жив, он лезет в дорожную свою сумку, достает перочинный нож, открывает на ощупь, сдергивает нашлепку, которая звонко ударяется о металлический пол – а черный ворон все везет его куда-то, и пусть себе везет, пусть! – подносит бутылку к лицу, уверенный, что услышит запах пива, и пиво ударяет в нос, легкий, свежий аромат, и вот уже пенящаяся прохладная влага льется, булькая, в сведенный жаждой рот, воскрешая его, и Стасик счастлив, он улыбается, он жив, он бесстрашен – пусть себе везут, пусть! – он щедр, он по-царски отваливает десятку, когда фургон, наконец, останавливается и его выпускают («За пиво!» – бросает угрюмому молчуну), он шагает налегке по ночному пустынному городу и отыскивает свой дом, и стучит по-хозяйски, и слышит голос жены, верной, единственной, последней Любы: «Опять вы! Я же сказала – нет Хрипатого. Умер! Похоронили!»
К-ов медленно проводит по лицу ладонью. Ну да, Хрипатый – его там Хрипатым звали, ну да, умер, но почему похоронили, когда? «Когда?» – произносит он.
За дверью молчат. В ставнях светится щель, приторно пахнет горячим мясом. Задрав хвост, о ноги позднего гостя трется жирный котяра. «Кто там?» – доносится изменившийся Любин голос.
К-ов называет себя. Еще мгновенье тянется тишина, потом – аханье, причитанья, звяканье крючков и задвижек. «Приехал! А мы и не ждали уже!»
Ждали других, со страхом ждали, потому что дважды приходили, называли себя друзьями Хрипатого, и уж наверняка явятся завтра, а она не желает видеть их рожи, она хочет по-человечески похоронить – хотя бы похоронить! – и она так счастлива, что он приехал, так счастлива… На глазах слезы блестят, но слезы не горя, а умиления. Будет оркестр, венки будут, ящик апельсинов достала (он вспомнил тот, в Стасикиной руке), будут приличные люди, вот только гроба нет…
В коридоре старуха в черном колдует над тазом с костями и мясом. Холодец готовит? «Как гроба нет?» – спрашивает К-ов. «Нет! С деревом плохо, ни за какие деньги не достанешь!»
Москвич осторожно бросает взгляд в комнату. Что-то длинное на столе, белое, в празднично мигающих свечечках… «Да как же без гроба-то?»
Люба открывает рот, чтобы ответить, но вдруг глаза ее в ужасе расширяются. «Брысь! – вскрикивает. – Брысь!.. Влезла-таки, зараза!» Вдвоем со старухой принимаются ловить кота – того самого, что терся о ноги К-ова, – и он, нечаянно впустивший его, помогает женщинам. Потом входит на цыпочках в комнату.
…А гроб все-таки утром привезли, но гроб так называемого многократного пользования. На кладбище, когда все попрощались у разверстой могилы, Стасика перевалили в длинный целлофановый мешок, завязали и опустили, согнутого, после чего долго дергали веревку, чтобы он распрямился там, как подобает христианину. Бросая свою горсть земли, К-ов заглянул в яму и увидел в мутной целлофановой облатке, уже припорошенной серыми комьями, желтое маленькое лицо деревянного человечка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































