Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
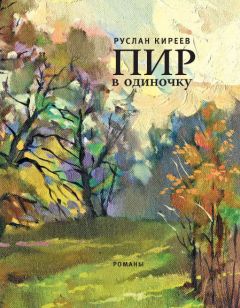
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
Во-первых, собака у Лилии Анатольевны была не черной, а белой, шпиц, по-видимому (К-ов не разбирался в этом), во-вторых, ее никогда не стригли в его присутствии (если вообще стригли), а в-третьих, не в лесу выгуливали – на московском бульваре. Так почему же, спрашивал себя беллетрист, имеющий вроде бы репутацию недурственного психолога, – почему же картина, которую он наблюдал с невысокого, поросшего кустарником холма: зеленый, яркий, в ярких одуванчиках луг, посередине велосипед стоит, опираясь неизвестно на что, а неподалеку девушка в голубом сарафане стрижет и расчесывает, и любуется, и снова стрижет черного, послушно замершего пса, – почему картина эта воскресила в памяти именно Лилию Анатольевну?
Если не считать жены и ее родителей, а также, разумеется, дочерей, внучки, зятя, – словом, если не считать семьи, то Лилия Анатольевна была в Москве самым близким К-ову человеком. С восемнадцати лет знал ее, со времени своей первой столичной командировки.
Была зима – а московская зима, тревожно предупреждала бабушка, – не то, что наша, поэтому и теплое белье заставила надеть, и шерстяные носки, и конечно, бушлат – его-то в первую очередь.
Бушлат на самом деле был никаким не бушлатом, а потертым, в латках и пятнах, полушубком, который бабушка купила на толкучке у приличного, говорила она, человека, без ноги, правда (книгочею К-ову вспомнился, разумеется, Сильвер из «Острова сокровищ»), и никак, кроме как «бушлат», звать не желала. Уж не полагала ли в наивности, что это плотное, это звучное словцо делает одеяние и теплее, и красивее?
Являясь в то или иное столичное присутствие, посланец юга пытался всякий раз сбагрить бушлат на вешалку, но вешалки не всюду были, а если и были, то гардеробщики откровенно брезговали этакими обносками. «Вы к кому, молодой человек?» – вопрошали подозрительно. Вот и норовил оставить украдкой в холле – то на подоконнике, то на облезлом каком-нибудь кресле, но случалось, не было ни подоконника, ни кресла или в холле кто-нибудь торчал. Тогда он просто расстегивался, распахивался, что делало верхнюю одежду, надеялся он, менее заметной, и лишь после этого, набравшись духу, открывал дверь. В тот же миг взоры сидящих устремлялись на его несчастный полушубок.
Только один человек во всей Москве не увидел в этой пиратской робе ничего особенного. Взял, как берут приличное дорогое пальто, и повесил в стенной шкаф, причем повесил не на какой-то там гвоздик, а на деревянные плечики, бережно распрямив воротник.
Человеком этим была Лилия Анатольевна. Прибывший в столицу южанин позвонил ей прямо с вокзала, сразу, как сошел с поезда, хотя сделать это, конечно, полагалось раньше, еще из дому, – или позвонить, или написать. Во всяком случае, предупредить заранее, а не сваливаться как снег на голову. Да и кто он, собственно, этой женщине? Никто… Даже в отдаленном родстве не состояли, просто семьи их, эвакуированные в 41-м в маленький среднеазиатский городок, нашли приют под одним кровом.
К-ов времени этого не помнил. Зато его хорошо помнила бабушка. С упоением рассказывала, как пивали чай со сладким – слаще меда! – кишмишем, как ели сладкую – слаще меда! – дыню и как Лилька раскатывала в штанах верхом на ослике.
В штанах! Тогда-то, поди, и в Москве женщины не носили брюк, мода на них придет еще не скоро, а эта пигалица, восхищенно ужасалась бабушка, эта вертихвостка натянула и хоть-бы хны!
Назвав себя и прибавив на всякий случай: внук такой-то, вам большой привет и письмо (письмо, видел он, маленькое), незваный гость вежливо умолк. «Ты откуда?» – раздалось наконец в трубке. «Из Москвы! – тотчас с гордостью отозвался он. – Я здесь уже… В Москве». И, помнит он, огляделся, дабы убедиться в счастливой, в невероятной правоте собственных слов.
Вокруг была действительно Москва: высоченные дома, с крыши снег скидывают, чего на юге у них не делали никогда, машины в несколько рядов… Лилия Анатольевна издала негромкий звук – тогда еще он не знал, что это у нее означает смех. «Москва большая… – И приказала: – Слушай меня внимательно! Слушай и запоминай».
Через час он нажимал кнопку звонка у ее двери. Открыла женщина в брюках (он, естественно, сразу вспомнил бабушкины рассказы про Среднюю Азию), худенькая, невысокая, с голубыми волосами. Голубыми! Воспитанный человек, он не выказал удивления, а она, в свою очередь, не заметила бушлата, который он в целях конспирации расстегнул еще на лестничной площадке. Быстренько разоблачившись, поискал глазами, куда бы тряпье это сунуть (взгляд, само собой, шарил понизу), но она взяла бушлат своей сухонькой ручкой и, распрямив воротник, повесила на плечиках в стенной шкаф.
Всего шкафов было три – по числу семей. И три, стало быть, комнаты. К Лилии Анатольевне вела стеклянная разрисованная подсолнухами дверь, за которой кто-то возился, словно пытаясь выбраться, чтобы тоже приветствовать гостя. «Как ты ведешь себя?» – укоризненно сказала Лилия Анатольевна, а гость тем временем глазел на лаковые яркие лепестки подсолнухов.
Не они ли, эти праздничные подсолнухи, и ожили в памяти при виде одуванчиков, потянув за собой все остальное? Ну хорошо, не черной была собака – белой, именно она и возилась за дверью, а когда дверь, наконец, открыли, с ликованием бросилась к новому человеку, – не черной, а белой, но все-таки была собака, была, и девочка была тоже, дочь Юнна, тощая, плоскогрудая, в очках с сильными линзами, вечный подросток, да и сама Лилия Анатольевна походила своим сложением на подростка, так что внешний ассоциативный ряд проступал отчетливо. Но здесь, на лугу с желтыми одуванчиками, было, чувствовал он, не внешнее, не просто внешнее и уж тем более не просто воспоминание. Меланхолик по натуре, он любил предаваться воспоминаниям, он погружался в них с удовольствием и надолго, сейчас, однако, что-то в нем протестовало, ему не хотелось думать о Лилии Анатольевне, не хотелось сопоставлять и сравнивать.
Кого сравнивать? Кого и с кем? Ее с собою? Но что общего между тяжелым, неповоротливым, мнительным провинциалом, который пуще всего боялся показаться смешным, и легкой, с легкой усмешечкой (о, этот короткий звук!) столичной жительницей, так бесстрашно лелеющей свою индивидуальность! Даже говорила по-своему, немного растягивая слова, точно смаковала их – как смаковала каждый час, каждую минуту своего бытия.
А смаковать-то особенно было нечего… Набегавшись по Москве, восемнадцатилетний паломник спал на своей раскладушке как убитый, но иногда все же приоткрывал глаза и всякий раз видел склонившуюся над вязаньем голубую аккуратную головку. Кажется, так и сидела ночи напролет – от заказов на кофточки собственного ее фасона не было отбою, – а утром, сделав зарядку по системе йогов (пес внимательно наблюдал за стоящей на голове хозяйкой) и выпив душистого кофе, отправлялась в свой то ли геологический, то ли нефтяной институт, где отсиживала на кафедре положенные часы.
Не просто отсиживала, нет, не просто заполняла какие-то ведомости и вела какие-то журналы, но была, судя по рассказам ее, центром, душой, средоточием кафедральной жизни. И студенты, и профессора не могли якобы и дня прожить без ее советов, чему К-ов, в общем-то, склонен был верить: он и сам, заделавшись москвичом, частенько наведывался к ней со своими проблемами. Хотя, может быть, проблемы были только поводом удрать из постылого общежития и провести часок-другой в домашней обстановке. Ах, какой картошкой угощали его здесь – золотистой, ломкой, с соленой корочкой!
Лилия Анатольевна внимательно слушала гостя. У нее-то самой проблем не было – во всяком случае, никогда не говорила о них. Ни на что не жаловалась и ни о чем не жалела. Легко и молодо шагала по жизни – как девочка.
Дочь звала ее по имени: Лилей. В разговорах она обычно не участвовала, молча рисовала себе что-нибудь, а на бледном большелобом лице блуждала вокруг пунцовых губ улыбка.
Кто был ее отец? Художник – вот все, что знал К-ов, хороший художник и хороший человек, так аттестовала его бывшая жена. «Но мы, к сожалению, не смогли ужиться. – Прикусила уголок губы острыми зубками и прибавила, опустив глаза: – Хорошие люди часто не уживаются, так ведь?»
Больше не говорили на эту тему. Вообще не любила вспоминать: вся здесь была, в сегодняшнем дне – прошлое интересовало ее мало. О Средней Азии завел как-то речь беллетрист, о городке, где началась его жизнь и где русская девушка разъезжала на ослике в лимонного цвета брюках, но хозяйка лишь издала свой негромкий звук. «Лимонного?.. Надо же, а я не помню». – И больше ни слова.
Иногда его приглашали в воскресенье на обед, после которого мать усаживалась за свое вязанье, а дочь с гостем отправлялись выгуливать собаку. Однажды Юнна захватила этюдник. Разложив его, присела на скамейку, он же с газетой устроился напротив. Пес обнюхивал местность – белый хвост мелькал там и сям меж кряжистых стволов. Сквозь густые кроны пробивались кое-где лучи солнца, пели птицы, и шумела листва – как и теперь, было лето, но одуванчики не попадались на глаза – нет, не попадались! – зато хорошо видел в обрамлении черных распущенных волос незнакомое лицо. Красивое… Очень красивое! – он, слепец, и не замечал прежде. И вот лицо это вдруг поворачивается к нему – завороженный, он не успевает отдернуть взгляда, – и они мгновенье или два смотрят в глаза друг другу.
К-ов заволновался. Он точно помнит, как заволновался тогда, а может быть, даже почувствовал нечто вроде страха – не с тех ли пор и стал бывать в комнате с подсолнухами все реже и реже? И по два, и по три месяца не казал носу, но – удивительное дело! – его не упрекали тут, не допытывались, куда это он пропал, а лишь поглядывали с усмешливой пытливостью и все понимали.
Все понимали, все… На ноги, понимали, встает человек, врастает в столичную круговерть, обживается… Обкатывается – вот-вот, обкатывается! – как обкатывается камушек в прибойной волне, делаясь не отличимым от сотен и тысяч ему подобных.
«А куда делась твоя курточка?» – спросила раз Лилия Анатольевна. Без всякой иронии, ласково и немного грустно – прибарахлившийся провинциал, на которого теперь не таращили глаза, когда являлся в присутственное место, слегка даже растерялся. «Курточка? – не понял. – Какая курточка?»
«Та, – ответили ему, – в которой ты был, когда, помнишь, первый раз в Москву приехал… Мне она очень понравилась».
Бушлат… Бушлат понравился! Кажется, то был единственный случай, когда она заговорила о прошлом, и бедняга К-ов, точно пойманный с поличным, залепетал что-то, оправдываясь. Не в чем было оправдываться – решительно не в чем! – но он все-таки оправдывался, бывать же у матери с дочкой стал с тех пор еще реже. А потом и вовсе прекратил – растворился в московской толчее, исчез; лишь по праздникам давал о себе знать то телефонным звонком, то открыткой, но скоро оборвалась и эта ниточка. Исчез, растворился – подобно бушлату, что так, оказывается, полюбился взыскательной рукодельнице.
Куда, в самом деле, подевалось наследие одноногого пирата? Никогда прежде не думал об этом, но сейчас, глядя из своего лиственного укрытия на девочку в сарафане, которая закончила, наконец, стрижку и теперь убирала ножницы, а полегчавшая собака носилась черным вихрем в желтом спокойном море, – сейчас почему-то задал себе этот вопрос.
Ответа, разумеется, не было, какой ответ! Сгинул полушубок Сильвера, сгнил, распался, разве что какая-нибудь пуговка-долгожительница все еще странствует по свету, пришитая к потрепанному пальто или перелицованному детскому плащику. Странствует и – кто знает! – быть может, где-нибудь да встретится ненароком с сотворенной руками Лилии Анатольевны шерстяной, необыкновенного фасона, кофточкой.
Они-то встретятся, а вот К-ов Лилии Анатольевны не видел давно. Ни Лилии Анатольевны, ни дочери ее Юнны, которая, знал он, вышла было замуж, да неудачно… А может, и удачно, может, и хороший попался человек, но хорошие люди, помнил он, уживаются не всегда. Чаще даже – не уживаются… Лет десять, наверное, не видел К-ов матери с дочкой, больше, чем десять, если не считать, что однажды узрел Лилию Анатольевну на телевизионном экране. То ли митинг показывали, то ли демонстрацию, и вдруг – женщина с вдохновенным мальчишеским лицом и голубыми волосами. Резко выделялась в безликой толпе и не боялась этого, не пряталась; оператор долго удерживал ее в кадре – колоритная особа! – а К-ов так весь и подался вперед.
Но может быть, он ошибся. Может, то была не она… Но там хотя бы сходство было, а здесь-то, на лугу, – ничего общего. Девочка в сарафане (ни Юнны, ни матери он в сарафане, насколько помнит, не видывал), черный, а не белый пес и россыпь желтых одуванчиков. При чем же тут Лилия Анатольевна? При чем тут художница Юнна и ее бледная красота? Надо бы, конечно, позвонить им, надо бы написать, а может, даже и съездить, но он понимал, унылый реалист, что не позвонит и не напишет. А еще понимал, еще предчувствовал с тревогой, что картина, которую он видит сейчас (девочка села на велосипед и поехала, давя одуванчики, а пес впереди мчался, длинно подпрыгивая в высокой траве, будто плыл по волнам), – картина эта, предчувствовал он, навсегда отпечатается в его смятенном сознании. Но тогда еще он не знал, печальный реалист, что отпечатается с небольшим добавлением.
Мужская, почти растворившаяся в листве фигурка на невысоком холме – вот это добавление. Но раз так, раз он тоже здесь, на живом полотне, – собственной персоной, то кто в таком случае видит все это? Кто, зоркоглазый, смотрит сверху и запечатлевает все? Уж не бледнолицая ли девочка в очках, мастерица по части картин и этюдов?
Катафалк «Победа», год выпуска 49-йТо ли в море простыл, хотя вода для октября, для второй половины октября, была на редкость теплой, то ли ударила – наотмашь! – резкая смена климата: в Москве уже выпал снег, – но вдруг навалился кашель, глубокий, тяжелый, нехороший, сразу напомнивший о давнем, из послевоенного детства туберкулезе, что вот уже тридцать пять лет не давал о себе знать, но совсем не исчезал никогда, затаился коварной бомбочкой, которая, предупреждали врачи, могла в любой момент оглушительно и опасно взорваться. Мнительный К-ов прислушивался к себе, глядел в окно на серенькое небо и не верил, что всего неделю назад вышагивал по улицам в одной рубашке. Да, ровно неделю, день в день: был, как и сейчас, вторник, санаторский автобус, отмахав сто километров, подбросил к самому вокзалу, до поезда оставалось пять с лишним часов – больше, чем рассчитывал он, в автоматической камере хранения зияла, будто специально приготовили, пустая ячейка, возликовавший пассажир сунул вещи, захлопнул дверцу, но тут же вернулся и доложил в ячейку пиджак. Все! Он был свободен, как в детстве, легок и свободен, – закатывая на ходу рукава, вышел на привокзальную площадь.
Когда-то в центре ее стоял памятник Сталину – вспомнилось, как всем классом ездили сюда возлагать цветы. Теперь на этом месте толпились машины, шоферы рыскали в поисках выгодных пассажиров, один К-ова подстерег, спросил заговорщицки, куда ехать. «Никуда, – ответил он весело. – Приехал!»
На скамеечке под каштаном – каштан рос тут и прежде – старуха продавала украдкой пиво. Поколебавшись, он взял две бутылки, с одной тут же сорвал о скамью ребристую, пружинисто отскочившую нашлепку, опорожнил под сухое короткое щелканье падающих на асфальт каштановых ядрышек, другую сунул, втянув живот, за широкий ремень на джинсах и зашагал дальше – чуток, может быть, потяжелее, зато еще свободней, еще моложе, под безмятежным, как в детстве, южным солнцем. Куда направлялся он? Разумеется, в свой двор, куда же еще, но по пути сделал привал в скверике и не спеша расправился со второй бутылкой.
Улица, на которой они когда-то жили, вся перестраивалась: вместо одноэтажных, из камня-ракушечника домишек возводили громоздкие бетонные коробки, но до двора, слава богу, пока не добрались – все было во дворе, как прежде, вот разве что разрослись деревья, залили асфальтом пятачок, который казался некогда таким просторным, в «охотников и зайцев» играли, да исчезла голубятня. Зато «Победа» была на месте… Ах, как обрадовался он, увидев эту допотопную колымагу! Всегда стояла здесь, у высокого, на бетонной опоре электрического столба, прикованная к нему цепью с амбарным замком, – теперь, надо полагать, роль замка выполняло противоугонное устройство.
«Победа» эта уже фигурировала в сочинениях К-ова, давно вышедших, давно прочитанных и забытых, а она все держалась – не столько средство передвижения, сколько памятник тайным вожделениям дворовых мальчишек. Маленький К-ов тоже, конечно, мечтал прокатиться на чудо-автомобиле, первом во дворе и тогда единственном, но, кажется, мечтал об этом и сам хозяин, рябой Шашенцов, который все вечера напролет и все выходные ремонтировал машину, но хоть бы разок выехал со двора! К-ов, во всяком случае, такого не помнил.
По-хозяйски обошел он залитый солнцем, тихий и пустой двор. Впрочем, не такой уже пустой: вот прошлепала к колонке босая женщина с ведром, вот выскочил на крыльцо мальчуган с яблоком – выскочил и замер, уставившись на чужака, вот с любопытством замаячила в распахнутом окне чья-то круглая ряшка, – и все-таки… Все-таки – пустой, ибо все это были другие, новые люди, из другой, новой, не той жизни.
К-ов посмотрел на часы; до открытия пивбара, под который приспособили старый подвал, куда они лазили со спичками тайком от взрослых, оставалось пять минут. К воротам двинул, но, поддавшись искушению, свернул к «Победе». Подошел вплотную, внимательно осмотрел со всех сторон и даже коснулся, святотатец, пальцем. И вдруг почувствовал чей-то напряженный взгляд.
Медленно подняв голову, увидел в палисаднике среди неярких астр старика в майке. Седой, с резкими морщинами на смуглом лице, но ладный и крепкий, широкоплечий, он как бы изготовился к прыжку, и прыжок, надо полагать, вышел бы отменным. К-ов невольно поздоровался, давая понять тоном, что ни похищать машины, ни причинять ей вреда не собирается. А чтобы окончательно успокоить старика, в котором померещилось вдруг что-то знакомое, ввернул в качестве пароля Шашенцова – как, дескать, поживает владелец сего замечательного экспоната? «Владелец – я!» – отрывисто, с придыханием (и голос вроде бы знакомый) ответил человек в майке, явно уязвленный «экспонатом». «А Шашенцов? – не унимался новоявленный абориген. – Он ведь за ней, как за ребенком, ухаживал».
Старик молчал, вглядываясь в пришельца, но уже иначе, не агрессивно, не с готовностью прыжка, а с усилием памяти. Открыв калитку, медленно вышел, продолжая всматриваться, и чем ближе подходил, тем делался старше: запавший рот, дряхлая шея… Но одновременно как бы проступало из-под потрепанной оболочки и другое лицо, молодое. «Шашенцов помер… А вы?..» И сощурился, уже почти узнав (блеснули глаза), уже собираясь произнести имя, однако москвич опередил: «Дядя Митя?»
Да, это был дядя Митя, ас, король, шофер экстра-класса, – а иначе, рассуждали во дворе, кто б доверил ему «ЗИМ», машину правительственную (или почти правительственную), которую ввиду изношенности разжаловали в такси? «ЗИМ», однако, оставался «ЗИМом», и когда его длинное черное тело втягивалось бесшумно во двор, то даже взрослые приостанавливались и глазели – что же о мальчишках говорить! Оставив игры, летели сломя голову, но близко не подходили, на расстоянии держались, полные благоговения и восторга.
Король не удостаивал их взглядом. Легкой, быстрой походкой направлялся к дому, а ребятня, точно почетный караул, дежурила неотлучно до его возвращения…
Пятидесятилетний беллетрист, изнемогающий от кашля в московской промозглости, прикидывал и с изумлением находил, что дяде Мите было тогда меньше лет, нежели ему теперь, гораздо меньше, однако в сознании К-ова он оставался человеком, возраста которого ему, сочинителю книг, вряд ли достичь. Хотя в минувший вторник были на равных. Один весело пригласил испить пивка, другой, застигнутый врасплох, отказался было, но тут же, облизывая губы, спросил: а где? – и побежал натягивать рубашку. Так спешил, что не переодел даже домашних тапочек, возвращаться, однако, не стал, махнул отчаянно рукой.
В другой руке был газетный сверток. «Рыбка!» – шепнул, подмигивая. На равных, совершенно на равных, а уж после двух кружек (для начала по две взяли) сделались и вовсе приятелями, причем приятелями старинными. С упоением сыпал К-ов именами, которые, казалось ему, никто уж и не помнит, кроме него, но дядя Митя – вот чудо-то! – понимал его с полуслова. Многие, к радостному изумлению москвича, были живы, а он похоронил их, перевел в запасники памяти, и теперь они воскресали, причем воскресали не под беллетристическим пером, а в самой что ни на есть реальности.
Кое-кто, впрочем, умер по-настоящему – дяди-Митина жена, например, не дотянувшая пяти месяцев до золотой свадьбы. «Пяти месяцев!» – повторил старик запавшим ртом и будто стремительно отдалился вдруг, стал маленьким, как в перевернутом бинокле. Оторвал шмат газеты, вытер испачканные салакой руки, кружку взял.
Каждый глоток, видел сотрапезник, возвращает беглеца обратно; когда, шумно переведя дыхание, поставил опустошенную кружку, то оба снова здесь были, за мокрым, пахнущим рыбой и окурками тяжелым дубовым столом. К-ов тоже допил свою и пошел за пополнением, а вернувшись, спросил о Соловьевых, дочке и матери, что жили в тринадцатой квартире. «Они и сейчас живут», – удивился хозяин «Победы». Но еще больше удивился москвич, отлично помнивший, что Соловьевы тогда еще ждали новую квартиру и даже, к тайной его печали, упаковывали исподволь вещички… А к печали, потому что тихая, с ласковыми глазами Женечка Соловьева была объектом его мужского внимания. О чем, конечно, понятия не имела… «Вдвоем, – спросил, – живут-то?» – и сделал сосредоточенный глоток. «Мамаша в больнице», – произнес, тяжко вздохнув, дядя Митя. «Что-нибудь серьезное?» Похоронивший жену скривился, кивнул безнадежно и поднес ко рту кружку.
К-ов не стал выпытывать. Матери он почти не помнил, а вот Женечка стояла перед ним как живая. Покоем и радостью светилось ее кругленькое лицо, всегда готовое улыбнуться человеку. Он и теперь, в своей московской осени, в хвори и хандре своей, видел ее такой же, то есть видел прежнюю, давно не существующую Женечку, хотя не долее как неделю назад перед ним предстала собственной персоной Женечка нынешняя. Вернее, предстал он перед ней, явился в некогда священную для него тринадцатую квартиру – после то ли пяти, то ли шести кружек. Если не семи…
Дядя Митя не отставал. На глазах молодел с каждой кружечкой, так что были они теперь почти ровесниками. Корешами… А как не проводить кореша, как не доставить его с комфортом к поезду, благо автомобиль, хоть и сварганенный еще в 49-м, на полном ходу! «А ничего?» – деликатно осведомился столичный житель и показал глазами на батарею кружек. «Ничего! – выдохнул бывший таксист. – Мы Ефима за руль посадим. Он бы на своей подбросил, да вчера аккурат мост разобрали. Помнишь Ефима-то?»
К-ов сделал из уважения к сотрапезнику внимательное лицо, но только лицо, по-настоящему сосредоточиться было уже трудно. Да и что ему какой-то Ефим, вот Женечка – это да, Женечку он навестит непременно, но оказалось, что таинственный Ефим – не кто иной, как Ефим Викторович, а специалиста по зубам Ефима Викторовича он, разумеется, помнил. «Так вы ж врагами были!»
Дядя Митя выколупал из газеты последнюю салаку. «Были… А теперь на кладбище вместе ездим. Он ведь тоже похоронил свою…» И по-братски разорвал салаку надвое.
Во двор явились часа за полтора до поезда, меньше, чем за полтора, но пока бывшие враги готовились к выезду (решив после вокзала махнуть на кладбище), разгулявшийся паломник нанес визит в тринадцатую квартиру.
Женечка не узнала его, как, впрочем, и он Женечку: маленькая, с проседью в простоволосой голове толстушка, совсем незнакомая – и голос другой, и походка, вот разве что усталые глаза смотрели по-прежнему ласково, – но узнал, как ни странно, комнату, в которой был-то всего один-единственный раз, минуло же с тех пор лет тридцать.
Как и тридцать лет назад, пылились на шкафу связки журналов, в углу стояли друг на дружке перевязанные крест-накрест картонные коробки, а на широком, с облупившейся краской подоконнике белела рядом с корявым столетником пирамида тарелок. «Квартиру ждем», – сказала, оправдываясь за беспорядок, Женечка. Сокрушалась, что угостить нечем, успела лишь маме приготовить в больницу, вот яблоки – выложила парочку на заляпанный чем-то белым стол, кушай, сказала, вкусные, но тут длинно, требовательно засигналили во дворе, и гость торопливо поднялся. «Это меня… Дядя Митя».
Женечка встрепенулась. «Вы на машине? Тогда, может быть… Больница у вокзала как раз…» «О чем речь!» – сказал он, и она, обрадованная, благодарная судьбе – как же повезло ей! – сунула в целлофановый пакет яблоки со стола (те самые, вкусные!), переобулась, быстро и мелкими старушечьими шажками выбежала следом за ним из дома.
За рулем сидел степенный, при галстучке, Ефим Викторович, дядя Митя, в белой рубашке, – рядом, а на заднем сиденье, лежали цветы, розовые и бордовые астры, только что срезанные, – их острый запах, еще хранящий тепло сухой, нагретой последним солнцем земли, прямо-таки ударил в нос. Даже теперь, спустя неделю, различал его К-ов из осенней своей хмари, из удушливого кашля и тоски, но это теперь, а тогда не принюхивался. До кладбищенских ли цветов хмельному счастливому человеку, вдохновенно прозревшему вдруг, что рано или поздно все на свете сбывается! В заветной «Победе» едет он, седой старик, обернувшись, беседует с ним как с равным, и старик этот – подумать только! – сам дядя Митя, а рядом… Рядом – та, о которой он когда-то грезил.
Что-то вдруг, свалившись сверху, звякнуло о капот. К-ов вздрогнул от неожиданности, всполошился хозяин машины, но зоркоглазый мудрец Ефим Викторович успокоил их. Ничего страшного, просто упал каштан.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































