Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
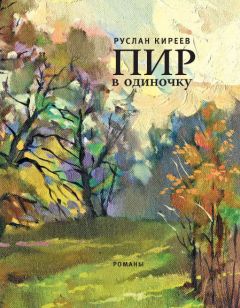
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
Самое поразительное (и обидное!) заключалось в том, что он ни в чем ведь не зависел от Шнуркача. Ни в чем! Да и настолько далеки были друг от друга, настолько в разных обитали мирах, что референт по строительным делам Григорий Глебович не мог, даже если б очень захотел, ни повредить сочинителю книг, ни помочь ему. Разве что подбросить по пути в черной, с белыми занавесочками «Волге», что и сделал однажды.
То не была персональная его машина, таковая референту не полагалась, тем не менее разъезжал часто и держал себя как хозяин. «Прошу!» – сказал, распахивая дверцу.
Бесшумный, чистый, стерильный какой-то автомобиль показался К-ову и длиннее, и шире обычной «Волги», таксистской, например. Нехорошо, неуютно чувствовал себя здесь, хотя и сидел вольно, и болтал раскованно. Но как-то очень уж ощущал эту свою раскованность. Очень уж помнил – и даже вроде бы подчеркивал, – что они старые, со студенческих лет, приятели. Ехали недолго, минут пятнадцать или двадцать, но он устал – от внутреннего устал напряжения – и, выйдя на квартал раньше, поклялся, что больше Шнуркач не заманит его в свой лимузин. Да и сейчас-то не собирался садиться. Однако ж сел! Необъяснимую, мистическую какую-то власть имел над ним выходец из подмосковной деревни Подушкино…
С незапамятных пор держали в Подушкино кур, растили картошку и малину, ходили к колодцу за водой и вдруг в один прекрасный день обнаружили себя москвичами. Гриша тогда учился в школе. Московской – своей не было. Подушки – так дразнили их столичные воображалы, но маленький Григорий (маленький не только годами – ростом тоже) ощущал в себе нечто прямое и твердое. Он знал, что еще покажет им. Что настанет час, когда о нем будут говорить с восторженным удивлением: «Не тот ли это Шнуркач?» – «Тот, – раздастся в ответ. – Из Подушкино». И когда, выйдя однажды утром за ветхую изгородь, услышал впервые новость – бабы обсуждали ее, поставив ведра, когда осознал, что с нынешнего дня он тоже москвич, то твердое стало в нем еще тверже, а прямое – прямее. Он сжал губы, глаза раскосились вдохновенно, а налетевший со свалки ветер (неподалеку свалка была, куда чуть ли не со всей Москвы свозили всякую дрянь) – налетевший ветер обдал вонью.
В следующий миг опытный Гриша дышал уже не носом, а ртом. И враз посвежел ветер, и не был больше посланцем отбросов – дитем воли стал, лугов и темнеющего вдали леса. Весело трепал темные Гришины волосы, длинные, как ни у кого в классе. «Постричь!» – писали в дневнике учителя, но читать эти грозные приказы было некому. Об отце своем Григорий Глебович понятия не имел – то ли был отец, то ли не был, а мать, редко в какие минуты трезвая, не подозревала, что существуют на свете какие-то дневники.
К-ов впервые увидел ее на Гришиной свадьбе. В дальнем углу сидела, напряженная и смирная, как провинившийся ребенок, и такая же, как ребенок, маленькая, – сын в нее пошел. Если кто обращался к ней, торопливо и угодливо отвечала, смеялась беззубым ртом, а когда приближалась бутылка, испуганно вскидывала руки. Не пью… Сын вроде бы не обращал на мамашу внимания, но стоило той, будто по рассеянности, взять бокал с шампанским, ужалил быстрым взглядом.
Вздрогнув, поставила бокал на место. Захихикала, закивала, схватила стакан с минералкой. «Вы позволите?» – спросил Боря Тинишин, держа наготове тарелку с рыбой. Ни за одной женщиной не ухаживал, отмалчивался, бирюк бирюком, а тут, как бы назло Шнуркачу, был предупредителен и галантен. Старуха суетливо благодарила.
Рядом дочь сидела, шестнадцатилетняя коротышка, почти карлица, с кукольным личиком, безукоризненно правильным и неживым; сидела неподвижно и прямо – усвоила, гордячка, выправку братца – и хоть бы словом перебросилась за весь вечер с матерью! Та: а салатика? а колбаски? – но детдомовская девочка (четыре года на казенных харчах жила) ни звука в ответ.
Четыре года… Обзаведясь паспортом, брат тут же на работу устроился – то ли курьером, то ли нянечкой в больницу – и сразу забрал сестренку. А мать предупредил: «Напьешься – выпорю!» И отстегал-таки раз, предварительно выпроводив малышку, но она залезла на яблоню и видела в окно, как взлетает ремень в руке брата.
Яблоня эта сохранилась. Шнуркач отыскал ее, приехав на место бывшей деревни, название которой красовалось теперь на автобусной остановке. Не специально приехал – просто оказались поблизости, уже под конец рабочего дня, и он без особого волнения бросил водителю: «Подбрось-ка в Подушкино!»
Вокруг устремлялись в небо многоэтажные коробки, уже пооблезшие, с замазанными белыми щелями, деревья, когда-то воткнутые в землю тоненькими саженцами, доставали до второго и третьего этажа (на его глазах втыкали; стройка кипела вовсю, а домишко их все держался) – начисто, казалось, стерли с лица земли деревню Подушкино, лишь остановочный знак, будто знак кладбищенский, извещал, что некогда существовала такая, но побродив, но поосмотревшись, Григорий Глебович обнаружил у трансформаторной будки одичавшую малину – ее-то уж новоселы не сажали здесь, обнаружил израненный ствол полузасохшей сливы, а обойдя бойлерную, увидел и узнал свою яблоню.
Задрав голову, медленно обвел взглядом старое дерево. Среди трепещущих листьев желтел небольшой плод. Уцелел-таки! Спрятался – будто специально для хозяина… «Не тот ли это Шнуркач?» – «Тот. Из Подушкино. Была, помните, такая деревня?»
С каким нетерпением ждал он, когда придут на их, теперь уже московскую, территорию бульдозеры и подъемные краны! Как вожделенно смотрел, бывая в Москве (теперь уже в их Москве), на строительные площадки! Не тогда ли и решил про себя: пойду в строительный, чему впоследствии и сам удивлялся.
Еще больше удивлялся Петр Дудко. «Ну какой, к черту, ты строитель! Строитель – мужик по натуре, а ты…» – «А я?» – спрашивал Шнуркач, и щека его слегка дергалась.
Петр ласково смотрел на него голубыми глазами, потом переводил взгляд на Тинишина. Тот нехорошо надувался под боксерской грушей, что висела посреди комнаты. Чувствовал: пахнет матом, а мата Боря Тинишин терпеть не мог. Пустив смешок, Петя ударял по струнам.
Но раз Григорий Глебович вынудил-таки ответить. Протянув руку, крепко за гитару взялся. «Нет, ты уж скажи, кто я».
Дудко с веселым любопытством глянул на сжимающие гриф короткие пальцы. Сложив губы трубочкой, некоторое время сидел, размышляя. (Тинишин сопел и ворочался, но Дудко делал вид, что не замечает предупреждающей возни хозяина.) «Хочешь знать, кто ты?» – «Хочу».
Петр протяжно втянул носом воздух, улыбнулся простодушно и сказал: «Князь».
Стало еще тише, даже бдительный Боря Тинишин перестал ворочаться и сопеть. Шнуркач не убирал руку, думал, вместе с ним думали и мы все, а потом все одновременно поняли, как изумительно точно окрестил красавец Петр недомерка Григория.
Познакомились они в институтском вестибюле. Низкорослый косящий слегка малый, его примерно ровесник, подошел и осведомился, не желает ли товарищ зашибить деньжат. Петр тут же принялся засучивать рукава. «Что надо делать?» Ничего особенного, был ответ, всего-навсего сварганить курсовой, плата согласно прейскуранту. «Два выходных – ив кармане месячная стипендия».
Петр, хлопец дотошный, в саперных войсках служил, весело глянул на работодателя, потер щеку ладошкой и осведомился, почему два. Вдруг не успеет за два, вдруг пять потребуется?
«Два, – тихо возразил неизвестный. Тихо и твердо. – Два дня». И сразу ясно стало (Дудко во всяком случае понял), что этот не бросает слов на истер. Раз говорит что-то, то не с кондачка. Все изучил, выверил все и вовсе не к случайному подошел человеку, как могло показаться на первый взгляд. «А не боишься, – пощупал специалист по минам, – что заложу?» И мгновенно получил бесстрашный ответ: «Не боюсь». Бесстрашный, потому что, по существу, это было признание, что не кому-то третьему надо ни чертить и рассчитать курсовой, не чужому дяде, а лично ему, человеку деловому и занятому, обремененному к тому же семьей. (Сестренку воспитывал. Кормил и одевал, проверял уроки и был даже членом родительского комитета, единственный папаша среди дюжины мам.)
Отвага юного прохиндея пришлась по душе саперу. «Как зовут-то тебя? – спросил душевно. – Ты ведь, небось, знаешь меня?» – «Знаю, – признался тот, подумав. – Я про тебя все знаю. – И, еще подумав, протянул руку: – Григорий».
Спустя несколько дней Петр привел нового знакомого в именуемую арбитражем тинишинскую цитадель. Что-то в се-таки он начертил подушкинцу, лист или два, но деньги взять отказался. «Да ты что, парень!» Даже смешно стало, заржал и хлопнул Шнуркача по плечу, но тот, даром что маленький, хоть бы шелохнулся под натренированной рукой волейболиста-разрядника. Только глаза раскосились и заиграли желваки.
Петя, как ни весел был, неудовольствие Григория заметил. «Да ты что, парень!» – повторил, теперь уже удивленно. «Ничего, – произнес референт. (Референтом в то время он уже был.) – Просто мне неприятно». И не стал разжевывать, что именно неприятно ему. Бесцеремонность ли, с какой саданули вдруг (не любил панибратства), отказ ли сапера взять деньги, по праву ему принадлежащие. И, следовательно, уже не принадлежащие Григорию Глебовичу, который на чужое не зарился никогда. Петр шумно перевел дух. «Черт с тобой! Пошли вмажем… Или не пьешь?» – вдруг заподозрил он и даже испугался слегка, но сын алкоголички, подумав, успокоил студента: «Пью. Но мало».
Через час были в арбитраже. Вдвоем вошли, но вдвоем, если о Дудко говорить, он-то уж явно не один был, с новичком, которого и представил торжественно, а вот новичок как-то сам по себе смотрелся, отдельно – волейболист, который был на полторы головы выше его, словно ненадолго – исчез куда-то.
Гость огляделся. (Все остальные были сейчас хозяева.) Все остальные были хозяева, но Шнуркач сразу главного угадал, Тинишина, не спутав его ни с Магаряном, к примеру, ни с К-овым, ни с ясноглазым Лешей по имени Константин. «Занимаетесь?» – кивнул на грушу. Но пнуть не пнул, как все другие, входящие в этот дом, и впоследствии тоже не соблазнился ни разу. «Иногда», – ответил Тинишин, невольно подымаясь навстречу гостю.
Этого он не простит себе никогда. Слишком торопливо поднялся (такое, во всяком случае, осталось впечатление). Слишком приветливо. Хотя кто-кто, а уж он-то приветливостью не отличался… Слишком угодливо – вот даже какое убийственное словцо шевельнулось в самолюбивой тинишинской голове, но это уже позже, когда Шнуркач мало-помалу обрел власть над арбитражем. Не только над К-овым – над всем арбитражем, за исключением, может быть, Пети Дудко. Петя еще некоторое время сопротивлялся.
Когда Шнуркач, самый деловой, самый занятый, самый, казалось, индифферентный относительно прекрасного пола, с головой погруженный в державные проблемы, – когда референт Григорий Глебович явился, никого не предупредив, с подругой («Валентина», – представил лаконично), то изумились все, но не подали, воспитанные люди, виду, и только весельчак Дудко не скрыл ни удивления своего, ни воодушевления. «Здравствуйте, – пропел, – Валечка!»
Гостья засмущалась. «Здравствуйте», – ответила и вопросительно глянула на своего господина. Все молчали. Тинишин, сопя, отодвинулся вглубь тахты, кривой магаряновский нос покривел еще больше, а К-ов, в руке которого торчал хвост жареной кильки, незаметно сунул его под тарелку. Один только сапер цвел и радовался. «Меня Петр зовут, – сообщил громко. – Разрешите за вами поухаживать?»
Шнуркач играл желваками, но терпел, хотя глаза нет-нет да раскашивались грозно. «Ревнует, – засмеялся Петр. – А? Ревнует ведь!»
Бугристое лицо пошло пятнами. Встал – маленький, напрягшийся весь, властно на дверь кивнул. «Пошли!»
Дудко захохотал. То был, сообразил впоследствии К-ов, один из первых бунтов против набирающего силу референта. А что Шнуркач? Шнуркач – ничего. По-прежнему ценил и опекал Петра – вот именно, опекал («Люблю, – говорил, – талантливых людей»), – а тот, неблагодарный, позволял себе разные вольности. Но границу не переходил. Стоило Григорию Глебовичу задышать учащенно, что было первым признаком гнева, как Петя вскидывал руки. «Сдаюсь, князь! Сдаюсь… Изволь не казнить, но миловать». Было, однако, в этом шутовстве что-то несвободное, особенно – в оскале длинных, желтых, потравленных табаком зубов, которые с годами становились и длиннее и желтее.
Шнуркач хмурился, но уже больше для порядку – отходил. Сколько разного народу вилось вокруг, сколько людей донималось дружбы его или хотя бы участия, и с одними сходился, других на расстоянии держал, третьих то приближал, то удалял, то вновь милостиво возвращал обратно, но по-настоящему привязан был лишь к арбитражу. Не к комнате на Садовом – что ему чужая эта комната, если от родного Подушкина отрекся! – а к тем, кто собирался там по вечерам.
Все в конце концов обзавелись квартирами, все новоселья справили, К-ов в том числе. Шнуркача, правда, не торопился звать, тянул, надеясь, быть может, что не застанет в последний момент государственного человека или тот, по минутам расписывающий время, не сумеет так сразу выкроить вечер, но Григорий Глебович не посчитал зазорным для себя самолично набрать номер. «В субботу, – произнес, – собираемся?»
К-ова в жар бросило. «Так точно, князь! Надеюсь, почтите своим присутствием?»
Шнуркач почтил. Скромно держался, просто, но в цепком профессиональном взгляде, каким он, строитель, что ни говори (интересно, начертил ли собственной рукой хоть что-нибудь?), – в быстром взгляде угадывался не только референт по строительным делам, но и недавний новосел, великодушно-снисходительный к типовым клетушкам для простых смертных. «Хорошая квартирка… Хорошая. Поздравляю!»
Хозяин учтиво поблагодарил, и это, пожалуй, было единственное доброе слово, что перепало за весь вечер бывшему подушкинцу. Не опекал, как других, не требовал отведать того или иного блюда, но Григорий Глебович не обиделся. Как ни в чем не бывало позвонил на следующий день. «Если не ошибаюсь, тебе холодильник нужен?» – «Нет-нет, – всполошился беллетрист. – Уже есть». – «Есть?» – строго удивился приметливый референт. «Ну не есть… Будет… Мне обещали. – Хотя никто ничего не обещал. – Спасибо, Гриша!» – поблагодарил горячо. «О чем ты! – покривился Шнуркач. (К-ов увидел, как он покривился.) – А ванна? Не думаешь облицовывать?» – «Так ведь облицовано!»
Шнуркач выразительно покряхтел на том конце провода и ничего не сказал, через месяц же осведомился: как там плитка в ванной? Не полетела еще?
Все в голове держал! Телефоны, номера кабинетов, время деловых (и неделовых – никогда не опаздывал) встреч, имена секретарш и даже имена их детей, и чем дети болеют, и как учатся, и куда поступают, и каков там проходной балл. Что уж говорить о непосредственном начальнике его Александрове – про этого не только референт, про этого весь арбитраж ведал буквально все. И что у него сын-хирург. И что внук на скрипке играет. И что в доме – мебельный гарнитур «Черногория», а жена сидит по субботам на яблочной диете. Ничего вроде бы не рассказывал Гриша – не любил поминать всуе высокие имена, – а все откуда-то знали и о скрипичных успехах александровского внука, и о сорте яблок, который предпочитает супруга… Так язвительно и вместе с тем восхищенно препарировал Петя Дудко Григория Глебовича, в подмосковный санаторий к которому ехали на электричке в полном – разве что без Леши – арбитражном составе.
День был осенний – то ли сентябрь, то ли начало октября, – но теплый и ясный. Сияло солнце, золотился неподвижно поредевший лес. Глянув в окно, Дудко смолк вдруг, замер, забыл о Шнуркаче. «Братцы! – произнес ошалело. – Братцы…» И, не найдя слов, махнул рукой, открыл «дипломат» и торжественно извлек четвертинку.
Тинишин пить отказался. К окну отвернулся, весь красный, надувшийся, будто не они, а он глотал водку, когда же Петр, похрустев яблоком, вновь за князя взялся, с пыхтением встал: «Ты ему это скажи. Ему!»
Дудко опустил бутылку на сверкающую деревянную скамью. «Вот ты и скажи», – посоветовал, улыбаясь.
В разгневанном взоре Тинишина мелькнуло то ли удивление (как самому-то в голову не пришло!), то ли сомнение. Тяжелой ровной поступью двинулся по вагону.
Остальные пировать продолжали. Без него… И то, что без него, что он томился где-то в тамбуре, один, сплачивало и приободряло их. Знали: они нехороши сейчас, но они были одинаково нехороши, они были вместе нехороши… Дудко негромко затянул песню.
Санаторий располагался в сосновом бору. Вахтер не сразу пустил, все выспрашивал, да прикидывал, да ощупывал взглядом, особенно – бунтаря Тинишина, но пустил-таки, и они дисциплинированно двинулись по желтому, среди голубых елей, песочку.
К главному корпусу вышли, к широкой парадной лестнице, что увенчивалась белыми колоннами. Между ними, по-хозяйски улыбаясь, стоял в ожидании референт. В ожидании! А ведь не договаривались, что приедут. Сюрпризик готовили…
Проникновенно глядя в глаза, подал каждому маленькую вялую ручку, и каждый с чувством пожал ее. Кроме Тинишина… Не проронив ни слова, бывший хозяин арбитража повернулся и зашагал прочь.
К-ов встрепенулся, напрягся весь, что-то рванулось внутри вслед за удаляющимся строптивцем, но так и не сдвинулся с места, отяжелев… С тех пор часто вспоминалась беллетристу, бог весть отчего, покойная мать Шнуркача. В подушкинском доме сидит, на колченогой табуретке, с маленькой, стриженой, как у солдата-новобранца, головой. Она трогает ее ладошкой и удивленно хихикает: «Колется…»
Сын, не глядя, бросает на колени косынку. «Прикрой стыдобу! Дочь увидит…» Стало быть, сестра не в детдоме уже, забрал, и мать предупреждена, что будет выпорота, если напьется.
Не послушалась… Загуляла… А Москва иностранцами кишит, фестиваль – ну да, фестиваль! – поэтому женщин, которые ведут себя вольно, отлавливают и стригут. К-ов тогда в техникуме учился, за полторы тысячи километров от Москвы, но слухи доходили – к величайшему удовлетворению поборников нравственности. Поделом, дескать, гуленам! Поделом ветреницам! Вот и рисовали себе юные любители зрелищ, пусть хотя бы воображаемых, как устраивают дамочкам засады, как впихивают их, точно бродячих собак, в фургон (собачек – тех мы, впрочем, спасали: подцепившись на ходу, распахивали клетку); как связывают дамочкам руки и – машинкой, наголо, обдирая на голове кожу, ибо пленницы верещат и дергаются… Так резвились, так ублажали душу далеко от столицы малолетние адепты законности и порядка, среди них – и будущий художник слова, который конечно же знать не знал ни о веселой тетеньке из подмосковной деревни, ни о раскосом сынке ее. Он-то не знал, но Гриша, улыбаясь, уже поджидал его на гранитной, с колоннами, лестнице.
По жердочкам во тьме кромешнойПотом сообразил, что человек просто-напросто свернул куда-то – в подъезд ли, в арку (хотя вроде бы ни подъездов поблизости, ни арок), но все равно в голове сидело – и как отделаться от этого! – что шаги оборвались прямо посреди тротуара. Прошел еще немного и, делая вид, что окидывает взглядом улицу – нет ли автобуса? – небрежно повернулся. Автобуса, разумеется, не было, вообще никаких машин, фонари же – высокие, на бетонных опорах с гусиными шеями – горели через один.
Достал платок, громко высморкался. Давно не возвращался домой так поздно, не вспомнить, когда последний раз, но казалось, даже днем вслушивался незаметно для себя в такие же вот легкие, за спиной, шаги. Чьи? Уж не Ястребка ли, который и впрямь шел за ним однажды по темной поселковой улице, шел долго и вкрадчиво, останавливался, когда останавливался К-ов, и снова осторожно пускался в путь, пока К-ов его не окликнул. «Узнал!» – раздался довольный голос, в котором не было и тени удивления. Его да не узнать! По-прежнему верил, стало быть, в свою исключительность, в сугубую неповторимость свою, которая, полагал он, сказывалась и на походке тоже.
Ястребок ошибался. Не столько по походке узнал его бывший сокурсник, сколько по повадке. И в прежние, студенческие еще времена, времена надежд и полуночных трапез в арбитраже, любил наблюдать исподтишка за людьми; не раз ловил на себе К-ов проницательно-веселый взгляд, который Ястребцов, улыбаясь, не спешил отвести. Чуть виноватой, пожалуй, была эта лукавая улыбка, точно неловкость испытывал за чрезмерную свою прозорливость. За то, что видит такие вещи, которые аккуратный К-ов старается утаить. (Такие вещи действительно были.) Но, в свою очередь, и К-ов знал про Ястребка немало такого, что тот предпочитал держать при себе. Это у них еще на первом курсе началось, в сыром дощатом бараке с нарами, где новоиспеченные студенты жили бок о бок почти месяц. Спорили, резались в карты, читали по очереди Бабеля, которого только-только начали издавать, а когда прекращался дождь, выползали на вязкое картофельное поле. Чуть ли не каждый клубень руками выковыривали, плетеная корзина со сломанными прутьями наполнялась медленно, и грязи в ней, разумеется, было больше, чем картошки. Норму не выполняли. Все не выполняли, почти все, лишь Паша Ястребцов сделал однажды вдвое больше положенного. Сказал и сделал, и так, верил, будет во всем. «Я знаю, – горячился, стоя на нарах в плавках и красной маечке, из-под которой выбивались черные волосы, – я знаю, что напишу прекрасную книгу. И не одну!»
Другие тоже верили, что напишут, но у них хватало благоразумия не кричать об этом на весь барак.
Впоследствии К-ов уподобил сие дощатое сооружение походному лагерю, в котором расположились перед решающим штурмом юные честолюбцы. В семидесяти километрах от Москвы расположились они, и это тоже не было случайностью, ибо как раз Москву и собирались завоевывать. Ради этого и стягивались отовсюду, со всех концов страны, но стягивались разрозненно и объединяться не собирались. В одиночку надеялись покорить столицу. Ястребок бушевал, над ним посмеивались беззлобно (позже, прочитав повесть его, посмеиваться перестали), и тогда он, дабы доказать, какие все они рядом с ним пигмеи, предложил прямо сейчас, на ночь глядя, пойти в соседнюю деревню. «Зачем? – невинно полюбопытствовал кто-то. – Магазин-то закрыт».
Ястребцов, весь напружинившись, ждал, пока стихнет смех. Широкоскулое лицо выражало презрение. «Эх вы! Магазин! А без магазина?» Медленно обвел взглядом нары, но народ, поеживаясь, лишь укутывался поплотнее. Представляли, как мерзко там, как холодно и сыро.
И тут подал голос К-ов. «Я пойду», – сказал, откидывая одеяло, садясь и решительно натягивая штаны.
Никто не засмеялся (К-ов больше всего боялся, что засмеются), а Ястребцов, расставив волосатые ноги, кривые и мускулистые, зорко всматривался в него. Впервые…
Позже они много раз будут вспоминать эту минуту и докапываться, добираться, как до капустной кочерыжки (срывая лист за листом), до того сокровенного, что каждый из них подумал и почувствовал. «Ты ведь, – уличал Ястребок, – хотел доказать себе, что живешь не только рассудком. Так?»
К-ов не оправдывался. В том, что говорилось ему, была правда, но не вся, не вся правда, и чуткий Ястребцов угадывал это. «Знаешь, в чем наша беда, старик?»
На берегу подмосковного водоема сидели, одни (купальный сезон то ли кончился, то ли не начинался еще), без вина, трезвые. Солнце зашло, ветерок поднялся, густые волосы Паши Ястребцова, уже не темные, как прежде, но еще и не сплошь седые, слегка развевались. «Знаешь, в чем наша беда, старик? Не в том, что мы лицемеры, нет, хотя, конечно, и лицемеры тоже, а в том, что мы идеалисты. Лицемеры и идеалисты. Во всех нас сидит этакий дешевый романтизм».
Под руку К-ова попал кругляш, он размахнулся и запустил им, но кругляш, прошуршав, упал в осоку. Тогда он бросил еще один, уже посильнее, и еще, но оба не долетели до воды. Ястребцов весело глянул на него, а рука уже шарила по траве в поисках камня. Нашел, закусил губу и, коротко размахнувшись, метнул. Раздался всплеск. Победитель засмеялся, удовлетворенный, и в то же время с некоторым смущением. Любил выигрывать, любил первым быть – во всем, но, выиграв, как бы тушевался на миг. К-ов давно заметил это, когда еще обсуждали на семинаре первую повесть Ястребка, ту самую, «Маша, дочь Марии» называлась.
Для большинства триумф Ястребцова был неожиданностью, но К-ов, хоть и не читал прежде ни единой строчки приятеля, с ревнивым волнением (да, ревнивым! или завистливым?) ждал текста именно такой талантливости и такого напряжения. Ждал с той самой ночи, когда они, два зеленых первокурсника, шагнули из душного барака в слякоть и темноту.
Под лай собак топали целеустремленно среди спящих домов. Минули последний и здесь замешкались, будто соображая, куда теперь, на самом же деле каждый надеялся, что другой, образумившись, предложит вернуться. Это Ястребцов так сказал, хохотнув: каждый, – и К-ов не стал возражать, но ему-то как раз возвращаться не хотелось.
Путь лежал через ручей, скудный и вялый, в сухую погоду его просто перешагивали, но сейчас из-за дождей перебраться на другую сторону можно было лишь по брошенным поперек хлипким жердочкам. Только как отыскать их в такой темени? На небе, правда, нет-нет да прокалывались звезды, но их тут же опять затягивало, хотя облаков не видать было, и только когда высоко и бледно высветилась ненадолго луна, ожил их тайный бег. Углубились в мокрый перелесок, по которому и сочился невидимый сейчас, неслышный ручей. Кажется, взяли слишком влево. К-ов открыл было рот, чтобы сказать об этом, но не успел: спутник крепко сжал ему руку. Внимание, означало это. Не мешай…
Шумели поредевшие кроны, даже на слух сырые, грузно капли срывались, и все еще брехала далеко за спиной одинокая собака. Никаких иных звуков К-ов, не различал, но это К-ов, а Ястребцов непостижимым образом учуял не только пробирающуюся в размытом русле мутную воду, но и угадал препятствие, которое она вкрадчиво преодолевала. Властно потянул за собой и вывел прямо к жердочкам. Впрочем, К-ов, как ни напрягал зрение, не увидел их, лишь почувствовал боязливо-неуклюжей ногой скользкую поверхность.
Теплая сильная рука не просто влекла вперед, но и чуть приметными движениями направляла. К-ов только ногу подымал, а пальцы на запястье уже предупреждающе сжимались: не туда! Подобно слепцу растерянно двигал он зависшею ступнею, пока не улавливал поощряющий сигнал: вот теперь так, смелее! Благодаря Ястребцову, чьи широкие ноздри по-звериному раздувались в темноте, незрячий спутник его стал такой же частицей необъятного (и неделимого) целого, как хлестнувшая по щеке мокрая ветка, как луна, вновь пробившаяся сквозь тучи, как запах гнилой картошки или шалый – ночь только начиналась – крик петуха. Ястребцов включил его в это целое, вписал – точно в собственный текст, причем вписал не в качестве главного героя, а так, эпизодического лица.
Признаться, это уязвило К-ова. В его-то как раз пространстве Ястребцов занимал место отнюдь не периферийное, особенно после этой промозглой ночи. Колдуном и ясновидцем обернулся кривоногий бахвал, непостижимо различающий
И горний ангелов полет
И гад морских подводный ход…
Как же, ошеломленно думал К-ов, должен писать этот человек! Повесть про Марию с Машенькой произвела сенсацию в институте. Обе героини – мать и дочь – были как живые, и то, что младшая, по недосмотру явившаяся на свет от неведомого отца, пойдет по стопам старшей, уже истасканной, уже брезгливо отвергаемой мужчинами, определялось не авторской волей, а всем током воссозданной им страшной жизни.
Шансов на публикацию не было ни малейших. Понимал ли это автор? Еще как понимал и тем не менее упорно таскал рукопись по журналам. Зачем? Только ли затем, чтобы в очередной раз услышать, как это талантливо и смело? Или, может быть, на чудо надеялся?
Чуда, увы, не произошло. А второй повести, о которой говорил с упоением в течение многих лет, так и не появилось. Очерки да статьи писал, кочуя, неуживчивый мэтр, из одной редакции в другую.
К-ов исправно дарил ему свои книги, Ястребцов с загадочной улыбкой пробегал надпись, при этом держа книгу все дальше и дальше от глаз, а вот читал ли сами творения – неизвестно.
Встречались в основном в арбитраже, куда К-ов привел его еще студентом, но представил не как студента, а как мэтра, как восходящую литературную звезду. Эта щедрая аттестация произвела впечатление лишь на доверчивого Лешу (по имени Константин). Остальные смотрели на новоприбывшего с настороженностью. Тинишин сопел, Шнуркач многозначительно покашливал, Сеня Магарян трогал двумя пальцами свой кривой нос, словно надеялся выправить его, а Петя Дудко, придержав струны, осведомился невинным голосом, на какую, дескать, тему изволит писать мастер. Невзлюбил Ястребка – с первого взгляда, и тот платил ему тем же. «Как там, – спрашивал, – мудрый наш подберезовичек?» К одному Сене Магаряну относился с нежностью и, между прочим, предсказал, задолго до несчастья (потом, когда несчастье случилось, К-ов предсказание это вспомнил), что нехорошее что-то – очень нехорошее! – ждет трагического человека Сеню…
Последние годы виделись редко, месяцами, случалось, не перебрасывались даже словечком, но все равно К-ов мгновенно узнавал в телефонной трубке глухой насмешливый голос…
Голос! Шаги, и те узнал, что возникли за спиной и некоторое время явно преследовали его, не приближаясь, впрочем, когда же нагруженный продуктами дачник остановился, чтобы якобы поправить сумку, они остановились тоже. Тут-то и догадался, кто это, – не столько, может быть, по походке, сколько по повадке. Поверил, однако, не сразу. Откуда взяться Ястребцову в этом подмосковном поселке! К-ов, например, даже не слышал о нем в прежние времена, случайно попал и сразу покорен был южным каким-то колоритом. Черепичные крыши… Вьюн на беленых стенах… И даже акация – белая, цветет… Не поверив глазам, сорвал гроздь, долго вдыхал знакомый с детства аромат. А у станции – желтые, двухэтажные, пятидесятых годов дома в зелени, с балкончиками и колоннами. При виде их сжималось сердце…
Так всегда было. Причем – вот парадокс! – какой-нибудь задрипанный тупичок, какой-нибудь московский закоулок, вдруг смутно напомнивший – крыльцом ли, козырьком ли над парадным – родной город, волновал сильнее, нежели сам город, когда приезжал в него. (А ездил на родину часто.) Вначале К-ов объяснял это своим изуродованным восприятием, но вскоре уверовал – не без помощи Ястребцова, – что процесс вытеснения, замещения подлинного суррогатом – не только игра (или недуг) его деформированного сознания, а нечто, существующее вне его, и он, литератор К-ов, странным, унижающим его образом в процесс этот вовлечен. Унижающим, поскольку чувствовал себя не объектом вытеснения, а тем как раз человеком, который заполнил собой образовавшийся вакуум. Удивился ли он, встретив Ястребка в подмосковной глухомани, да еще в столь поздний час? Нет. То есть удивился, конечно, но не очень. «Ты как здесь?» И тотчас жарко ударило в голову: из самой Москвы, небось, ехали вместе! К-ова не то что испугало это, но неприятно было, хотя, спрашивается, ему-то что! Ну вместе и вместе… Ну следил откуда-либо – из тамбура, например, – как читал газетку, как дремал, как, уже подъезжая, перекладывал из одной сумки в другую целлофановые пакеты. Что еще? Ничего… Но все равно было ощущение, что остроглазый наблюдатель углядел нечто такое, что для постороннего взора ни в коем случае не предназначалось. На столбе лампочка загорелась. Не фонарь – лампочка, под тарелкой: еще один осколок провинциального детства. При желтом свете ее К-ов не столько различил, сколько угадал проницательно-лукавую улыбку на бородатом лице. «Ты с электрички?» – спросил, не удержавшись.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































