Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
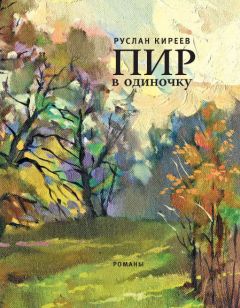
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
Если ехать от курортного городишка Кушадасы в сторону величественного и мертвого, еще не до конца раскопанного Эфеса, то слева от шоссе, на обочине которого безнадзорно желтеют бутыли и банки с медом (безнадзорно, потому что продавцов не видать, однако стоит машине остановиться, как они тут как тут), – слева от шоссе высится за чинарами сложенная из гигантских, цилиндрической формы камней буровато-серая колонна. Это памятник Герострату. Так, во всяком случае, окрестил его Коленька Свинцов. Тому самому Герострату, что, желая якобы увековечить свое имя, спалил храм Артемиды, одно из семи чудес света.
Слово якобы также принадлежит Свинцову. Коли, рассуждал он, построечка, которую возводили три поколения архитекторов, а потому о какой гармонии может идти речь, тем не менее вошла в историю как шедевр зодчества, то заслуга в том не столько архитекторов, сколько эфесского подвижника Герострата. Именно он придал храму черты высшей соразмерности. Сущее – дом ли, книга ли, человек – никогда не бывает безупречным. Оно становится таковым, лишь когда исчезает с лица земли. В этом смысле всякая гибель созидательна. Чтобы достичь совершенства, надо умереть. Одним словом, рассыпавшаяся на части, но после благоговейно собранная колонна – единственное, что сохранилось от «чуда», – может по праву называться памятником человеку, который завоевал привилегию остаться в сознании потомков. И он, Коленька Свинцов, желал бы памятник этот посмотреть. «Так видели же! – удивлялся гид, – когда проезжали». – «Я хочу вблизи посмотреть», – настаивал капризный турист, и группа вздыхала тяжко, но спорить не спорила. Бесполезно… Как облупленного знали Коленьку: он был такой же достопримечательностью института, как, скажем, Эфес – достопримечательностью Турции, поездку в которую с превеликим трудом выбили у «Интуриста» профсоюзные институтские лидеры.
Работал Коленька ассистентом на кафедре русской литературы. Давно бы защититься мог: диссертация лежала готовая – или почти готовая, – но все тянул, все откладывал. «А зачем?» – спрашивал, и никто почему-то не решался ответить, а он, скрючившись на стуле («Узлом завязался», – пустил кто-то остроту), худой, кожа да кости, темный лицом, смотрел на собеседника в деланно-послушном ожидании. Дурака валял! Не знал будто, зачем защищаются люди. Зачем карьеру делают или обзаводятся, скажем, семьей.
Когда-то у него тоже была жена, но недолго совсем, развелись, и в течение многих лет жил вдвоем с матерью. Она тяжко болела, и он ухаживал за ней так, как редко какой сын ухаживает за стариками родителями. Потом мать умерла, и он сразу постарел, осунулся, совсем есть перестал. На обед в институтской столовой брал какой-нибудь гарнир – один гарнир, без основного блюда, – да и тот, поковырявшись, брезгливо отставлял в сторону.
Зато сигарету не вынимал изо рта. Создавалось впечатление, будто знаток Гоголя (именно о Гоголе была злополучная диссертация) сознательно морит себя подобно кумиру своему и духовному наставнику. Но при этом хорохорился и странные отпускал шуточки – не в гоголевском вовсе духе. Откроет, к примеру, дверь и, картинно опершись на трость (а потертый пиджак висит как на жерди, а шея тонка и морщиниста, а под глазами синячищи), вопрошает пьющих чай лаборанток: «Что, девочки! Прельщаю я вас как мужчина?» – «Прельщаешь, Коленька, – охотно поддакивали ему. – Очень даже прельщаешь». – «То-то же! – подымал он указательный палец, такой же, как хозяин его, сгорбленный и тонкий. – Женщины чуют мужскую стать».
С ним весело соглашались, чайку предлагали, и он не отказывался. Есть не ел, но чаю выдувал много, и чаю крепкого: чашка, щербатая, без ручки, обмотанная, чтоб не обжигало, изоляционной лентой, была вся черной. Раз кто-то из женщин вымыл ее, дочиста оттер содой, Коленька же, увидев, аж позеленел весь. «Терпеть не могу, – процедил, – когда трогают мои вещи».
То был единственный случай, когда он допустил по отношению к прекрасному полу неджентльменский тон. Зато с мужской частью института, особенно с начальством, пребывал в состоянии постоянной войны. Во все дырки лез, учил и наставлял, строчил проекты, как реорганизовать работу факультета, института да и высшее образование в целом.
Больше всех доставалось декану. Прямо-таки третировал его – и публично и в приватном порядке, тет-а-тет, – когда же тот, придравшись к какой-то оплошности, уволил бузотера, то Николай Митрофанович Свинцов подал в суд. С полгода тянулась волынка, причем женщины, все как одна, были за Коленьку, хотя особенно не афишировали, боясь немилости руководства.
Суд Коленьку восстановил. Для другого хорошим бы уроком стал инцидент, затих бы, угомонился, но Коленька Митрофанович (так ласково звали его лаборантки) упрямо продолжал самоубийственную вражду. Самоубийственную, поскольку начальство только и ждало случая, чтобы избавиться от скандалиста. Если до тех пор, конечно, его не приберет к рукам старуха с косою, в объятия которой он столь целенаправленно и бесстрашно лез…
Собственно, одной ногой уже там был. Земные радости не прельщали аскета, телевизора и того не имел («Я, – говорил, – не смотрю этой пакости!»), но вот возможность прокатиться в Турцию неожиданно воодушевила его. Не во Францию, не в Италию («Туда не хочу», – махал вялой ладошкой, хотя туда и не звал никто), а именно в Турецкую Республику. Так и именовал впоследствии: Турецкая Республика, – чем сразу заслужил симпатию гида.
В гостинице, как положено, жили по двое. На пары разбивали еще в Москве, и вся мужская часть группы заклинала: только, ради бога, не со Свинцовым. А Свинцов? Свинцов ухмылялся щербатым ртом и просил поселить с кем-нибудь из дам, желательно помоложе. Уж он-то не ударит в грязь лицом.
Поселили с К-овым. Со стороны последнего, как расценивали другие, с признательностью пожимая добровольцу руку, это был шаг благородный, но сам он в своем внезапном согласии угадывал едва ли не промысел. Чем-то Коленька притягивал его. Чем-то волновал и заставлял о себе думать. Чем? Уж не своим ли тихим, медленным и убежденным саморазрушением, залогом и условием грядущего совершенства? К-ову ледяной соблазн этот был ох как ведом… Случались минуты (темные минуты), когда выйти на балкон боялся. Но и не выходя все так ясно и жутко рисовал себе… На одиннадцатом этаже жил беллетрист К-ов, а внизу, под балконом, жались между дорогой и окнами хилые палисаднички, огороженные проволокой с черными металлическими штырями…
Понял бы его Коленька Свинцов? Возможно б, и понял, но одобрить не одобрил и даже, пожалуй, назвал бы пошляком. Раз уже было так. Повесился сорокалетний доцент, близкий товарищ К-ова, и в тишине, которая наступила после испуганных женских ахов, раздалось вдруг: «Какой пошляк!»
Это Свинцов сказал. Даже женщины, которые все прощали блаженному, на сей раз посмотрели на него с осуждением. О покойном-то! Совсем спятил… Коленька не смутился, однако. Запахивая поплотнее старую, еще матерью штопанную куртку, прибавил: «Разве так это делают!»
К-ову слова эти запали крепко. И слова и – главное! – тон; тон человека, который видит истину – давно видит, ясно, а потому искренне удивлен, что от кого-то она, оказывается, сокрыта…
В Анкару прилетели в полдень. До вечера бродили по городу – уже из последних сил, со слипающимися глазами, – когда же К-ов дорвался наконец до постели, сон покинул его. Стоило прикрыть веки, как начиналось мельтешение. Автомобили на горбатых улицах – сплошным потоком, непонятно как выруливающие, только стекла вспыхивают на солнце да высовываются из окон волосатые руки, грозя кому-то… Мотоциклисты в белых и красных шлемах, продавцы обсыпанных тмином лепешек, старухи в парандже, торговцы цветами и просто цветы – на тесных газончиках посреди улицы, – жирные усачи у мангалов, одной рукой пестующие шампуры, другой настраивающие транзистор. Вот только звуков не слыхать – ни ошалелых автомобильных гудков, ни транзисторной однообразной на европейский слух музыки, ни трелей полицейских, ни унылых криков лепешечников. Вся эта какофония там осталась, в сиянии дня, первого дня на турецкой земле («Турецкой! – завороженно твердил про себя К-ов. – Турецкой!»), в ночь же вползли неслышной вереницей лишь зрительные образы. Толпясь, кружили перед дисциплинированно зажмуренными глазами, и был только один способ остановить эту изнурительную карусель: поднять веки. Что и делал К-ов. Карусель пропадала, зато, материализуясь, надвигался лежащий на соседней койке человек, такой же неслышный и такой же другой, из другого мира, как и сгинувшие только что призраки.
В тревоге прислушивался К-ов. Ни дыхания, ни скрипа кровати… И вдруг, проломив тишину, ворвался протяжный, надрывный какой-то крик, потом еще один и еще, и не друг за другом, а одновременно, в разных концах, далеко и близко. Совсем близко, под самым окном, и очень далеко – этот долетал, ослабленный, с запозданием, когда ближний начинал выводить новую руладу. Казалось, весь город, только что распростертый в тяжелом и чутком сне, внезапно пробудился и жалобно многоголосо завыл, в страхе запрокинув к небу бескровные лица.
То была мусульманская служба. Потом К-ов привык к ней, а натренированный глаз без труда различал на белых минаретах громкоговорители, откуда лилась, записанная на пленку, молитва – и ранним утром, и поздним вечером, и днем, конечно, но днем она тонула в гомоне восточного города, поэтому в первые часы не обратил внимания, когда же голоса муэдзинов, очищенные от дневного шума, ворвались в гостиничный номер, путешественник от неожиданности и страха (да, страха!) сел на кровати.
Силуэт другой кровати вырисовывался в темноте неподвижно и как-то плоско, будто на ней не было никого. Муэдзины смолкли – К-ов уловил даже слабый щелчок аппаратуры, но не понял, что это. Подтянул одеяло, кашлянул. Надавил рукой на пружинящий матрас, но тот не отозвался. Соседнее ложе по-прежнему не подавало признаков жизни. Тогда он, сглотнув, произнес чуть слышно: «Спишь?»
Теперь тишина была еще глубже, чем до молитвы, и в этой гулкой тишине отчетливо и спокойно прозвучало: «Я никогда не сплю».
С облегчением перевел напарник дух. Суть сказанного не имела значения, главное – здесь (будто мог испариться куда-то!), главное – жив (будто мог умереть в одночасье! А впрочем, мог), главное – не потерял рассудка от затопивших город трагических песнопений. А что не спит – так ведь и он тоже не спит. Слово «никогда» прошло мимо сознания, но прошло не бесследно, отпечаталось, и все последующие ночи, вслушиваясь напряженно в безмолвную кровать, одновременно вслушивался и в ту удаляющуюся – «Я никогда не сплю» – фразу.
То есть как это никогда? Чушь, бессмыслица, но – странное дело! – чем дальше углублялись в непонятную, ошеломляюще красивую страну, тем больше убеждался К-ов, что Коленька сказал правду. Путешествие к концу подходило, но хоть бы раз услыхал дыхание спящего рядом человека!
А страна и впрямь была красивой, особенно субтропики Эгейского моря, к которому долго пробирались сквозь горы, то ярко-зеленые, то голые, с осыпающейся породой. Все ждали: вот сейчас, сейчас засинеют вдали античные воды. Было начало ноября, купальный сезон давно кончился, но это для изнеженных капиталистов кончился он, наши же готовы были влезть хоть в восемнадцать, хоть в семнадцать, хоть в шестнадцать градусов. Гид сулил, что ниже шестнадцати в это время не бывает.
Гид ошибся. Море до десяти остыло – даже самые отважные и самые закаленные, попробовав рукой ласковую на вид воду, вздохнули сокрушенно и отошли прочь. Только один разделся до трусов – желтые, с голубыми разводами, они смотрелись на тощем теле гигантскими панталонами – и, сжавшись весь так, что его уже и не увидать было среди массивных булыжников, прокрался на цыпочках в древнее море.
То, конечно, был Коленька Свинцов. Никто не удивился особенно – от Коленьки всего ждали, – но забеспокоились: свалится, черт такой, с воспалением легких, возись потом с ним – в чужой-то стране! Кто-то буркнул даже, что если так уж не терпится уйти в лучший мир, то необязательно переться для этого в Турцию.
Бог миловал: Коленька не то что воспаления легких – даже насморка не схватил. Хотя мало что в студеной воде искупался, а еще и проторчал полночи на балконе.
К-ов обнаружил его там уже под утро, проснувшись от холода. Натянув одеяло, глянул привычно на соседнюю кровать – пусто. На сей раз действительно пусто, не померещилось. И тут-то увидел на балконе завернутую в одеяло фигуру с огоньком сигареты. А еще увидел в небе над Коленькиной головой опрокинутый (а не полустоящий, как у нас) лунный серпик с яркой звездой посередке. Не удержавшись, встал, тоже закутался в одеяло и вышел на балкон.
Город спал. Фонари освещали пустую набережную и уходили равномерно в воду, в недвижимую черную глубину, откуда подымались потом на катерки и большой стоящий на рейде пароход. Вплотную к морю подступали горы. На их фоне слабо белели столбики минаретов, окруженные, как свитой, черными кипарисами. «Красота спасет мир», – подумал, а потом и вслух сказал К-ов, пораженный открывшимся внезапно новым смыслом затасканной фразы. Безрелигиозный, линейный, обезбоженный мир спасет красота – это имел в виду Достоевский? Не это… Ибо получается, что красота не в содружестве с Богом, а вместо него. С подобным Достоевский не согласился бы никогда. К-ову хотелось поговорить об этом, но Коленька, докурив, без единого звука скользнул в комнату.
Невидимый с балкона, пульсировал маяк – розоватый отблеск выхватывал из мрака склон горы и стоящие под ее прикрытием скелеты яхт с длинными голыми мачтами. Приземистый зверек неопасливо, по-хозяйски перебежал дорогу. Крыса? К-ов еще раз окинул взглядом звездное небо с чужим лунным серпиком и пошел досыпать. День предстоял напряженный: Эфес, значилось в программе, потом – храм Иоанна Богослова, что, оказывается, заканчивал в этих краях свою долгую, уже после Учителя, жизнь, потом – домик девы Марии на Соловьиной горе… Заснуть, однако, удалось не скоро. «Красота, – произнес вдруг Коленька, – не спасет мира. – И, помолчав, прибавил старческим, скрипучим каким-то голосом: – Красота уничтожит его».
Тогда-то впервые и услышал К-ов о принципиальной недостижимости совершенства.
Достичь, впрочем, идеала можно, но одним лишь способом: уничтожить то, что к нему приближается. Уничтожить! Думаешь, вопрошал Николай Митрофанович, Гоголь не понимал этого? Еще как понимал! Погибший второй том безупречен – в отличие от уцелевшего первого. Вот и Вергилий на смертном одре наказывал сжечь «Энеиду», но его не послушались. А какой бы шедевр был! «“Энеида” и так шедевр», – осторожно возразил К-ов. Коленька захихикал: «Нуда… С ее оборванными строками».
О Герострате в ту ночь не было сказано ни слова, но когда на другой день по дороге из Эфеса к Иоанну Богослову привередливый турист потребовал остановить автобус и выпустить его, дабы мог рассмотреть хорошенько памятник «четвертому зодчему» (первые три – те возводили храм), то К-ов ничуть не удивился.
Николая Митрофановича оставили, и автобус, урча, полез наверх, к последнему пристанищу того, кто возлежал в час прощального ужина на груди Учителя.
К-ов об этой ночной трапезе думал часто. Ему казалось, все было совсем не так, как изображается на знаменитых фресках. Да и в самом тексте тоже… Неужто провидец и впрямь понукал изменника? Неужто бросил: что делаешь, делай скорее? Куда спешил? Зачем? Или Коленька Свинцов прав: измученный незавершенностью своей человек (пока еще человек) алкал гармонии?
На облепленном сувенирными лавками пятачке автобус остановился. Дальше пешком пошли. Дорога круто подымалась между белых камней, в которых шныряли ящерицы.
Странно, но ветра наверху почти не было. К-ов подождал, пока словоохотливый гид отведет группу, и медленно огляделся. Не здесь ли, подумалось ему, и диктовал старец Иоанн свои грозные откровения? Не здесь ли пророчил конец грешному, несовершенному, но стремящемуся к совершенству миру?
Позже, уже дома, перечитывая Апокалипсис, К-ов вспомнит, как сидел, свесив ноги, на нагретой солнцем каменной кладке, что огораживала святилище, а далеко внизу расстилалась библейская земля в зелени садов и черепичных крышах. Подобно черным штырям торчали, маня, пики кипарисов.
Видел он и вздымающуюся над игрушечными тополями Геростратову колонну. Как муравьи, копошились вокруг человеческие фигурки. Где-то среди них был Коленька Свинцов.
С грелкой по снегу в деревню ГлуховоСместилось лишь время отправления, причем сместилось немного, на несколько всего минут, а электричка осталась та же – дальняя, можайская, первые полчаса летящая почти без остановок, зато потом, далеко от Москвы, тормозящая у самых глухих и самых безлюдных платформ. Двери с шумом раздвигались и сразу же съезжались обратно, ибо никто не выходил здесь, никто не входил, да и следов жилья, сколько ни всматривался К-ов, обнаружить не удавалось. Снег на платформе лежал ровненько – ослепительный, прямо-таки девственный снег, какой можно увидеть разве что на крыше. Но ведь для кого-то платформы эти да строились! Для кого-то да останавливался поезд! Сойти бы, двинуться куда глаза глядят или, вернее, куда поведет дорожка, – должна же быть какая-нибудь дорожка! – взглянуть хотя бы краем глаза на чужую укромную жизнь и на следующей электричке отправиться дальше – в свой комфорт, в свое размеренное, санкционированное путевкой существование… Сейчас, однако, это был не столько соблазн, сколько воспоминание о соблазне, причем воспоминание скромное, смирное, без малейшей надежды, что пожилой рассудительный беллетрист откликнется вдруг на романтический зов. Если уж в молодые годы не поддался искушению…
Тридцать с небольшим было ему, когда впервые ехал по этому маршруту – тоже зимой (он всегда ездил в Малеевку зимой), тоже с запасом бумаги, вот разве что куда более основательным, нежели нынешний. И всё равно не хватило – так споро, так весело, так азартно летела работа.
Письменный стол был своего рода индикатором возраста: именно за ним чувствовал острее всего, как слабеют силы, как пригасает пусть и не ахти какой, но огонь. Слова разбегались – стоило неимоверного труда собрать их, выстроить друг за дружкой, дать дыхание. Главное – дыхание…
А еще за столом – и это тоже были проделки возраста – мерзли ноги. Прямо-таки коченели – по три, по четыре пары носков напяливал труженик пера, только носки, даже самые что ни на есть шерстяные, не всегда помогали, – приходилось наливать грелку. (Грелка и сейчас ехала с ним, не подозревая, сколь необычная роль уготована ей.)
На пристанционном пятачке в Дорохове, куда в прежние времена подавались к электричке три-четыре автобуса, – округа славилась желудочным санаторием и домами творчества, – сейчас всего один стоял, и то занюханный какой-то. Маленький, грязненький…
Оказалось – малеевский. Несколько человек уже сидело в холодном салоне: мужик в белой заячьей шапке, явно из местных, две пожилые бабы, тоже местные (и прежде пользовались случаем прокатиться в магазин), мать с ребенком и супружеская чета – с этой же, видимо, электрички. Жена сдергивала перчатки, а муж пристраивал на свободном сиденье пишущую машинку. К-ов поздоровался. Ответили вразнобой, вяло, лишь мужик в белой шапке произнес лукаво: «Привет!» Наверное, подумал К-ов, пропустил по случаю завтрашнего Рождества стаканчик, благо вино тут же продавалось, в сколоченной кое-как деревянной палатке, по тридцатнику, – зачерпывали из бидона стеклянной банкой.
Еще на станции торговали мясом и тоже наверняка по безумной цене – люди проходили мимо, не задерживаясь. Это возле мяса-то! Настоящего удивления, впрочем, не было, да и кто чему удивлялся ныне! Все так стремительно меняется вокруг: от цен до названий улиц (что улиц? городов! государств!), так что если уж и удивляться, то, пожалуй, тому, что кое-что еще сохранилось. И Дорохово по-прежнему Дорохове, и электричка та же, лишь время отправления сместилось, и так же, как двадцать лет назад, бессловесный водитель собирает за проезд. Тот же гулкий мост через Москву-реку, густо-зеленую, почти черную, в снежных подтаявших берегах, тот же поворот с трассы направо, та же узкая, между высоченных елей дорога, сперва резко под гору, потом резко в гору. Тот же особняк с колоннами, та же просторная, с зеркалом во всю стену столовая, куда новоприбывших сразу же отправили завтракать. (Как и в прежние опять-таки времена!) У двери елка стояла, еще свеженькая, не осыпавшаяся, а от люстры во все стороны разбегались цветные бумажные гирлянды.
Мужик в заячьей шапке (теперь, впрочем, без шапки – на вешалке осталась) тоже пришел в столовую. Не из местных, значит, – по путевке. Посадили их за разные столики, но К-ову почудилось, что незнакомец улыбнулся ему в зеркало с тем же, как в автобусе, тайным лукавством.
Официантка принесла завтрак – это была старая официантка, К-ов узнал ее мгновенно, и она узнала его тоже. «Что-то давно вас не было…» Без особого, впрочем, любопытства и уж совсем без энтузиазма. А он обрадовался: вот и еще что-то уцелело от прежней жизни!
Поселили его не в главном корпусе, а в одной из двух возведенных на отшибе блочных, в четыре этажа, коробок. Целая квартира оказалась в его распоряжении: большая комната, маленькая (бывшая кухня), ванная, туалет… О господи, зачем ему такие хоромы! От огромных окон, хоть и заклеенных, дуло, дверь отошла, и в щель сквозило, а допотопный электрический камин, который он тут же включил, был не в состоянии обогреть сии ледяные пространства.
Раньше, приезжая, сразу работать садился, даже вещи не распаковав, – берег каждую минуту дневного, а в особенности утреннего времени, теперь же начал именно с вещей. Аккуратно развесил все, но уже скоро вынул из шкафа и натянул на себя свитер, потом облачился в спортивный костюм, а получасом позже еще и накинул сверху шерстяную кофту.
После обеда, не заходя в свой холодильник, отправился в соседнюю деревушку Глухово. Это был традиционный маршрут его прогулок – с непременным и обычно безрезультатным заходом в магазинчик, сейчас, увы, оказавшийся закрытым. К-ов поискал табличку с графиком работы, не обнаружил таковой и, повернув обратно, увидел своего автобусного попутчика. Почему-то с чайником топал он, с обшарпанным алюминиевым чайником – шел и улыбался из-под белой шапки как старому знакомцу.
А может, и впрямь знакомцу?.. Может, и впрямь старому?..
Остановившись, глядели друг на друга; один – весело и спокойно, другой – с напряжением, силясь узнать. «Не получается? – посочувствовали К-ову. – Я б тоже не узнал, кабы по телевизору не видел. И книжка твоя есть. С портретом… – Выдержал, поддразнивая, паузу и представился-таки: – Семенов».
К-ов нахмурился. Семенов? Какой Семенов? Неужто Митя?
Так они встретились – спустя двадцать пять лет, больше, чем двадцать пять: то ли с четвертого, то ли даже с третьего курса перевелся Митя на заочное и укатил в свою Чувашию… С тех пор не виделись. Да и не слышал ничего о поэте Дмитрии Семенове, хотя в институте стихи его, пусть и не слишком горячо, но хвалили. То были спокойные, ровные, негромкие стихи, особенно на фойе шумных поэтических деклараций, весьма модных в те эстрадные времена. И все-таки хвалили – даже самые отъявленные экспериментаторы, даже самые злые ниспровергатели. Уж не робость ли испытывали, смельчаки, перед улыбчивым неагрессивным Митей?
К-ову запомнилось, как в колхозе, куда их, первокурсников, послали на картошку, Семенов запрягал лошадь. Похлопывая по загривку, что-то приговаривал низким гортанным голосом, и коняга, скосив глаза, внимательно слушала.
А еще запомнилось, как однажды на семинаре, после страстного выступления К-ова, Митя посоветовал ему: «Не волнуйся… Все у тебя будет хорошо». Без осуждения сказал, без иронии, но беллетрист – тогда еще будущий беллетрист– вспыхнул и принялся объяснять, что не о нем, дескать, речь, о процессе, о тенденциях, еще о чем-то, – Митя внимательно слушал, улыбался слегка, а когда наступила пауза, повторил, прикрыв глаза: «Все у тебя будет хорошо… Вот увидишь».
Теперь К-ов боялся, что бывший сокурсник напомнит давнее свое пророчество, которое, если внешне судить, сбылось. Да, собственно, уже напомнил, вставив (не случайно! – решил мнительный сочинитель) и про телевизор, и про книжку с портретом, но это было еще не главное напоминание. Главное заключалось в том, что Митя не спрашивал о литературных делах. К-ов спрашивал – по-прежнему ли стихи пишет, где служит? – а Семенов нет. Все-то ему было известно…
Стихи писал, но мало, да и стихами не прокормишься, как, впрочем, и переводами, но у него пасека, а на мед в отличие от стихов спрос большой. «Еще бы! – подхватил К-ов, словно в чем-то оправдываясь. – Я б тоже с удовольствием пчеловодом стал».
Митя переложил чайник из одной руки в другую. «Я не стал… Я всегда был им. – Он внимательно посмотрел на товарища студенческих лет. – Разве я не угощал тебя медом? Или ты не в общежитии жил?»
В общежитии, но лишь год, пока не женился, да и этот недолгий срок держался особняком, лелея хилую свою суверенность, – не сподобился, словом, откушать чувашского меда. «Ничего, – утешил Митя, – сподобишься… Скипятим сейчас чайку!» И приподнял посудину, с коей они, теперь уже на пару, торжественно шествовали по середине улицы к родничку. В кране вода разве! «Видел, какая раковина ржавая? Не добурили до артезианской, техническую берут, заразы!»
К-ов попытался вспомнить, какая у него раковина, – кажется, тоже с желтизной…
Родничком оказался обыкновенный с виду колодец, вот разве что крытый свежевыструганый сруб был без ворота – настолько близко от поверхности стояла водица. Митя снял ведерко (звякнула цепь), медленно опустил его, зачерпнул, вытащил без усилия и аккуратненько стал наполнять чайник, что-то при этом ласково приговаривая – как некогда с лошадью. Точно беседовал с водой. (Живой водой.) Точно что-то объяснял ей… Не выплеснув ни капли – достал ровно столько, сколько вместилось в чайник! – повесил пустое ведро на место и неслышно прикрыл створку. Все по-хозяйски уверенно, все по-хозяйски размеренно, будто пользовался целебным этим источником уже много лет. А между тем был в Малеевке впервые – в отличие от К-ова, считавшего себя старожилом здешних мест и тем не менее даже не слыхавшего о родничке. Несколько часов хватило чувашу Семенову, чтобы осмотреться в русской деревне, познакомиться с людьми – кто-то ведь да поведал о колодце! – раздобыть чайник (в промерзлом номере К-ова ни чайника, ни какой другой емкости не было) и даже узнать клички собак, что сыто – отдыхающие подкармливали! – жили при столовой дома творчества. Сразу два пса подлетели к ним, когда приближались с водичкой к главному корпусу.
Не к ним – к Мите: на него глядели страстно, ему виляли хвостом, а он что-то растолковывал им тем же доверительным, как у родничка, голосом, который К-ов отчетливо слышал, но слов – удивительное дело! – не понимал. Будто на особом собачьем языке изъяснялся полиглот Семенов.
Жил он на втором этаже в теплом и уютном номере, совсем небольшом – по сравнению-то с двухкомнатным ледником К-ова. Уже стемнело, и они чаевничали при настольной лампе, гость нахваливал мед, а Митя, приподняв к свету стакан, любовался его золотисто-каштановой прозрачностью. Родничок-то, а? Стекло обжигало, не могло не обжигать, К-ов чувствовал это по своему стакану, но Митя даже пальцами не перебирал. Пальцы были широкими и темными, однако не грубыми, гибкими; белели ухоженные ногти… Поразительно, но чай занимал его больше, нежели студенческие годы, о которых с таким упоением распространялся К-ов, – прошлое для него всегда было осязаемей настоящего, ярче и красочней. «Помнишь, на коньках меня учил? В парке…» То были уроки физкультуры, их проводили на катке в парке Горького, и у южанина К-ова, впервые вышедшего на лед, беспомощно разъезжались ноги. «Помню, – говорил Митя. – Я все помню…» Но говорил спокойно, без воодушевления, без энтузиазма – точь-в-точь как официантка давеча. Тогда беллетрист решил сменить пластинку, о завтрашнем Рождестве завел речь – уж это-то должно быть близко несуетному его хозяину! – но Митя и тут не зажегся. «Рождество, – молвил, – замечательный праздник. Только я, к сожалению, не верующий». И помешал ложечкой чай. «Я тоже», – признался К-ов.
Именно признался – с таким отчаяньем прозвучало это, Митя даже удивленно взглянул на него. «Ну и что? – произнес. – Хотя, – добавил задумчиво, – я думаю о Нем часто. – Поднес стакан ко рту, отхлебнул глоточек, неторопливо, со смаком проглотил. – Если Он существует, то представь, каково Ему там, одному-то!»
После, уже у себя, К-ов напряженно размышлял над этими словами, такими с виду простыми и ясными, открытыми для понимания – подобно тому, как открыты те безлюдные, в целомудренном снегу платформы, на которые, однако, сочинитель книг так и не ступил ни разу… Все у него здесь было, как у Мити, – и стол такой же, и кровать, и кремовые шторы на окнах, которые он, ложась, тщательно задернул, чтобы хоть как-то удержать слабое тепло, – все вроде бы то же самое, но – чужое какое-то, холодное, враждебное ему, странно далекое и при этом незаметно для глаза убегающее все дальше и дальше, точно казенное помещение это непостижимым образом раздвигалось (согрей этакие объемы!), в то время как по-домашнему уютный мирок Мити Семенова становился, ревниво разглядываемый отсюда, все компактней и теплее.
Разумеется, о смерти думал озябший беллетрист, о чем же еще, но не смерть сама по себе страшила его, а небытие. Собственное, персональное, так сказать (у каждого свое!), изолированное, как эта мертвая квартира, небытие, которое представлялось ему куда страшнее перенаселенной коммуналки Дантова ада. А еще представлялось, что Митя прав, и вовсе не затем родился на свет в эту ночь вифлеемский младенец, чтобы мы жаловались ему и искали защиты, а чтобы, когда уж совсем невмоготу, было кого нам пожалеть…
За окном гулко треснула от мороза испуганная ветка. Впереди была долгая ночь, он ворочался в холодной постели, осторожно прижимая ноги к быстро остывающей грелке и предвкушая горячий чай, за водой для которого отправится к родничку по утреннему снегу. Вот только с чем отправится? Да, с чем? Не со стаканом же!
И тут его осенило: с грелкой. Ну конечно с грелкой, почему нет? Митя Семенов одобрит его находчивость.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































