Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
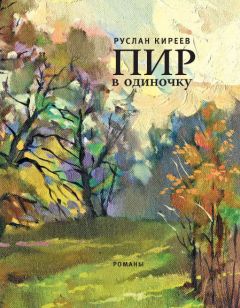
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
Как бы поздно ни возвращался К-ов, окно у Тапчанов светилось. Не окна – окно, да и то лишь нижний правый угол: отгородившись книжными полками, собственноручно сбитыми из некрашеных досок, хозяин корпел при настольной лампе над своим Гомером.
Высокая, с бронзовыми финтифлюшками лампа, антикварная, почти античная, была единственной ценной вещью в доме. Своего рода семейной реликвией, которая, правда, время от времени исчезала: Лидусь, верная Федина подруга, оттаскивала ее, обернув простыней, в ломбард, дабы хоть как-то свести концы с концами.
Случалось, под рукой не было ничего, кроме горстки муки да яичка, что сиротливо белело в распахнутом холодильнике, который хозяйка регулярно мыла – пусть даже и пустовал всю неделю, – а после проветривала и сушила. Это была не просто опрятность, это было проявление оптимизма, веселой и энергичной уверенности, что жизнь счастливо изменится. Вкусными вещами заполнится холодильник, нагрянут гости, польется вино в бокалы (бокалы стояли наготове, протертые), и вдохновенные зазвучат тосты.
Увы, жизнь не менялась – во всяком случае, в лучшую сторону. По-прежнему лепешки на воде месила Лидусь, и пресные лепешки эти оказывались на редкость вкусными – К-ов раза два или три сподобился откушать, по-прежнему штопала портки сыну. Да и откуда взяться достатку, если рефератами перебивался глава семьи – с английского и немецкого, ради которых откладывал со вздохом златоустого Гомера? И ладно б платили регулярно, а то ведь по полтора, по два месяца тянули, иногда дольше; тут-то и уплывала из дому запеленутая в простыню античная лампа. В конце концов отваливали все сразу, кучей, и в тот же день девственно чистый холодильник набивался снедью, пеклись пироги и скликались гости. Долговязый хозяин торжественно восседал на обшарпанном, с высокой спинкой стуле в вышитой бессарабской сорочке, бледнющий от недоедания и бессонных ночей, и провозглашал здравицы в честь присутствующих, за каждого в отдельности, никого не забывая. То ли из-за двухметрового своего роста, то ли из-за напряженности во взгляде, словно бы преодолевающем большое расстояние, но казалось, Федор смотрит откуда-то с высоты. Не свысока, нет, – даже оттенка высокомерия не было в заботливо-сосредоточенных глазах, – а именно с высоты, с той самой, надо полагать, балканской вершины, где пируют и резвятся бессмертные боги. Сам при этом почти не пил – не пил и не ел, – гостям же все подливал да подкладывал. «А кинза?» – спохватывался вдруг, и в певучем голосе – нотки ужаса. Это он разглядел, зоркоглазый, с хладного своего Олимпа, что в наваленной на блюдо пышной, в крапинках влаги зелени отсутствует ароматнейшая из трав.
Жена небожителя, полненькая, маленькая, чуть ли не вдвое короче супруга, виновато хлопала под линзами очков болезненно-выпуклыми глазами. «Кинзы не купила… Петрушка была, я петрушки взяла».
Стон отчаянья – не очень громкий, но стон, – выползал из узкой груди хозяина. Как же так, есть сыр – выдержанный сыр, ноздреватый, повезло, можно сказать, – а кинзы нету! Гости утешали: ну что ты, Федя, все отлично – какой салат, пироги какие, а уж о мититеях, фирменном тапчанском блюде, и говорить нечего, – но бледное остроносое лицо выражало страдание.
Страдала и Лидусь. Преданная, заботливая Лидусь, по-южному гостеприимная. В отличие от мужа, московского молдаванина, наполовину к тому же русского, она была молдаванкой чистокровной, из приднестровского большого села, куда выпускник столичного иняза отправился – по собственному желанию! – отрабатывать в школе положенные три года. Росли тут могучие белые черешни, такие огромные, что даже фитилеобразный Тапчан не всегда дотягивался до крупных, отливающих желтизной ягод. Но раз – о чудо! – ягоды слетели к нему с макушки сами.
Учитель поймал их и, не очень-то удивленный – подумаешь, чудо! – задрал голову. В трепещущей листве беззвучно смеялось среди солнечных пятен девичье лицо. Молодое… Черноглазое…
Столичный гость медленно сунул теплую черешню в рот. «Как, – спросил, – зовут-то?» И сверху, как еще одна ягода, самая зрелая, упало: «Лидусь».
Кавалер, поворочав черешню языком, упруго раздавил ее. Пожмурился: сладкая! Проглотил, выдул косточку. И предложил: «Выходи-ка, Лидусь, за меня замуж».
Так расписывал Тапчан веселое свое сватовство, так пел, разве что не гекзаметром, и увядшая женщина, близорукая, в ветхой кофточке с латкой на рукаве, внимательно и счастливо внимала.
Там же, в приднестровском черешневом селе, зародилась и вторая Федина любовь, не менее пылкая: Гомер. Сперва по-русски читал-перечитывал, а после, подвигнутый примером Льва Толстого, выучил древнегреческий и наслаждался подлинником, разгневанно уличая Жуковского с Гнедичем в беспардонных вольностях. Исправлял на ходу – то словечко, то строку, пока в одно прекрасное утро не засел под гортанное воркование хохлатых бессарабских голубей за собственный перевод. Новый… Современный… С дерзкими смещениями цезуры, что, по замыслу экспериментатора, должно было оживить мумифицированные строки.
Уписывая припорошенные луком сочные мититеи, гости нет-нет да и подтрунивали над новоявленным толмачом, но то гости, люди залетные, К-ов же, который общался с Федором чуть ли не ежедневно, восхищался подвижником. Древнегреческий! По-русски-то не читал толком патриаршей книги, полистал перед экзаменом – и с плеч долой; лишь теперь, пристыженный, всерьез усадил свою милость за глухой, темный текст, рокочущий, как подземная река, вечными водами которой беллетрист надеялся смыть с души нарост суетности. Не тут-то было: суета и здесь подстерегала.
Что делает в первой же песне дерзновенный Ахиллес? Бежит ябедничать на Агамемнона к маменьке, которая, естественно, бьет челом Зевсу. Тот рад помочь, но кряхтит, но озирается беспокойно – нет ли супруги поблизости? – однако супруга тут как тут и закатывает громовержцу истерику. Скандал на Олимпе! Семейная сцена!
А вот у Тапчанов царили мир и согласие. Лидусь, в которой кто бы признал сейчас девушку с черешневого дерева, лезла из кожи вон, дабы оградить от пошлых будней хрупкого небожителя. Захаживая время от времени к жене К-ова, отзывала в сторонку и, вся красная, с чудовищно увеличенными под очками глазами – линзы становились все толще: зрение катастрофически падало, – жарким шепотом просила в долг трешницу. «Только, – заклинала, – не говори Феденьке!» А случалось, не трешницу, случалось, сумму поосновательней, потому что основательные предстояли расходы: сваливались как снег на голову бывшие Федины коллеги, молдавские учителя, и всех встречали здесь с распростертыми объятиями. (Буквально: К-ов собственными глазами видел, как приветливо раскидывал Тапчан длинные руки.) Потом умиротворенные гости отбывали восвояси, переводчик же гомеровского эпоса долго еще коротал трудолюбивые ночи не у зеленого античного светильника, стимулирующего своим вкрадчиво-ровным теплом русский лад древнегреческой речи, а при холодном свете позаимствованной у К-ова пластмассовой лампы.
Ширпотребный свет, однако, не приглушал горящего в Фединой душе священного пламени. Блики этого живого огня проступали на остроносом, с впалыми щеками лице, на алебастровом лбу, падали на тонкие, с изгрызенными ногтями пальцы, на разбросанные по столу листки в каракулях, а также на тех, кто оказывался поблизости, – К-ова, к примеру, который, попадая в поле этого таинственного излучения, всегда неприятно ощущал, сколь тяжел он по сравнению с Федором, сколь телесен, сколь густо опутан паутиной мелочных забот, в то время как нищий сосед его царственно ввысь устремлен – подобно слепому поводырю своему и кумиру. В небесах парит – над балканской грядой, заселенной бессмертными, над воинственными ахейцами, чьи армии напоминают птичьи стаи, над осиным гнездом осажденной Трои… «Откуда, – вопрошал Федор, – увидено это? – И сам же отвечал, воздев палец к звездам, под которыми труженики пера прогуливались на сон грядущий: – Со спутника! Гомер, если хочешь знать, был первым, кто произвел космическую съемку».
Без тени улыбки говорилось это: целомудренно-серьезен был Федя Тапчан – как царь Итаки… Или, если угодно, как сам незрячий вождь, влекущий бывшего школьного учителя по хлябям гекзаметров… Или – что еще точнее – как первозданный мир, еще не изъязвленный иронией, столь любезной сердцу уклончивого беллетриста…
Домой возвращались за полночь. Жена К-ова мирно спала, а в кухне у Топчанов горел свет: слепнущая Лидусь приноровилась с некоторых пор вязать ажурные платки, коими приторговывала в тайне от мужа. Его, впрочем, не настораживало бесконечное рукоделие: Пенелопа тоже ведь ткала из месяца в месяц свой лукавый покров, да и сам Тапчан – из года в год! – вышивал современными нитями древний узор.
Дозволялось ли хоть кому-либо взглянуть на него? Дозволялось. Одному-единственному человеку, и К-ов, не утерпев, спросил с шутливой небрежностью – как, мол? Выпученные под стеклами очков темные глаза засветились благоговением и восторгом. «Хорошо», – выдохнула чуть слышно черешневая девушка, уже седеющая, с дряблым подбородком и без зуба спереди.
С удвоенной, с утроенной энергией работала спицами. Понимала: чем больше платочков, тем меньше рефератов, этих коварных рифов на пути ослепительной Фединой ладьи. И вдруг…
И вдруг – буря, шторм, кораблекрушение.
В дверь не позвонили – затрезвонили, испуганный К-ов бросился открывать и увидел незнакомую, растрепанную, с искаженным лицом женщину. Лидусь! О господи, неужели Лидусь? В первое мгновение, в первую долю мгновения он, во всяком случае, ее не узнал. Как, впрочем, и она его. «Это ты? – просипела. – Я не вижу без очков». Тут только он заметил, что она и впрямь без очков, что было столь же невообразимо, как если б предстала перед соседом в ночной рубашке. Что-то с Федором, понял и уже видел мысленно бледное, с впалыми щеками запрокинутое лицо – лицо покойника. Но нет, Федор, слава богу, был жив, жив и здоров, и полон сил, вот только не поэтических сил, а грубых, телесных, заявивших о себе самым что ни на есть хулиганским образом. За что и угодил в милицию… «Федю арестовали», – пролепетала обезумевшая Пенелопа.
Но сперва, как выяснил К-ов уже на улице, по которой они мчались на выручку узника, – сперва арестовали Лидусь. За ажурные ее платочки, которыми торговала у входа на рынок. Кто-то из соседей видел, как злоумышленницу уводили, поспешил мужу доложить, и тот, оставив Гомера, полетел в тренировочных штанах и домашних, спадающих на ходу тапочках спасать супругу. Не языком спасать, не словами – какие могут быть слова, если дорогое существо схвачено и пленено! – а длинными своими ручищами, которые тут же без особых усилий заломили. В кутузку втолкнули бузотера, а Лидусь, конфисковав платочек, отпустили на все четыре стороны.
Не прошло и получаса, как она вернулась. Не одна – с подмогой в лице сочинителя книг.
Переводчик Гомера метался, как зверь, за глухим стеклом, белый, хмурый, и все косился, косился – по-звериному! – на конфискованный платок, рядом с которым лежали треснутые женины очки. Вот когда прозрел небожитель! Вот когда грохнулся на землю! Вот когда понял, какой ценой оплачиваются олимпийские забавы! Увидев супругу, замахал длинными руками, заговорил горячо, но о чем – попробуй-ка разбери за толстым стеклом, и на миг К-ову почудилось, что в казенном помещении с портретиком на стене – отнюдь не Гомера! – зазвучала вдруг древнегреческая речь.
По-русски же забыл будто. Без единого слова подписал все, что требовали, и по дороге домой тоже ни разу не раскрыл рта. А дома – все так же молча! – сгреб в кучу многолетние рукописи, сунул в корзину для черновиков, утрамбовал, еще сунул – Лидусь смотрела окаменев – и отволок в мусоропровод.
На следующее утро отправился по школам наниматься в учителя. Вакансий не было, но ему любезно обещали, что если появится, дадут непременно знать. Хорошо, бубнил он, хорошо, вот телефон, но день минул, другой, а телефон молчал, и он, пока суд да дело, ушел с головой в опостылые рефераты. Холодильник не пустовал больше, не переводилась зелень в доме и не гасла на столе антикварная лампа. Зато гаснул, и чах, и хирел на глазах ее потомственный владелец. Даже кинза не радовала, любимая травка, которую исправно приносила с рынка несчастная Лидусь. А Гомер?
К Гомеру не прикасался месяца два или три, но однажды открыл – так просто, наугад, едва ли не машинально. Записал что-то, еще записал – Лидусь следила, затаив дыхание. Потом вышла тихонько в кухню, долго колдовала там и, вернувшись, положила на стол пачку листков – кое-где порванных, в пятнах, с не до конца распрямившимися складками. «Одной страницы нет… Двенадцатой».
Когда позвонили из школы – вакансия появилась-таки, – на семейном совете решено было повременить со службой. Вот закончит пятую песню… Ту самую, импровизировал сосед – вернее, бывший сосед, потому что К-ов переехал в новый дом, – ту самую, где, помнишь, нимфа Калипсо собирает в дорогу отклонившего ее любовь – а заодно и бессмертие – Одиссея. Дарит холст для паруса, еду дает, и какую еду, пальчики оближешь (Тапчан, надо полагать, имел в виду мититеи), наполняет ключевой водицей мех, другой мех – сладчайшим нектаром, да еще посылает возлюбленному, который – не забудь! – навсегда покидает ее, попутный ветер. Плот отчаливает, нимфа глядит вослед, уронив руки, а улепетывающий из рая хоть бы раз обернулся!
После К-ов добросовестно перечитал это место; к его удивлению, никаких подробностей об отплытии неблагодарного морехода в каноническом тексте не было. Но это у Жуковского не было, это у Гомера не было, Федя же, распалившись, еще не то рисовал. Огонь вдохновения трепетал на молодом, неподвластном времени лице, срывался голос, длинные руки рассекали воздух…
Теперь К-ов видел его все реже. Последний раз – на широкой, залитой вечерним солнцем улице. Длинные тени пролегли от столбов и деревьев, плавились золотом стекла машин, горели, неурочно вспыхнув, рефлекторы уличных фонарей. Неподалеку располагался ломбард – туда-то, видимо, и направлялись супруги. Но почему парочкой? Так плохи глаза стали, что одна по центру ходить уже не решалась?
В руках у Федора что-то белело, завернутое, как в саван, в простыню. К небу, обители богов, тянулся переводчик Гомера, почти бестелесный, почти невесомый, похожий на удлиненную закатом узкую тень, что, оторвавшись от земли, встала торчком, – тень медлительно-грузной женщины со сверкающими под линзами огромными глазами.
За газетный киоск укрылся беллетрист. Не зря, подумает он позже, – нет, не зря! – отклонил многоумный Одиссей дар обворожительной нимфы. Бессмертие… Лишь теперь начал мало-помалу улавливать стареющий К-ов потаенную иронию этого слова.
Несостоявшаяся любовь в студеном городе БарнаулеУмирает Роза Абалуева. Уже не встает, вздулся живот, но сознание ясное (болей нет, и потому наркотики не колят), и она, грустно поведали К-ову навещающие ее редакционные женщины, все отлично понимает. «Немного уже осталось», – говорит со слабой детской улыбкой, которую К-ов, не видевший Розу года два или три, если не больше, хорошо представляет себе.
Болезнь, рассказали опять-таки сердобольные женщины, изменила ее страшно, – и вот этого-то уже он представить не в состоянии. Перед мысленным взором его те же удивленно распахнутые Розины глаза с длинными (неестественно длинными – точно у куколки) ресницами, тот же алый рот, такой вдруг большой, когда она поет или улыбается (а улыбалась она, серьезный человечек, редко), те же светлые кудряшки, опять же кукольные. Да и вся она, миниатюрная, стройная, всегда с каким-нибудь бантиком на собственноручно сшитой блузке, напоминала ожившую вдруг куколку, которая и сама-то поражена этим своим волшебным превращением и теперь понятия не имеет, что с собой делать.
После разговора с женщинами К-ов думает о Розе не то что постоянно, нет, – закручивают собственные дела и собственные заботы, но мысль о ней всплывает вдруг ни с того ни с сего и в местах при этом самых неожиданных. Например, в автобусе, куда он едва втиснулся и стоит, сжатый, с нелепо, неудобно вывернутой рукой, которую, однако, никак не высвободить. И вдруг: Роза! Роза умирает…
Сколько было ей, когда появилась в редакции? Двадцать три? Двадцать пять? Во всяком случае, молоденькая и оставалась таковой всегда: не старела, не дурнела, вот разве что туалеты менялись – то веселый какой-нибудь сарафанчик, то длинная, с множеством оборок, юбка (фасоны сама сочиняла), – туалеты менялись, а сама – нет, и теперь уже, думает в каком-то странном смятении К-ов, не изменится для него, умрет, какой он ее запомнил.
В Москву Роза приехала из своего приволжского захолустья с большим, старомодным, обшарпанным чемоданом, которого стеснялась и потому оставила внизу, в вестибюле, без всякого присмотра, только немного рисунков захватила, и вся редакция сбежалась смотреть эти наивные, яркие, с забавными человеческими фигурками картинки, под которыми были выведены детским почерком недлинные и не шибко грамотные, но порой очень смешные подписи. Она оказалась чрезвычайно остроумна, провинциальная татарская девочка, но остроумна лишь в придумках своих, в жизни же, припоминает теперь К-ов, хоть бы раз пошутила! Напротив, все воспринимала как-то очень серьезно, очень доверчиво – не эта ли как раз доверчивость, не эта ли серьезность, с какими большеглазая гостья смотрела на мир, и позволяли так ясно видеть его, мира нашего, несуразности?
Для журнала ее полудетские рисуночки, разумеется, не годились, но, может, осведомился кто-то, есть еще что-нибудь? Помедлив, она вскинула длиннющие свои ресницы и призналась: есть, только не тут. Все решили – дома, но оказалось, в чемодане, о котором она невзначай проговорилась, и чемодан, вопреки ее испуганным протестам – «Нет-нет, не надо, ну пожалуйста!» – был тотчас торжественно доставлен снизу. На подоконник взгромоздили, девочка Роза, медленно оглядев всех – ив движениях ее, и в речи была хрупкая какая-то размеренность, – принялась покорно открывать, но ржавенький замок не поддавался. И так нажимала, и этак – ни в какую. Тогда к ней шагнул кто-то из редакционных молодцев, протянул небрежно руку, пальцем коснулся или даже не пальцем – ноготком, самую малость, и крышка со звоном отпрыгнула.
Что предстало взору тех, кто не успел деликатно отвернуться? Разноцветные, аккуратно сложенные женские тряпицы, а поверх, рядом с папочкой для рисунков, лежал небольшой, с фиолетовым отливом мишка, безухий, одноглазый, такой же, как чемодан, старенький, если даже не еще старее.
Думая о Розе, которая умирала сейчас со своим вздувшимся животом и седыми, выпадающими от бесполезного лечения волосами, К-ов недоумевает, как же исхитрился он за какой-то буквально миг (Роза тотчас прихлопнула крышку) так подробно разглядеть медведя? И что без уха… И что глаз один… Потом вспоминает: да ведь вовсе не тогда разглядел, не в первый раз, а позже, когда его командировали вместе с Розой в Барнаул, чтобы они там выпустили на подшефном комбинате новогодний номер многотиражки. Как талисман возила с собой мишку…
К тому времени стала своим человеком в редакции, не очень часто, но печатались ее рисуночки, совсем крохотные, а еще придумывала сюжеты для рисунков больших, которые делали маститые художники, за что ей тоже подбрасывали деньжат. Кроме того, зарабатывала шитьем – руки-то у нее были золотые, а фантазия неистощимая. Как обхаживали ее редакционные женщины! Оглядев обновку, в какой являлась перед ней то одна, то другая, советовала медленным своим голоском: там оборочку прибавить, здесь руликом отделать или волан пустить, а вот от защипа, пожалуй, лучше отказаться… «Может, – улыбались, – сделаешь, Розочка?» И разве могла отказать она? Отказывать Роза не умела.
Кто-то проведал, что она немного поет, и на редакционной вечеринке принялись усаживать бедняжку за пианино. «Нет-нет, не надо, ну пожалуйста!» О, эта ее знаменитая фразочка! К-ов по собственному опыту знал, в каких интимных, в каких отчаянных ситуациях повторяла ее Роза, но кто же воспринимал ее всерьез! Срывали, не слушая, ажурную кофточку, юбчонку срывали – с Розой, утверждала молва, спали все кому не лень, и К-ову, когда собирался в Барнаул, предрекали, двусмысленно подмигивая, существование отнюдь не монашеское.
Что пела она на той редакционной вечеринке? Этого он вспомнить не мог, в голову другое лезло: как жили они в холодной барнаульской гостинице, где их поселили рядышком, через стенку, и они весело перестукивались, а под конец Роза изобрела способ переговариваться, используя в качестве микрофона (или телефона?) электрическую розетку в стене. «С днем рождения!» – раздался однажды утром, уже накануне отлета, ее голосок, и он, отстранив от лица жужжащую бритву, растерянно оглядел номер. Она засмеялась – точно не только слышала через розетку, но и видела.
Это и впрямь был его день, вот только как пронюхала она? И словом ведь не обмолвился, собираясь в командировку, даже предвкушал не без некоторого приятного смирения, как впервые в жизни отметит свое появление на свет в гордом одиночестве. Не тут-то было! Роза не ограничилась поздравлением, вечером преподнесла еще и цветочек, алую, с бантиком на бугристом стебельке гвоздику – это на исходе-то декабря, когда даже в Москве в отличие от нынешних времен живые цветы зимою были редкость! А тут – Барнаул, сибирский угрюмый город, где в двух шагах от центра с помпезными зданиями жались вдоль замерзшей Оби на высоких глиняных скосах деревянные хибарки, бродили куры, и баба в синем ватнике (картина эта и сейчас стоит перед глазами) несла на коромысле жестяные, льдисто отсвечивающие ведра. «А у нас, – вспоминает он слова Розы, – не так носят…»
У нас – это на Волге, в маленьком городишке, где она выросла, где начала рисовать и где ей, надо полагать, все уши прожужжали о необыкновенном ее таланте, который могут оценить разве что в Москве. Вот и махнула, уложив вещички, завоевывать столицу, а столица-то завоеванию не шибко поддается – здесь таких, как ты, прорва, и все отпихивают тебя, все теснят и толкаются, а если и протягивают руку, то не затем, чтобы поддержать, а чтобы схватить за грудь, маленькую детскую грудь, которую ты пытаешься защитить – «Нет-нет, не надо, ну пожалуйста!» – но кто же слушает тебя, большеглазую куколку!
Сперва у родственницы жила – есть у нее в Москве родственница, она-то, поведали К-ову редакционные женщины, и ухаживает сейчас за умирающей Розой, – потом снимала где-то у черта на куличках комнату и работала, работала с утра до вечера, рисовала и шила, шила и рисовала: копила деньги на кооперативную квартиру. Теперь эта квартира, если опять-таки верить женщинам, отойдет той самой родственнице, с сынком которой, беспробудным пьянчугой, состояла Роза – ради прописки! – в фиктивном браке. Без прописки кто же примет в кооператив!
К-ов раза два или три видел этого муженька, в редакцию являлся, опухший весь, с синячищами под глазами, отзывал Розу в сторону и требовал денег. Торопливо совала она, что было, но было иногда очень мало, не хватало на бутылку, и тогда она бежала занимать. «Бикше, что ли?» – спрашивали насмешливо, и она, закусив губку (а в огромных глазах – слезы!), быстро, виновато кивала.
До сих пор понятия не имеет К-ов, то ли фамилия была такая у ее мужа – Бикша, то ли прозвище и куда потом этот самый Бикша сгинул. Одно известно ему доподлинно: с законным супругом Роза не спала, она сама сказала об этом К-ову, и таким голосом сказала, с таким сказала ужасом и с таким омерзением, что К-ов поверил: не врет. Да и зачем врать ей!
Вазы для цветов в номере не было, в графин сунул гвоздику с бантиком, а сам спустился в буфет, купил бутылку рома– бог весть, откуда взялся на Алтае кубинский ром! – набрал закуски, которую ему завернули в толстую серую оберточную бумагу, приволок все в номер и, приблизив губы к розетке, послал сквозь стену официальное приглашение.
Роза не заставила себя упрашивать. И четверти часа не прошло, как стояла в проеме распахнутой им двери – торжественная, сияющая, в черном длинном, с блестками на груди вечернем платье. Бедный сочинитель! Никогда не забыть ему, как пытался застегнуть пиджак, которого не было на нем, висел на стуле, и он, стащив этот куцый пиджачишко, принялся, с извинениями и комплиментами, вталкивать в него руки.
Закуска так и лежала на оберточной бумаге – из посуды в номере имелся лишь стакан, один-единственный, второй он попросил, выкрикивая в розетку свое приглашение, захватить с собой. Но она без стакана пришла. Не по забывчивости, понимает он теперь, умудренный опытом (да и Роза никогда ничего не забывала!), а подчиняясь врожденному чувству формы. В таком-то платье, в туфлях на высоких каблуках и вдруг – пошлая посудина в руке!
Он спохватился, что нет хлеба. Ни хлеба, ни воды, а ром она, оказывается, не пила, вообще ничего спиртного, – и он, накинув пальто, умчался с бьющимся сердцем в магазин. Будет, понимал он, все будет у них нынче, все-все… На радостях купил торт, большую белую коробку, перевязать которую было нечем, на растопыренной пятерне нес, высоко подымая, чтобы согреть пальцы дыханием, а бутылки с водой рассовал по карманам. Постучал ногой, но ему открыли не сразу, а когда открыли, молвив: «Прошу!» – и отошли с грациозным приседанием в сторону, запыхавшийся именинник увидел на месте жратвы в оберточной бумаге роскошно сервированный стол. Роль тарелок выполняли вырезанные из тетрадных листков ажурные салфеточки, вазочка стояла, тоже бумажная, чернели неровные острые кусочки шоколада, а из шоколадной фольги сотворила рюмочки. К-ов зажмурился. Будет, все будет! – а Роза тем временем сняла с окоченелой ладони торт и поставила на середину стола, ничегошеньки при этом не сдвинув, будто знала уже, что торт явится, и загодя приготовила местечко.
Куда делся этот сиренево-белый, с пирамидами и цветочками, тортище? Не могли же они слопать его вдвоем!.. Глупенький вопрос этот неотступно вертится в башке – точь-в-точь, как вертится и не уходит навязчивое желание вспомнить, что пела тогда потерянная татарская девочка на редакционной вечеринке. Уж не заслоняется ли он, мелькает в голове, этими необязательными, этими несуразными, этими оскорбительными для умирающего человека вопросиками от чего-то важного, что он может – да-да, может! – но не хочет понять? Чепуха! Совесть его чиста перед Розой, чиста совершенно, ибо так ведь ничего и не было у них в барнаульской гостинице. Хотя пытался… Обнял, захмелев (ладонь до сих пор помнит шершавость обсыпанного блестками платья), но она сжалась, как воробушек, и так жалобно, так проникновенно взмолилась: «Нет-нет, не надо, ну пожалуйста», что он, идиот, лишь осторожно поцеловал ее в висок (в висок! о господи!) и отнял руки…
Идиот, сентиментальный идиот, размазня, сочинитель – так поедом ел себя после беллетрист, и в самолете ел, когда на другой день летели обратно, и в Москве, где они время от времени встречались в редакции, и она сияла на него восторженными глазами, а алые губы ласково складывались, будто собирались произнести что-то очень тихое.
Не произнесли… Так и не произнесли, и он мало-помалу успокоился, а теперь, когда она умирает в своей кооперативной, с такими муками заработанной квартире, даже рад, что все обошлось тогда. Рад! От неожиданности К-ов замедляет шаг, потом совсем останавливается под ярким весенним солнышком (капель, воробьи чирикают) и вдруг сознает, психолог, что эта-то потаенная радость – радость его все-таки непричастности к обреченной, со вздувшимся животом Розе – и есть то самое чувство, от которого он малодушно отгораживается дурацкими вопросиками.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































