Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
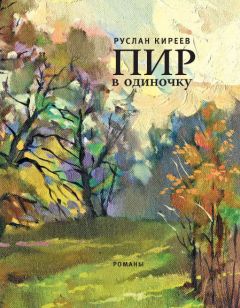
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 42 страниц)
Отчетливо видел, как в сопровождении чаек подплывают к поселку, как хрипатый матрос бросает канат на пристань, а потом с грохотом выдвигает дощатый трап. Трап покачивается вверх-вниз, но дочь – ничего, она ведь опытный путешественник. Решительно ступает на хлипкий мостик. В руке – и это он тоже видел – авоська со спасательным поясом. Пористые белые сегменты трутся друг о дружку, издавая сухой, шуршащий, сугубо летний звук… Словом, начало рассказа было готово, садись и пиши, но дело застопорилось самым неожиданным и не литературным отнюдь образом: героиня запротестовала. Лицо красное, слезы на глазах… С такой враждебностью, с таким презрением она, кажется, не смотрела на него ни разу. «Предатель! – читал он в ее взгляде. – Предатель!»
К-ов растерялся. Ну ведь это, принялся объяснять, рассказ, литературное произведение, кому в голову придет, что родную дочь описывает! Да и не ее вовсе, просто взял некоторые мотивы. Ситуацию взял. Больно уж необычна, нестандартна, он не читал подобного… Она не слушала. Всхлипывала и вздрагивала, терла нос скомканным платочком. И тогда он – а что оставалось делать! – пошел на попятную. Хорошо, сказал, не буду. Слышишь? – не буду.
Платок замер; зажатые между пальцев, белели кружавчики. «Честное слово?» – произнесла она, и таким взрослым, таким женским – именно женским! – был сипловатый от волнения и слез голос. «Честное слово», – поклялся он и обещание сдержал. Ни строчки не было написано, но это на бумаге, в голове же история болгарского домика, как он условно окрестил ее про себя, складывалась потихоньку в единое и связное целое. И не беда, что многих кусочков недоставало, – на помощь фантазия приходила. Пробелы заполнялись мало-помалу, и даже высветился финал: рассказ заканчивался на той же пристани, где и начинался. Они не уезжали еще, нет, впереди была целая неделя беспечной курортной жизни. Уезжали другие – юная пара, которая, не подозревая ни о чем, стала причиной страданий, и восторгов, и слез, и смеха, и сладких снов, и первой бессонницы… Из-за которой пятнадцатилетняя девочка жертвовала даже купаньем. Сопками жертвовала…
Здесь, наверху, паслись на длинных веревках козы и всегда был хоть маленький, но ветерок, что делало это место идеальным для запуска воздушных змеев. Их и запускали тут – кто самодельных, кто фабричного производства. (Из-за границы привозили.) Эти последние напоминали гигантских мотыльков. Заходящее солнце ярко освещало их, а над ними, всегда почему-то в одну сторону, медленно тянулись то поодиночке, то небольшими стайками темные, усталые живые птицы, такие невзрачные по сравнению с птицами искусственными.
Прошлый раз, три года назад, важные обладатели импортных мотыльков иногда давали дочери К-ова подержать игрушку. Нить водило туда-сюда, она подрагивала в руке и вдруг исчезала. Растворялась в солнечном свете. Змей парил сам по себе, вольно и независимо, как птица, и девочка боялась, что он, как птица, улетит к скалам. А мать с отцом сидели поодаль на теплой, жесткой, сухой земле вполоборота к ярко-синему, ровному внизу морю, по которому полз белый кораблик, растирали в ладонях твердые бугристые стебельки южных трав с их пронзительным ароматом. Казалось, дочь, подобно желтому, с черными пятнышками мотыльку, тоже сама по себе, отдельно от них, и это тешило родительскую гордость, однако нутром ощущали натяжение, напряжение связывающей их незримой нити.
Лишь через три года оборвалась она. Ровно через три, в этих же местах, встречу с которыми они так предвкушали среди долгой стужи. Нить оборвалась, и легкое дитя их понесло, подбрасывая и кувыркая, а они, тяжелые, остались на месте. На своем бугорке сидели, растирали и нюхали травы да изредка поглядывали, теперь уже без особого интереса, на хвостатые геометрические фигуры в небе.
С чего началось все? Конечно, с домика, с болгарского домика, где жили три года назад. Сейчас их в корпус поселили, двухэтажный, из белого камня, что считалось классом выше. А ей не понравилось. Домик, твердила, лучше. Они расценили это как каприз, как детскую наивность – не ценит комфорта, глупенькая! – и лишь после сообразили, что то был симптом повзросления.
Один из симптомов… Тот же, например, спасательный пояс можно ведь было и не брать вовсе, давно плавать выучилась, но ей хотелось, чтобы пояс с ней поехал. И вообще чтобы все было как тогда. И домик (она помнила его номер – шесть дробь восемь), и дальний, у окна, стол, и златозубая официантка… Все как тогда, словно время замерло, остановилось, а она вперед ушла, убежала, и все-то у нее теперь будет иначе. Все! Это предчувствие нового, это ожидание необыкновенных и значительных событий переплелось с радостью возвращения – первого в ее жизни возвращения в детство. Значит, детство и вправду кончилось, но, оглядываясь, она не грустила, как грустят взрослые (совсем взрослые), а веселилась и праздновала душой.
Сунув пояс под кровать, где он пролежал, забытый, до самого отъезда, переоделась и выпорхнула – пусть родители разбирают вещи. Быстро по аллейке шла, между южных деревьев, уже начавших желтеть от зноя и засухи.
Ноги сами свернули к болгарским домикам, и в первый момент молодая курортница не узнала их. Как теремки стояли: маленькие, цветные и почему-то очень близко друг от друга. Будто кто-то большой и сильный аккуратно сдвинул их, нагнувшись, могучими ладонями. Три года назад, во всяком случае, не теснились так и разноцветья, как теперь, не было. Все – одинакового зеленого цвета; посторонний вряд ли мог отличить один от другого, а она хоть бы раз перепутала! Но это тогда, а сейчас, растерявшись, не сразу отыскала свой. Спасибо номер помог: шесть дробь восемь. Цифры крупно желтели на голубом веселеньком фоне.
Проходя мимо, скользнула взглядом по распахнутому окошку, но увидела лишь графин с небольшой белой розой. Графин был такой же, как и тогда (или, может быть, тот самый?), и на том же стоял месте. Возвращаясь в знойные часы с пляжа, жадно пила из него… А вот сливовое дерево с синими от пыльцы, будто зрелыми, а на самом деле зелеными еще плодами. Она вспомнила, как исподтишка срывала по ягодке каждые два-три дня – вдруг поспели! – но так и уехала, не попробовав.
Навстречу шла тетенька в белом халате. В руке – ведро, а из ведра веник торчит… Юная москвичка мгновенно узнала ее и радостно, звонко поздоровалась. Женщина скользнула по ней равнодушным взглядом, ответила негромко, и они разминулись. Одна заканчивала жить, другая начинала, но все-таки это было не самым началом, не первым кругом, а уже вторым. Вторым! Ее переполнял восторг узнавания – новое, доселе неведомое ей чувство. Разве подозревала когда-либо, что таким родным может быть обыкновенное сливовое дерево! Или казенный, из грубого стекла графин, замечательно превращенный в вазу для цветов…
На другой день благоухала уже не белая, а красная роза, а еще через день – опять белая. «Позавчерашняя небось», – усмехнулся К-ов, с которым она пока что делилась своими наблюдениями. (Потом лишь мать будет ее доверенным лицом.) «И ничего не позавчерашняя! Та меньше была». Самой же рисовалось (домысливал беллетрист) как на рассвете, когда поселок еще спит, к домику подкрадывается некто в джинсах, встает на цыпочки у распахнутого окна и дрожащей рукой просовывает в графин колючий стебель. Поселок спит, но не весь, не весь, и едва взлохмаченная голова исчезает, с кровати неслышно подымается белая тонкая фигура, неслышно скользит босиком к окну и склоняет над прохладным, с тугими лепестками цветком прекрасное лицо. Да, прекрасное – пятнадцатилетняя фантазерка ни на миг не сомневалась в этом, и когда наконец увидела ту, что жила, тоже с родителями, в их бывшем домике, то существо это показалось ей самим совершенством.
Реалист К-ов не находил этого. Обыкновенная девушка, в меру милая, в меру живая, с хорошей фигуркой, на что, впрочем, не он обратил внимание, а его пляжный знакомец. Языком причмокнул, седобородый жуир, отпустил, не скупясь, два-три сугубо мужских словечка.
Их услыхала дочь К-ова. Услыхала и возненавидела бородача – мгновенно, люто, «на всю жизнь». Прежде внимания не обращала – мало ли с кем общаются родители! – теперь же говорила о нем брезгливо и хлестко.
К-ов, посмеиваясь, защищал бородача. Человек как человек, не хуже и не лучше других, но она свое ладила: мерзкий, мерзкий!
Отца забавляла ее наивная нетерпимость. Разомлевший под южным солнцем, благодушествующий, не распознал опасности. Бородач ведь действительно был не хуже и не лучше других. А может, даже и лучше… Конечно, лучше, если вообразить всех, с кем ее рано или поздно столкнет жизнь.
Обитательница домика была года на три или четыре старше своей тайной поклонницы. «Девушка с розой» – так мысленно звал ее К-ов, хотя никаких цветов в руке у нее не видел ни разу, только в графине. Зато много раз видел того, кто цветы эти, по-видимому, дарил. Не украдкой приносил ранним утром, когда все еще спят, а дарил открыто. Всюду вместе были – юная счастливая пара, затерявшаяся среди множества ей подобных.
Впрочем, это для других затерявшаяся, дочь выхватывала их взглядом мгновенно. И в густой толпе на набережной. И у кромки моря. И в самом море, где плавали вместе, совсем вроде бы неразличимые с берега… Внимательно и ревниво следила за ними, и если они смеялись, она тоже смеялась, если хмурились – хмурилась и она, а когда случались короткие размолвки и они не только не разговаривали, но и демонстративно держались на расстоянии друг от друга, ходила точно в воду опущенная. «Что с ней?» – недоумевал К-ов. Жена, которой под большим секретом доверялись самые жгучие тайны, шептала в ответ: «Поссорились».
Сперва он никак не мог взять в толк, какая связь между ссорой посторонних совсем людей и его дочерью. «Она ведь не знает даже, как зовут их». – «Знает», – сказала жена, растирая пальцами пахучие листики. Огромный солнечный диск скользнул – буквально на глазах – за горную гряду, и сразу угасло все, посерело, только искусственный мотылек играл в небе оранжевым брюшком. Громче и жалобней заблеял привязанный к колышку белый козленок. Других забрали уже, увели домой, а об этом забыли, что ли… Доверчиво бросался он навстречу каждому, кто проходил мимо. Он-то бросался, но веревка не пускала. За шею дергала – куда, дескать, – и он затихал, подавшись вперед на тонких ножках. Только голова недоуменно поворачивалась вслед удаляющемуся человеку.
Одна ссора была особенно долгой. Обычно мирились к вечеру, а тут нет. Она в домике сидела без света (родители, установила зоркоглазая наблюдательница, в кино ушли), а он отправился, вырядившись в белые штаны, на дискотеку и танцевал с другой.
Дочь потрясло это. С окаменевшим лицом явилась домой, легла, отвернулась к стене, но не спала долго и все сморкалась, сморкалась. Отец знал, что означает этот внезапный насморк. Он тоже не спал, думал, а когда на другой день, привычно и необременительно томясь в по-курортному длинной очереди за газетами, которые должны были привезти с минуты на минуту, увидел их на лодочной станции (кавалер, в плавках и рубахе, сталкивал в воду морской велосипед), то, не дождавшись газет, поспешил к дочери.
Она сидела, одетая, на краешке чужого топчана, подымала, и роняла, и снова подымала серый кругляш. Он подождал немного и осторожно коснулся худенького плеча. Без интереса повернула она голову. Что хорошего могли сообщить ей!
Молча показал он глазами на море. Дочь, все так же без интереса, проследила за его взглядом и не увидела ничего примечательного. «На велосипеде», – подсказал он. Но и тут не сразу разглядела, лицо еще несколько мгновений оставалось скучным – и вдруг ожило, засветилось. Вся вперед подалась, как тот козленок, когда пришла наконец хозяйка.
Велосипед медленно удалялся от берега. Влюбленные лениво крутили педали, ни о чем не подозревая. Не догадываясь, что есть у них свой ангел-хранитель. Да-да, ангел-хранитель, который незримо опекает их. Они, например, беспечные, в море бултыхаются, а чужая девочка, любуясь ими, ни на миг не выпускает из поля зрения их беспризорные вещи. Вдруг польстится какой-нибудь злоумышленник! Ах, как бросилась бы она на выручку! Спасла б, сложила аккуратно и вернулась бы, удовлетворенная, на пункт наблюдения.
Увы, на пляже злоумышленники не промышляли. Зато в столовой отыскался один, похитил со стола, где сидели влюбленные, солонку. Они-то не заметили, до солонки ли им, а она дождалась, пока столовая опустеет, и вернула украденное на место.
В другой раз им не хватило билетов в кино. Дочь тут же объявила, что фильм неинтересный, лучше у моря погулять, и не одной – ей надоело одной, – с родителями. Она, видите ли, о родителях соскучилась. «Ну пожалуйста, папочка!» К отцу обращалась, не к матери, ибо мать и без того поняла все и уже доставала билеты, чтобы уступить их прелестной обитательнице болгарского домика.
Ни она, ни ее друг ничего не замечали. Конечно, взгляд их не раз и не два скользил по голенастой, с отрешенным лицом девчушке (при них она напускала на себя этакую серьезность), но не выделял ее среди других и лишь в последний день, в последний час, в минуту последнюю удивленно задержался.
Уже на причале были они, с вещами, а она и с родителями, которые, впрочем, держались на расстоянии. Мокрые волосы дарителя роз блестели на солнце: искупался, пока катера ждали, причем не просто искупался, а, нырнув в маске – только пятки сверкнули, – достал со дна камушек. Там, на дне, он переливался и пульсировал точно живой, теперь же уменьшился и поугас. Умер… Но и мертвому ему предстояло все равно ехать за тридевять земель и валяться забыто в какой-нибудь тумбочке. Месяц ли, год – до тех пор, пока его с удивлением не обнаружат однажды. «А это еще, – спросят, – что?» И никто не вспомнит, откуда, собственно, взялся сей непрезентабельный голыш и для чего пылится тут. В помойку его! В мусоропровод! Но это когда еще будет, а пока что вдохновенный ныряльщик держит его, как драгоценность, на раскрытой ладони. И вдруг спохватывается: маска! Забыл маску на пляже… Бежать порывается, но катерок уже рядом, уже брошен канат, похожий на заплетенную туго косу, уже трап установлен. «А! – машет рукой немелочной юноша. – Пусть остается». И, пропустив вперед даму, подхватывает вещи.
Народ напирает – каждый спешит занять место получше, – и лишь девочка в пляжном сарафане пробирается сквозь толпу на берег. С ног шлепанцы соскакивают, она подхватывает их и босая мчится по раскаленному асфальту.
Маска лежит себе целехонькая. Синяя, в трещинах резина высохла, но на стекле еще сверкают капельки моря. Девочка хватает ее – и назад, к причалу, огибая неспешных, разморенных жарой курортников… Успела! Они на катере, но катер не отошел, и она отчаянно машет маской. Только машет – по имени окликнуть не поворачивается язык. Оба недоуменно таращат на нее глаза, и тогда она выдыхает: «Ваша!»
Прижавшись к борту, тянет он руку. Загадочная благодетельница тоже тянет свою – вот сейчас, сейчас коснутся друг друга, но море дышит, и судно то вверх уходит, то проваливается вдруг.
Трап с грохотом задвигают. Встав на цыпочки, девочка делает последнее отчаянное усилие, и маска – в руках хозяина. «Спасибо!» – кричит он. Кричит, потому что полоска воды между ними уже расширилась, катер удаляется.
Спасительница маски все не может отдышаться. В одной руке – шлепанцы, другой машет на прощанье, и такое счастливое, такое сияющее лицо… Катер удаляется, скоро на его место причалит другой, с пассажирами, людской поток подхватит ее, закрутит, понесет с пирса. Кто-то на босую ногу наступит… Кто-то толкнет… Какой-нибудь молодящийся бородач окинет с головы до ног плотоядным взглядом… А она, не подозревая об опасностях, которые подстерегают ее, будет идти и улыбаться и думать об уплывших. Те тоже некоторое время будут думать о ней, растерянно плечами пожимать, но так и не догадаются, кто охранял их все эти счастливые дни своей любовью и своей чистотой…
Об этой как раз любви и намеревался написать беллетрист К-ов, но дочь, услыхав – уже осенью, уже в Москве, – ударилась в слезы. «Предатель! – читал он в ее взгляде. – Предатель!» Торопливо отступил он, слово дал – честное! – что писать не будет, когда же год спустя она это слово великодушно вернула ему, поскольку теперь то летнее приключение казалось ей всего-навсего забавным казусом, пусть папа опишет его, если хочет, то сочинитель книг с удивлением почувствовал: нет, не хочет. Лирический аспект этой истории не волновал его больше. О другом была тайная мысль его и тайная боль. У того, угадывал он, кто сам ангел-хранитель, своего ангела нет. Откуда взяться ему? Небо-то одно… Небо одно – и для птиц, и для воздушных змеев. И для ангелов тоже.
Пожар в ветреную погоду на складе декорацийПервые пять лет, до получения квартиры, жили в доме тестя. Дом тестя был таковым не только по своему юридическому, так сказать, статусу. Тесть строил его. Собственными руками. Весь – начиная с фундамента и кончая крышей, которая сначала была черепичной, а потом, уже при зяте (и при его непосредственном участии), стала железной. Ибо железо, растолковывал хозяин, во много раз легче черепицы, хотя хлопот с ним больше: периодически красить надо.
К-ов в этих делах не смыслил совершенно. Обязанности подручного выполнял, чернорабочего, а архитектором, инженером да и главным исполнителем был этот пузатый чужой старик. Да, чужой, пусть даже официально и породнились.
Как ни странно, это не сблизило их, а, напротив, разъединило. Живя под одной крышей (сперва черепичной, затем железной), убеждались каждодневно, сколь различны они. Один копал, сажал, стругал, сверлил, красил, белил, другой с книжечками в основном возился. Что не мешало им относиться друг к другу с уважением. К-ов восхищался смекалкой и сноровкой тестя, его золотыми руками, а тесть, в свою очередь, гордился втайне ученостью зятя. И тем не менее были они чужими. За одним столом сидели, один ели борщ или одно делали дело (бурили, например, скважину), но все равно в разных мирах жили, и как же далеко отстояли друг от друга эти миры!
В доме с утра до вечера не стихал шум: хозяин двигал что-то, кряхтел, ругался на жену. В поисках тишины зять подымался на чердак, где пристраивался у слухового окна с книгой в руках. Отсюда хорошо просматривался березовый лес – еще молодой, посадка. Едва ли не у самого забора начинался и уходил вдаль, до белого фабричного корпуса, за которым скрывалось по вечерам солнце. Но скрывалось не насовсем. С обеих сторон корпуса были окна, и лучи золотисто пробивались сквозь них, отчего огромное здание сплющивалось до одной-единственной стены с пробитыми глазницами. Точно гигантскую декорацию установили за лесом, который в эти минуты тоже казался ненастоящим.
Это было удивительное зрелище. Удивительное и тревожное. Иной, скрытый мир на миг являл себя взору, напоминая о непрочности, зыбкости, недолговечности всего, что нас окружает.
Сравнение с декорацией приходило в голову не случайно: поблизости располагался склад, где киношники держали свою отработанную утварь. Чего только не было тут! Колонны и балюстрады, русские срубы и индейские хижины, беседки прошлого века и космические корабли века будущего…
Окна вспыхивали, едва солнце переваливало за корпус, а стена – та темнела и как бы даже обугливалась. Частью порушенного целого казалась она – не важно, что в здании еще гудели станки и ходили люди. Следы обреченности уже проступили. Недвижимо и бесшумно сидел чердачный наблюдатель на выступе бревна – настолько бесшумно, что хозяин дома, поднявшись однажды, не сразу заметил его. Вздрогнул от неожиданности, крякнул – тут и К-ов, очнувшись, увидел тестя.
Некоторое время глядели друг на друга не узнавая. (А может, правда не узнавая?) «Фу, черт! – буркнул старик. – Напугал меня!» И, почесываясь, двинулся в темноту.
Молодой тоже испугался, увидев возникшего перед ним человека. Понял, разумеется: хозяин, отец жены (кто же еще!), но в то же время – неведомое какое-то существо, от внезапной близости которого перехватило дух.
Вообще говоря, разных загадочных и суверенных существ вокруг роилось множество. К-ов убеждался в этом, когда сидел на скамейке под старой яблоней, а рядом пульсировала хоть и не сразу заметная, но, если приглядеться, интенсивная и обильная, многообразная жизнь. Жучки, муравьи, бабочки, зависшие в дымчатом ореоле мушки, тяжелые пчелы, легкие, на длинных лапах пауки и паучки совсем крошечные… Эти последние упорно штурмовали небо; незримая паутина, по которой взбирались они, вдруг тонко вспыхивала на солнце.
Человек внимательно наблюдал. Боялся: сорвутся и упадут, – но никакой иной тревоги, смутной и тяжкой, не подымалось в его душе. А ведь как отличались от него эти летающие, ползающие, барахтающиеся существа! Не подымалось в силу как раз отличия, в силу полного несходства между ним и каким-нибудь мотыльком, на крылышках которого ошеломленно рассматриваешь многоцветные узоры.
Как ни удивительно (пришел к выводу К-ов), но пугает именно сходство. И чем полнее оно, чем ближе друг к другу индивидуумы, тем жутче от сознания, что сходство-то сугубо внешнее, а за ним – провал, пропасть…
Напряженно всматривался он в человека, что, пыхтя и почесываясь, хлопотал по ту ее сторону. Иногда прерывался, конечно, пил на террасе чай (из блюдечка, громко отхлебывая), смотрел телевизор или с тем же К-овым гонял шары на бильярдном столе, собственноручно смастеренном, к восторженному изумлению знакомых.
Изумляться было чему. Массивный стол на резных ножках, с пружинящими бортами и ювелирно выделанными лузами если и отличался от фабричного, то в лучшую сторону. Но дело не в качестве даже. Двуспальная королевская кровать, скажем, заслуживала не меньших похвал, но кровать вещь привычная, а вот кто в наше время делает бильярды? Никто… Второго такого энтузиаста К-ов, во всяком случае, не встречал.
Что, может, заядлым игроком был его неутомимый тесть? Ничего подобного. Просто с незапамятных времен пылился в мастерской комплект шаров, то ли подаренный кем шутки ради, то ли купленный по дешевке. Вот и решил – не пропадать же добру! – изготовить все, что к шарам этим полагалось. И изготовил. Стол, четыре или пять киев, полочку с круглыми отверстиями, а также небольшую доску для писания мелом.
Тем же принципом – не пропадать добру! – руководствовался, затеяв бурение скважины для отвода грунтовых вод. В погребе появлялись эти коварные воды, где зимовали картошка и капуста, яблоки, бутыли с соком, а также емкости с самодельным вином из крыжовника и красной смородины. В данном случае, однако, не это все было «добром», пропадать которому негоже (к весне, когда ненадолго и в ничтожном количестве подступала вода, погреб опустошался уже), а лежащие вдоль забора трубы.
Прежде они валялись, брошенные, возле склада декораций. У старика сердце кровью обливалось. Останавливался, постукивал носком ботинка и, точно музыку, слушал с вдохновенным лицом долго не затихающий звон. «Какой металл! Сто лет в земле пролежит!»
В конце концов трубы оказались на участке среди зарослей малины. Здесь они, подобно бильярдным шарам, долго ждали своего часа и наконец дождались. Хозяин нашел-таки им применение. (Спасибо грунтовым водам!) К-ов в то время давно уже жил отдельно, в городской тесной квартире, но, призванный на помощь, добросовестно выполнял традиционную роль подсобного рабочего. «Давай!» – раздавалась команда, и он проворно перебирал ладонями в рукавицах позванивающую цепь лебедки.
Сперва бур шел легко, хоть и похрустывал камушками, потом началась глина, толстый, вязкий, бесконечный слой, пройти который требовалось непременно, чтобы добраться до песка. Дело застопорилось. Задыхаясь, мастер карабкался со своим брюхом по лестнице, проверял, не заклинило ли таль (К-ову столь ответственное дело не доверялось), спускался, снова карабкался…
В кармане лежала трубочка валидола. Сев на перекладину и сунув таблетку в рот, приходил минуту-другую в себя. «Может, хватит на сегодня?» – предлагал осторожно зять. Лучше б не предлагал! Старик сердился: как это хватит, пять метров прошли, пустяк остался… А было ему уже под семьдесят, уже сверстники умирали один за другим. Похороны, сороковой день, снова похороны и снова сороковой…
Однажды К-ов застал его в мастерской за изготовлением… Он даже ушам своим не поверил. «Чего?» – переспросил. «Гроба, – повторил тесть, – Матрена умерла, а гробы у них там из толя делают. Дерева нет». Там – это за сто с лишним километров отсюда, в районном городишке, куда свежеструганый, некрашеный, великолепный гроб отправился на крыше замызганных «Жигулей».
Перед этим тесть долго осматривал и охлопывал его. Гордился делом рук своих и, кажется, жалел, что такую славную штуку зароют в землю. «Мог хоть пять лет еще простоять. Хоть десять!» – «Где простоять?» – недоумевал зять. «Да вон, – кивал хозяин на свежекрашеную крышу. – На чердаке. У отца два их было. Себе и матери». Но следовать примеру родителей не спешил, собственным не обзаводился гробом, хотя все чаще и чаще заговаривал о том, что зятьку следовало б присмотреться к хозяйству. А то случится что, и… Главное, внушал, не запускать. Красить вовремя крышу (о крыше почему-то особенно пекся), следить за насосом и, если забарахлит, менять муфту. Их, муфт резиновых, полно в мастерской. Под верстаком лежат, слева…
Не по себе делалось К-ову, когда слышал такое. Отмахивался да отшучивался, но – удивительная вещь! – старик в эти минуты не казался таким безнадежно чужим, на том конце пропасти.
Оба были людьми неверующими, но неверующими по-разному. Один вообще не думал о подобных вещах – какой там Бог, чепуха все это, вон гусениц на яблоне полно, обрабатывать надо, – другой, напротив, размышлял об этом постоянно. Из головы не выходили слова, на которые наткнулся в одном из чеховских писем, уже поздних: за три года до смерти писал. Нужно, писал, веровать в Бога – нужно! – а если веры нет, то искать, искать, искать одиноко…
Отчаяние слышалось К-ову в этом трижды повторенном «искать». Уж не полагал ли Антон Павлович, что найти все равно не удастся? Видимо, полагал. Во всяком случае, спустя год, в другом письме, прямо говорит, что человечеству-де потребуются еще десятки тысяч лет, чтобы познать истину настоящего Бога.
А до тех пор? До тех пор, выходит, жить в неведении и пустоте? Верить на слово?..
Ни рационалист К-ов, ни прагматичный тесть его верить на слово не умели. Один логикой орудовал, другой так и норовил все вокруг руками пощупать. Хлебом не корми, дай только разобрать вещь, разложить аккуратненько внутренности, а после заново собрать все. Ну ладно, если насос или велосипед, а то ведь и за сложную технику брался. Раз забарахливший импортный магнитофон раскурочил, неделю колдовал, сопя и чертыхаясь, кроя японцев на чем свет стоит (хотя магнитофон не японский был, европейской какой-то марки), но починил-таки, и машина с тех пор работала безупречно. Какая уж тут вера! Ему и так хорошо было, пустота не пугала – ни вверху, ни сзади, ни впереди, то есть после него уже, вот только б красили своевременно крышу да муфту меняли.
Именно дом защищал от ужаса и произвола слепых небес, где даже в самой глубине, оказывается, нет всевидящих глаз. Дом! Только дом… И когда однажды в ветреный осенний день на складе декораций вспыхнул пожар, и пламя вскинулось до небес – тех самых, незрячих, – и клочья живого липкого огня неслись в направлении его деревянного жилища, а пожарных все не было и не было, – то здесь уж старик перетрухнул не на шутку.
Треск, уханье, а время от времени – пушечная прямо-таки канонада. В воздух взлетали створки шкафов, у которых никогда не было ни боковин, ни днища, античные лепные фонтаны, откуда ни разу не била вода, золоченые кареты, так и не познавшие дорожной тряски. Ажурный мостик прокувыркался в россыпи искр, потом – мост железнодорожный с могучими опорами из картона. Целая цивилизация гибла на глазах, но цивилизация не взаправдашняя, а некое подобие ее, фантом, форма, давно и напрочь утратившая содержание. Поднялась и словно бы зависла на миг церквушка, вернее, ее фанерный силуэт с куполом и крестом, уже объятым пламенем. В какой-то миг К-ову почудилось, будто видит он вздыбленную фабричную стену – ту самую, с золотистыми окнами…
Порывы ветра далеко относили огненные снаряды. Некоторые падали на участок, на перекопанные грядки и клумбы с отцветающими астрами. А пожарники все не ехали. И тогда старик, запыхавшийся, с всклокоченными волосами, отшвырнув лопату, которой забивал угодившую в парник головешку, принялся торопливо разматывать слипшийся, задубевший – давно не поливали – шланг. К-ов бросился на помощь. Вдвоем растянули кое-как, и хозяин врубил насос. Шланг зашевелился, медленно оживая. Очень медленно…
Тесть тряс его и раскачивал. Рубаха расстегнулась, по белому пузу катился пот. Наконец выплеснулась первая порция воды, но струя тут же опала; прошла долгая секунда, прежде чем она распрямилась и окрепла. Старик направил ее на дом. «Форточку! – заорал. – Форточку закрой!» К жене обращался, но та стояла, прижимая к груди допотопные дамские сумочки и ничего не разумея, кроме одного: документы здесь, с нею.
Зять кинулся в дом, задраил окна, на которых уже сверкали брызги. Когда вернулся, тесть со шлангом карабкался по лестнице вверх: струя была слишком слабой, чтобы достать до свежекрашеного резного карниза. «Давайте я!» – крикнул К-ов, но разве мог хозяин доверить кому-либо спасительную кишку! «Ведрами! – орал. – Ведрами! Из бочки!»
К-ов понял. Огромная железная бочка с водой, предназначенной для полива картошки, стояла в отдалении, у грядок с вывороченной пожухшей ботвой, и он двумя ведрами бегом таскал ее оттуда, выплескивал с размаху на стены. Так и поливали – один сверху, другой снизу, – пока не подкатили наконец пожарные и не задушили огонь белой громоздящейся пеной.
Все, опасность миновала. Выключив насос, хозяин грузно опустился на перевернутую лейку. Устало общупал карманы мокрых штанов. «Валидол?» – догадался зять, тоже весь мокрый. Полетел в дом, принес спасительную трубочку. Выковыряв таблетку, положил на доверчиво подставленную ладонь.
Отец жены медленно сунул ее под язык. Дряблая, в седой щетине шея тяжело провисла, ко лбу желтый листок прилип, а на макушке торчал, как у ребенка, пепельно-серый хохолок.
От склада, еще недавно хранившего в своем чреве то, что люди доверчиво принимали за подлинную жизнь, несло гарью. Старый человек утомленно прикрыл глаза, а молодой смотрел на него с бьющимся сердцем и – узнавал. Себя узнавал, свою сиротливость и беспомощность, однако страха не было в душе. Сходство не пугало, как прежде. Ибо сейчас это было иное совсем сходство, не то, что раньше, не близко увиденное, как тогда на чердаке, а словно бы схваченное чьим-то зорким глазом с головокружительной высоты. С той самой высоты, куда безуспешно пытались взлететь в огненных протуберанцах фанерные подобия земных предметов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































