Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
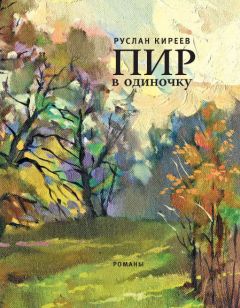
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Ожидал, разумеется, что не узнает дома – столько лет прошло, да и был-то всего несколько часов, но что так не узнает, явилось не просто неожиданностью, а знаком, предзнаменованием, предупреждением, если угодно. Замедлив шаг, окинул взглядом обшарпанный фасад с черными окнами пустующих квартир (еще тогда поговаривали, что сносить будут), с покосившейся водосточной трубой и пробитой крышей; рану в черепице прикрыли целлофаном, аккуратно обложив его кирпичиками, а на месте балкона торчал каменный выступ, из которого росло карликовое деревце. Дом, однако, изменился не только внешне, он изменился – для К-ова, по крайней мере – по сути своей, хотя и тогда это был дома Игоря Агатова, и теперь оставался им, но тогда живого Игоря, передавшего с оказией гостинец матери, а теперь – мертвого. Собственно, вот уж пять лет, как стал таковым, – да, в августе пять будет, – но ведь москвич еще не видел дома в этом новом качестве. И пожалуй, не увидел бы никогда, помешкай с приездом: явно последние дни доживало обреченное строение.
Сам Игорь говорил о родном очаге с легкой иронией; К-ов уловил эту интонацию, тогда еще едва заметную, и без умысла – а уж тем более без зла! – нечаянно как-то, воспроизвел в романе с двусмысленным названьицем «Триумфатор». Героем, правда, был не литератор, а экономист, но жесты, но привычки, но манера говорить – все агатовское.
Роман провалялся в столе почти десять лет и вышел, когда прототипа уже не было в живых. Смерть эта потрясла К-ова, но еще больше потрясло, что во внутреннем монологе героя мелькает, как бы предваряя будущую катастрофу, мысль о самоубийстве.
Ничего подобного К-ов не слышал от Агатова. Последнее время, впрочем, виделись редко, чаще перезванивались, причем звонил, как правило, Агатов, и не из дома, а из служебного кабинета, в который то и дело входил кто-то, о чем-то спрашивал, какие-то, видимо, совал бумаги, и бывший паркетчик (до института триумфатор работал паркетчиком), не кладя трубки, бросал короткие реплики, дакал и гмыкал, беллетрист же, нечаянно предсказавший не только страшный конец, но и предшествующее ему победоносное восхождение, скромно и терпеливо ждал.
Восхождение это началось как-то незаметно, исподволь, но затем, к удивлению К-ова, пошло бурно – к удивлению, да, хотя роман с красноречивым названием уже лежал в столе, дожидаясь своего часа. Сочинителя поражало, с какими значительными людьми общается бывший сокурсник. Как небрежно, а то и снисходительно, с не очень-то скрываемой иронией упоминает имена, столь хорошо известные всем. В отличие от К-ова, для него это были не просто имена, для него это были близкие знакомые, в чем беллетрист убедился, когда увидел агатовскую библиотеку. Судя по дарственным надписям, знаменитые авторы не просто уважали, не просто любили Игоря Васильевича, но числили себя его друзьями.
Библиотека осталась жене. Ей все осталось – мать забрала только альбом с фотографиями, причем фотографиями не последних лет, а старыми (сын хранил их почему-то в ящике со столярным инструментом), да пухлые, исписанные от корки до корки оранжевые тетради. С того времени, то есть времени похорон, К-ов не видел ее и теперь сомневался: вспомнят ли его здесь?
Открыли, едва постучал, не спрашивая даже, кто там, хотя час был не ранний и готовый к сносу дом наполовину пустовал. Высокая худая старуха стояла перед ним, простоволосая, с жилистой шеей. «Не узнаете?» – пробормотал гость. Он бы уж, если б встретились на улице, не узнал точно…
Спокойно и тихо, без видимого усилия назвала женщина имя неожиданного визитера. «Ничего себе! – искренне восхитился сочинитель книг. И прибавил, подумав: – Теперь понимаю, в кого у Игоря была такая память».
Память у Агатова была и впрямь редкостной: пробежав глазами текст, мог едва ли не дословно пересказать все; примерно то же самое проделывал в романе ас от экономики, виртуоз социальной адаптации, как выразился один из критиков, но мать виртуоза, полуграмотная женщина, всю жизнь проработавшая штукатуром, роман наверняка не читала, на этот счет беллетрист мог быть спокоен. «Я в командировке здесь. Вчера прилетел… Хотел бы на кладбище сходить».
В записке, которую оставил Агатов, не было ни объяснений, ни упреков, лишь пожелание: похоронить урну с прахом в родном городе. Не тело – именно прах, он специально оговаривал это, желая, видимо, избавить мать от сложных и дорогостоящих хлопот… К-ова не было в Москве, на юге отдыхал – ел персики и горячую кукурузу, на пляже валялся, и здесь-то, на пляже, выйдя, обессиленный, из августовского моря, узнал, что Агатов покончил с собой. Не из первых узнал рук, через третье или четвертое лицо, которое, будучи далеким от литературы, даже фамилии этой не слышало и нелепо исказило ее. Тем не менее К-ов понял, о ком речь. Понял мгновенно, словно давно ждал в глубине души этой вести. Тут же стал натягивать на мокрое, враз озябшее тело штаны и рубашку: бежать куда-то, звонить, ехать! Ну да, ехать, лететь – еще ведь можно успеть на похороны и тем хотя бы немного искупить смутную свою вину, которая в самолете трансформировалась в алогичное, несуразное, дикое ощущение тайной причастности к случившемуся.
Конечно, дикое; последние годы практически не общались, дистанция между ним и Агатовым, который шел, как ракета, вверх, постоянно увеличивалась, и вот только теперь, когда так страшно и нелепо грохнулся наземь, стремительно сократилась: снова вместе были, рядом, как в их первую московскую зиму, когда, юные провинциалы, хаживали на танцульки в тесные клубы, где на них никто не обращал внимания; во всяком случае, девушки не спешили пригласить на белый танец, а если и приглашали, то лишь К-ова – Агатов стенку подпирал, и на его круглой, плебейской, как он сам говорил, физиономии (словечко это тоже перекочевало в роман) сияла улыбка до ушей.
Судя по чистоте, которая царила в квартире, по скатеркам и салфеточкам, уезжать пока что не собирались. «Но ведь снесут», – сказал московский гость, угощаясь настоянным на смородиновом листе крепким чаем, и старая женщина подтвердила: снесут. Потом поинтересовалась осторожно: где остановились? – и услышав, что в гостинице, робко молвила, что можно было б и здесь, места много; заодно – если, конечно, есть желание – посмотрели бы бумаги сына. Бумаги, аккуратно сложенные – папки, папочки, а также те самые оранжевые тетради, – лежали на этажерке в его комнате. «Игорь делал?» – кивнул на этажерку товарищ студенческих лет и сам почувствовал, как пусты его слова, особенно сейчас, возле притаившихся записей, как неуклюжа попытка сказать матери приятное. Помню, дескать, не забыл. Женщина торопливо, смущенно как-то закивала. Это неумеха К-ов восхищался золотыми руками ее сына, который чего только не мастерил в своей московской квартире, а она головой восхищалась, золотой его головушкой.
Ах, как, должно быть, жалела теперь о малой своей грамотности! На папки посмотрела, ввалившийся темный рот плотно сжался, но, сделав усилие, разомкнула-таки губы. «Может, заночуете? Я здесь постелю. Белье новое… При нем еще покупала». При нем и для него – конечно, для него! – вот только зря покупала: сын не приехал. Хорошо хоть друг пожаловал, пусть и через пять лет…
Друг? При жизни Агатова, даже во времена их близости, слово это так и не слетело ни разу с уст К-ова. Да что с уст – про себя-то не отваживался произнести, а вот Агатов с некоторых пор бросал его с легкостью. Но это вслух, а про себя что думал? Что писал по ночам в оранжевых тетрадях? Что-то нехорошее было в этом нахлынувшем вдруг любопытстве, в жадном и суетном (беллетрист чувствовал это) нетерпении.
О причинах страшной развязки толковали разное. Одни жену обвиняли, которая якобы упорно не давала развода, другие намекали на служебные неприятности, и вот теперь появилась возможность если не узнать все, то хотя бы снять нелепое чувство своей причастности…
Заканчивались оранжевые тетради женитьбой, начинались же с первых московских впечатлений. К-ов хорошо помнил это время, помнил Агатова, который, как ни горячи были студенческие споры, не встревал никогда, лишь зыркал то на одного, то на другого светлыми глазами. Тогда К-ов не приметил в этих быстрых взглядах ни насмешки, ни осуждения, а теперь прочел, к тревожному своему удивлению, жесткие слова. «Неужели, – прочел он, – земля наша так обнищала! Даже оторопь берет, кого напринимали в институт. Самодовольных, невежественных, готовых на все ради карьеры. Есть два или три хороших парня…»
Автор «Триумфатора» польстил себя надеждой, что, наверное, среди этих двух-трех числили и его – а иначе разве сошлись бы столь близко! – но как, оказывается, неполна была сочиненная им книга! Как узка! Как бедна по сравнению с реальностью, сумевшей целомудренно утаить себя!
Именно целомудренно – слово это прямо-таки пульсировало в голове взволнованного К-ова. Тот, кто превратился под его пером в ироничного и расчетливого супермена, прокручивающего всякий раз с десяток вариантов и мгновенно выбирающего оптимальный, был в действительности доверчивым идеалистом. Роман упрощал его, уменьшал, делал компактным и укладывал, послушного, в шкафчик, на котором можно было начертать мелом одно или два пригвождающих намертво слова. (Достало одного: триумфатор.) Это упорное стремление рассовывать людей по полочкам К-ов обнаружил в себе довольно рано, да так и не избавился. Вот и сейчас видел отдельно Агатова, героя дневников, и Агатова, героя романа, то были совершенно разные люди, однако по мере чтения они все более сближались, словно второй необъяснимым образом влиял на первого, подминал под себя, диктовал манеру поведения. Сочинитель узнал даже фразу из собственного романа: прототип, по сути дела, цитировал героя, о котором понятия не имел, – рукопись, еще не завершенная (К-ов специально посмотрел дату), лежала в столе, и ни одна живая душа не знала о ее существовании. Тем не менее факт оставался фактом: реальный живой человек как бы инсценировал книгу, в которую его насильственно впихнули, – он ощущал эту насильственность, ощущал духоту сжимающейся несвободы и писал об этом почти панически. «Господи, я ли это? Словно кто-то могущественный внушает мне делать то-то и то-то, я понимаю, как все это мерзко, но противостоять не в силах».
Шея затекла. К-ов медленно поднял, а затем и вовсе запрокинул голову. По потолку змеились полоски свежей извести – недавно, видимо, замазали трещины. Это в обреченном-то доме! Такие же полосы были на стене, возле портрета Лермонтова. В молодости Агатов обожал Лермонтова, собирался даже писать диссертацию, но это в молодости, еще до «Триумфатора», герой которого, расчетливый сухарь, говорит о поэзии с усмешливой снисходительностью.
Романист поднялся, сделал несколько осторожных, заглушаемых ковриком шагов. Коврик был старым, обветшал весь и наверняка помнил молодую легкую поступь покойного хозяина. Помнила хозяина и постель, где почетному гостю постелили все новенькое. Зря постелили! Несмятыми, понял К-ов, останутся девственные простыни: до утра бодрствовать ему, как когда-то, очень давно, бодрствовал ночи напролет над рукописью об ироничном победителе. То были часы веселого, дикого, самого его пугающего вдохновения, пугающего темной своей силой, неправедной, чувствовал К-ов (уже тогда чувствовал, уже тогда!), и оттого особенно сладостной.
Вернувшись к столу, открыл наугад последнюю тетрадь. «Скоро два, а я опять не сплю, опять думаю о том же. Понимаю, не я один, все вокруг – да-да, все! – живут не как хотят, а как диктуют обстоятельства, с которыми здравомыслящие люди не могут не считаться, но понимаю днем, а сейчас ночь. Боже, как любил я когда-то ночи, а теперь… Теперь ненавижу. Не-на-ви-жу! Лучше уж…» Конец фразы был на следующей странице, но К-ов не стал переворачивать, тихонько отошел прочь.
Полувыселенный, доживающий последние дни дом вздыхал и поскрипывал, на стене, как раз возле лермонтовского портрета, пробежала паутинкой – прямо на глазах! – свежая трещина и неслышно отошла дверь. На цыпочках приблизился беллетрист к светящейся щели, взялся за ручку, но прежде, чем прикрыть, успел заметить сидящую на табуретке женщину, неподвижную, с прямой спиной. Будто напряженно и чутко прислушивалась к тому, что делается в соседней комнате. Будто ждала, когда ночной пленник вернется к оранжевой тетради и, перевернув-таки страницу, дочитает, как приговор, незамысловатую фразу.
Не целуйтесь, когда смотрю на васС обоими познакомился сперва заочно, по рукописям, талантливым и неумелым, однако именно неумелость, именно отсутствие литературного опыта, который позволяет пишущему благополучно утаивать себя, приоткрыли юных дебютантов как бы изнутри.
Впрочем, не таких уж юных. Ей, говорилось в сопроводительной писульке, исполнился двадцать один, Пташкин был на три года старше, но по опыту, по духовному опыту, поразившему К-ова своей глубиной и болезненностью, смотрелись ровесниками. Возможно, она даже выглядела чуточку старше, хотя в рассказах ее не было ни обобщений, ни размышлений, ни тем более аллегорий, к которым Пташкин прибегал столь охотно. Это от страха. От боязни выдать себя. А еще, может, от безотчетной попытки трансформировать страдание в мысль, поскольку мысль, полагал, даже самую чудовищную, вынести все-таки легче.
Разумеется, юноша ошибался. Просто страдание свое было, по живому резали (опытный читатель не мог не почувствовать этого), а мысль – чужая, вычитанная и потому ненадолго успокаивала подобно обезболивающей повязке, сквозь книжную белизну которой проступала, однако, кровь.
Девушка обходилась без наркоза. Даже имя свое – Мила – отдала, не дрогнув, героине, что же касается внешности, то беллетрист К-ов реконструировал ее сам. Тоненькая, темноглазая, а впрочем, иногда глаза виделись ему светлыми, полными не столько печали, сколько беглого презрения, – это зависело от интонации, с какой героиня произносила так понравившиеся ему слова: «Не целуйтесь, когда смотрю на вас».
Третьей лишней была она в компании байдарочников. Или даже не третьей, а пятой, если не седьмой, – да, седьмой: три лодки по два человека в каждой плюс Мила, которая по очереди плыла то с одной парой, то с другой. Вода в реке была грязной, с пятнами мазута, с торчащими там и сям корягами, за которые цеплялся разный хлам: автомобильная покрышка, полусгнивший женский лифчик, плетеная корзина без дна… С той же безжалостной зоркостью описывались парочки, особенно девицы, громогласно восхищающиеся красотами природы. Стесняться некого было, вот разве что ее, седьмую лишнюю, которая то ли с грустной завистью любовалась влюбленными, и тогда заворожившая К-ова фраза звучала элегически (а глаза – соответственно темные – наполнялись печалью), то ли с не очень-то скрываемой насмешкой. Видимо, с насмешкой все же, ибо героиня в конце концов бросила компанию и двинула через лес на далекие вскрики поездов.
Когда до станции добралась, последняя электричка на Москву ушла. В маленьком, с осыпающейся штукатуркой зальце шаманила над бутыльком с мутным пойлом кучка алкашей, коротали ночь рыбаки с удочками, два глухонемых и толстая баба с петухом в сумке, который время от времени вытягивал шею и оглашал станцию звонким предутренним криком. Еще сидел в дальнем углу парнишка в выгоревшей гимнастерке. При каждом всплеске петуха он вздрагивал и быстро, тревожно смотрел на дверь. Раза два или три Мила поймала на себе его внимательный взгляд.
Когда начало светать, в зал вошли двое военных. Прямиком к парнишке направились, что-то сказали негромко, и он медленно, обреченно поднялся. Выйдя следом, несостоявшаяся байдарочница увидела брезентовый «газик». Один военный пошел звонить, другой стерег беглеца. Теперь уже тот смотрел на девушку, не таясь, и она, приблизившись, спросила, не нужно ли чего. «Курить», – молвил он с улыбочкой. Тогда она вернулась в зал, подошла к алкашам, уже опорожнившим бутылек, и, не говоря ни слова, взяла со скамьи пачку сигарет…
«Жаль, – обронил, листая рукопись, К-ов, – нет реакции алкашей». Начинающая писательница пытливо глянула на мэтра (глаза у нее оказались зелеными, а вся она – маленькая, невзрачная, с прыщичками на лице) и, решившись, медленно засучила рукав. Пониже локтя белел небольшой шрамик. «Это, – молвил он, – и есть реакция?» Она тихо кивнула.
Сочинитель книг растерялся. Что все его искусные построения, что фантазия его рядом с этой загогулиной на бледной детской коже! «В субботу, – пробормотал он, – едем в Мелихово… Хотите?»
Опустив рукав, девушка не спеша застегивала пуговку. Пальцы у нее были небольшие, но гибкие, а ногти коротко острижены: с гипсом и глиной имела дело в своем художественном училище.
«Вы как к Чехову-то относитесь?» Молчание. То ли не услышала вопроса, то ли отвечать не желала. То ли просто думала: ехать, не ехать… «Поеду, если можно».
Без всякого умысла пригласил, и близко не держа в голове Пташкина, который, знал, тоже едет, причем, в отличие от Милы, едет с энтузиазмом и волнением, хотя, судя по пташкинским писаниям, Чехов не был его кумиром. О некоем другом городе рассказывало читанное К-овым сочинение, городе, который существует где-то рядом, под боком, но в ином измерении, и оттого попасть туда очень даже непросто. Вроде бы те же, что и здесь, улицы, те же дома и люди – да, и люди! – но в то же время не совсем те: улыбчивые, доброжелательные, а главное, ничего не знающие про смерть и потому бессмертные. Бессмертные, как бабочки… Бессмертные, как цветы… К-ов сравнения похвалил, а про себя отметил надломленность этой уклончивой прозы, ее скрытую женственность, особенно бросающуюся в глаза на фоне холодновато-жестких текстов юной ваятельницы. Рукописи даже внешне разнились; ее – неряшливая, с непронумерованными страницами: отшлепала на слепой машинке и – с глаз долой, он же каждую опечатку забеливал краской… Держали себя с нечаянным наставником тоже по-разному. Рослый, широкоплечий Пташкин волновался, как ребенок, – на рубахе расплылись под мышками темные пятна, – у Милы же хоть бы мускул дрогнул! Вчетверо сложив рукопись и откинув за спину красный шарф, осведомилась простуженным голосом, во сколько автобус.
Автобус был рано, в семь утра, а К-ов и в два, и в три ночи еще не спал, ворочался и мысленно выстраивал сюжет. Не сюжет для небольшого рассказа, не литературную ситуацию, а ситуацию реальную: в кои-то веки на лавры творца посягнул сочинитель книг, причем творца не бумажных миров, не какого-то там Шекспира или Сервантеса, а мира самого что ни на есть всамделишного. Ясно виделось самозваному вершителю судеб, как идут рядышком его подопечные, нашедшие друг друга, счастливые, юноша наклоняется, лепит крепкими руками снежок и, размахнувшись, бросает – в никуда, просто так, в наполненный солнцем и воробьиным чириканьем воздух, а девушка в длинном красном шарфе смотрит на него снизу и улыбается. К-ов тоже улыбался в темноте, предвкушая, но это было не предвкушение текста – о нет, какой текст сравнится с этим, какая литература! – это было предвкушение жизни, к веселой мощной пульсации которой он, незримый опекун, приложил руку.
Когда пунктуальный К-ов явился без минуты семь к месту сбора, Пташкин был уже там. Сутулясь, стоял возле небольшого сугроба, отдельно от всех, в легкой, не по сезону, курточке. «Не замерзнете?» – спросил К-ов. Молодой человек встрепенулся, будто врасплох застали, и торопливо, отрывисто заверил, что нет, тепло, – с оттенком то ли недоумения, то ли неловкости, хотя вопрос был самый что ни на есть естественный. Или отвык, что кого-то на свете может волновать, замерзнет он, не замерзнет?.. К-ову рассказывали, вручая – с превосходными эпитетами! – рукопись Пташкина, что родители его разошлись, когда мальчику было лет что-то десять; сначала с матерью жил, но недолго, к отцу переехал, который тихо спивался себе, пока не окочурился у подъезда с бутылкой в руке, и теперь Пташкин живет один в коммуналке, мается желудком и каждый год без труда поступает то в один институт, то в другой, а после первого семестра бросает. «Сейчас, если не ошибаюсь, каникулы?» – осторожно осведомился К-ов. «Каникулы», – снова встрепенувшись, ответил автор «Другого города», и так виновато, так правдиво посмотрел в глаза пожилого литератора, что тот понял: бросил опять…
Подошел автобус, все радостно поныряли в тепло, лишь нервничающий К-ов остался на морозе (где эта пигалица!) да его ни о чем не подозревающий протеже. Только после К-ова вошел, сел же отдельно, на неудобное боковое сиденьице. Было четверть восьмого, больше, решили, не ждать, – двигатель заработал, пригас свет в салоне, и тут в стекло забарабанили. Успела-таки! В коричневом полушубке была она, брови заиндевели, а изо рта пар валил, – что-то объясняла К-ову. «Пожалуйста, откройте дверь!» – крикнул он водителю, а ей показал энергичным жестом, чтобы шла и поживей. И все же, пока обегала автобус, успел щедро и достаточно громко (Пташкин не мог не слышать) аттестовать опоздавшую. Войдя, пробормотала что-то об утюге (причем тут утюг!) и села, к радости К-ова, возле Пташкина. К преждевременной радости: ни единым словом не обмолвились за долгую дорогу. В Мелихово тоже молчали, хотя почти все время рядом были: в хвосте плелись и в маленькие комнаты, которые не могли вместить всех, заходили последними.
Во флигель, где была написана «Чайка», экскурсий не водили, но для писателей сделали исключение. Гости щеголяли эрудицией, вопросами сыпали, острили, а один бравый романист, задержавшись, с кряхтеньем уселся в кресло Чехова. «Хоть минутку, да в классиках!» К-ов заметил, как пошло пятнами лицо Пташкина, а Мила – та, наоборот, побледнела, и недобрая улыбка скользнула по губам, предвестница недобрых слов, которые все-таки не слетели. На мгновенье единым целым стали они, но не интерес друг к другу объединил их, не исход из одиночества, не огонек симпатии, что разжигал в своих фантазиях самонадеянный автор, а брезгливое отторжение пошлости.
Женщины из музея, тихие подвижницы, устроили в честь столичных литераторов чай с пряниками, но Милы за тесным шумным столом не оказалось. Отстала? Или тайком удрала, подобно героине своей, на станцию?
Улучив минуту, обеспокоенный К-ов вышел на улицу. Ярко светило уже предвесеннее солнце, мороз ослаб, с крыши капало. Белое поле простиралось, сияя, далеко вокруг, далеко и широко, – то был сугубо чеховский пейзаж, сугубо чеховский простор, оттеняющий тесноту «футлярной» жизни.
В свое время К-ов обратил внимание, что сразу после истории Беликова следует описание ночи: залитое лунным светом поле, хорошо видимое до самого горизонта, и – ни единого движения, ни единого звука. Бедный учитель греческого, однако, не сливается с этим торжественным миром, они как бы рядом существуют – маленький человечек, обретший, наконец, свой последний футляр (в гробу, замечает Чехов, лицо его преобразилось: кротким стало, приятным, веселым даже), и бесконечная Вселенная. Они не сливаются, но это не слабость земного художника, это немощь Творца, – немощь, да, – хотя замыслы Творца прекрасны…
В отдалении, по ту сторону забора, копошились в снегу дети. Знакомый коричневый полушубок разглядел К-ов и, надев шапку, осторожно двинулся гуда.
Что-то лепила студентка художественного училища – снеговика? Туловищем служили два больших снежных кома, никак не обработанные, зато лицо выделывала тщательно, отступая и критически вглядываясь, – продолговатое, с бородкой, лицо, в котором изумленный беллетрист узнал вдруг хозяина усадьбы.
Памятник из снега – что ж, Чехову, наверное, затея эта пришлась бы по душе. Все лучше, нежели мрамор с бронзой…
В Москву вернулись затемно. У первой же станции метро автобус остановился и несколько человек вышли, Мила с Пташкиным в том числе. Он, сутулясь, быстро зашагал в одну сторону, к троллейбусной остановке, она, не спеша, в другую – фигурка ее под высокими светильниками все уменьшалась и уменьшалась, а беллетрист в гаснущем нимбе дальше поехал, к своему письменному столу, чтобы сесть за него и не вставать больше никогда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































