Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
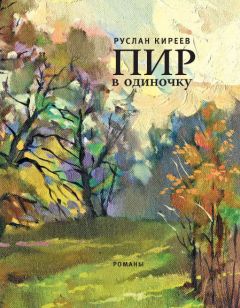
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 42 страниц)
Легонько двигает вперед пешку – именно двигает, мизинцем подталкивает, но коня таким образом не переместишь, и он двумя пальцами берет его за прохладный от лака загривок.
Конь был любимой фигурой старшего Шурочкиного обидчика. Случалось, подолгу глядел на него с зачарованной улыбкой, так что одно время в доме даже подумывали не без тайного тщеславия: уж не шахматный ли гений дает о себе знать? – но скоро поняли, что, кроме коня, никаких других фигур будущий Шурочкин обидчик не знает. Они мертвы для него, безликие деревяшки, безликие и безымянные, зато конь – существо почти живое, лошадка, которая стоит себе неподвижно, стоит и вдруг, выдернутая из черно-белой решетки, взмывает вверх и делает, к неописуемому восторгу маленького зрителя, быстрое, ловкое, едва уловимое для взгляда зигзагообразное движение.
Ах, как блестели, видя это, крупные карие глаза! Вначале Адвокат, боготворящий своего первенца, принимал этот вдохновенный блеск за отсвет мысли, за молчаливое одобрение удачного хода, но мало-помалу ему открылось, что то была радость совсем иного рода, наивная и бескорыстная, не имеющая к шахматам как таковым никакого отношения. Это была радость существа, для которого любое движение, любое проявление жизни самодостаточно и отнюдь не алчет нанизаться на стерженек смысла.
Когда-то это умиляло отца; умиляло, что крохотное существо, к появлению которого он столь таинственно, столь непостижимо причастен, живет своей самостоятельной жизнью: что-то любит и чего-то не любит, требует чего-то, кричит, улыбается… Шурочка – та управлялась с ребенком легко и весело, а он брал в неумелые свои руки с величайшей осторожностью, но этот его страх причинить боль неловким движением был ничто по сравнению с тем ужасом, какой испытал молодой папаша, когда оказался один на один с расхворавшимся внезапно младенцем. Температура сорок, шея распухла, а Шурочка в роддоме, теща же лишь крестится да уповает на Бога.
Дрожащим пальцем набрал Адвокат номер «Скорой». Целых сорок минут ехала она – ни одна бессонная ночь не показалась ему впоследствии такой мучительной и такой долгой, как эти две трети часа. Адвокат боялся, что произойдет самое страшное – боялся настолько, что готов был вместе с Шурочкиной матерью молиться, креститься, делать любые глупости. И когда «Скорая» наконец приехала и врач, щуплый мужичонка, не выказав ни малейшей тревоги, чем уже успокоил обезумевшего отца, произнес игрушечное слово «свинка» и не стал даже ничего выписывать, посоветовал лишь вызвать утром участкового врача, – когда все осталось позади, у ослабшего Адвоката мелькнула мысль, что, коль скоро их у него теперь двое (Шурочка родила накануне вечером), то вдвое, стало быть, увеличивается и риск потери. (Адвокат был как раз специалистом по риску; его рекомендации на этот счет ценились – и оценивались – чрезвычайно высоко.)
Конь в конце концов опускается, но не на ту клеточку, что предназначалась ему вначале, на другую, соседнюю, чем сразу нарушает логику позиции, создает дисгармонию, которую шахматный дока мгновенно улавливает – как прежде, в триумфальные времена, улавливал даже при беглом, обзорном знакомстве с пухлыми томами таящуюся в их темных глубинах неувязочку. Оставалось докопаться до этой неувязочки, вытащить, как инородное тело, наружу – вот она, смотрите! – но докопаться значило переворошить груду материала. То была тяжелая черновая работа, однако Адвокат черновой работы не боялся. Он был великий труженик, Адвокат, и, если что всерьез беспокоило его поначалу в старшем Шурочкином обидчике, то не странные вопросики о бабушке, не то, что принимал шахматного коня за живую лошадку, а редкостная, особенно для маленького человека, лень. Часами мог сидеть, глядя перед собой, – ничего не делая, ничего не говоря, лишь время от времени улыбаясь чему-то да наблюдая за перемещениями мухи либо впорхнувшей в комнату бабочки. (О бабочка! Бабочка была целым событием.) Он за бабочкой наблюдал, а Адвокат за ним, но, специалист по риску, отстранял от себя тревогу, предвестницу неприятных вещей, которые он, в отличие от Шурочки, умел держать на безопасном от себя расстоянии. Шурочка не умела, и неприятности приближались к ней вплотную, обступали, трогали за руку. Он защищал ее как мог, отгораживал, уводил в сторону, а она все оглядывалась беспокойно да оглядывалась.
Адвокат на школу надеялся: вот пойдет в школу, тогда уж волей-неволей придется заниматься делом – уроки-то надо учить! – но он просчитался: учить не понадобилось ничего. Все сразу запоминал, с первого раза… Иное дело, предметы, где надо было не запоминать, а думать, решать, выбирать варианты – здесь уж сдвинуть с мертвой точки было почти невозможно. Гася раздражение, по несколько раз объяснял первенцу элементарную задачку. Его внимательно слушали, иногда улыбались (улыбка эта бесила Адвоката), однако не столько понимали, сколько опять-таки запоминали – запоминали ход рассуждений, которые воспроизводили потом едва ли не слово в слово. Даже феноменальная, как считали все, память Адвоката, которую он, вероятно, и передал по наследству, не была столь цепкой, а главное, самодовлеющей… Прочь гнал тревогу, но тревога не исчезала бесследно, а как бы перемещалась в глаза Шурочки. В них-то и находил ее вдруг, узнавал помимо своей воли, хотя ни сам он, ни Шурочка о подозрениях своих вслух не говорили. Они вообще не отличались разговорчивостью, даже в молодые годы; каждый был занят делом – своим делом, каждый был занят мыслями – своими мыслями, но если Адвокат все-таки время от времени делился с коллегами, то Шурочка держала все при себе. Тем не менее он знал, что ради своих обидчиков, и старшего, и младшего, готова была на все, и это самопожертвование бесило Адвоката, не могло не бесить, ибо видел, как та, ближе которой у него не было на свете никого, тает на глазах. Не только морально тает, истончается, исчезает, как личность, становясь лишь тенью их, отражением, их, по существу, служанкой, но и – физически. Для Адвоката было аксиомой, что это именно они свели ее в могилу – пусть бессознательно, но свели, свели, и он никогда не простит им этого.
Водворив коня на место, что предназначалось ему с самого начала, Адвокат отошел от шахматного столика: в дни полнолуния сосредоточиться было трудно, цепочка умозаключений, плести которую он умел когда-то столь искусно, то и дело обрывалась… Телефон молчал, но молчал угрожающе, молчал агрессивно – хозяин явственно различал в тугой, округло сжавшейся, неподвижной трубке затаившиеся голоса Шурочкиных обидчиков, готовые в любую секунду вырваться наружу.
Конечно, не только их голоса могли оживить трубку, поднять в воздух, бросить к его заросшему седыми волосами уху – другие тоже, однако среди них не было ни одного, который он хотел бы услышать. Все заведомо раздражали Адвоката: одни – вкрадчивой слащавостью, другие – бесцеремонностью, но одновременно эти гипотетические, лишь в воображении его звучащие голоса раздражали тем, что медлили. Медлили, таились, не спешили выказать себя. Прятались, как те ночные, с подрагивающими носами отвратительные зверьки. (Эти, впрочем, уже выползали, чуя близость луны.)
Мысленно слышал обреченный на бессонную ночь голос того, кто долгое время считался его другом, и мысленно же отвечал ему, причем ответ выверялся очень тщательно, взвешивалось каждое слово – Адвокат как-никак знал цену слова! – и каждая пауза. Пауза – особенно. Специалист по риску давно усвоил, что наибезопаснейший вариант в работе со словами – это вообще отсутствие таковых. Золотое, универсальное правило, приложимое ко всем случаям жизни, в том числе и к Шурочкиным обидчикам. В ту ночь, когда маленькое существо, непостижимо и болезненно связанное с ним множеством таинственных нитей, лежало, все красное, с вздутой шеей, а он, обезумев, готов был чуть ли не креститься заодно с фанатичной старухой, – в ту ночь в голове его мелькнула еретическая мысль, что страх потерять детей бывает, оказывается, столь нестерпимым и столь чудовищным, что состязаться с ним в состоянии разве что соблазн вообще не иметь их.
Телефон по-прежнему молчал, и Адвокат по-прежнему обдумывал варианты своего ответа на тот случай, если вдруг раздастся звонок. Таких вариантов было множество. Один ответ – спокойный и в меру приветливый, другой – с оттенком иронии, в третьем проскальзывало профессиональное беспокойство: что-нибудь случилось, нужна помощь? Имелись, разумеется, и варианты вариантов, каждого в отдельности, но дальше этого Адвокат не шел, реакция воображаемого собеседника оставалась невнятной и темной, не различимой для его внутреннего слуха, который он, впрочем, не слишком-то и напрягал. В отличие от Мальчика, чье внимание было постоянно устремлено вовне, Адвокат был сосредоточен исключительно на себе, на том, что свершается внутри него, и это еще больше утяжеляло его, придавливало книзу. Погасив верхний свет, зажег торшер и долго устраивал в кресле большое усталое тело, чтобы теперь уже обстоятельно, а не бегло, как в метро, почитать газеты.
Вовне было устремлено внимание Мальчика – каждый шорох улавливал, каждое движение, особенно со стороны дома, от которого он быстро удалялся. Дом как бы оседал за его спиной, глох, слеп, – срабатывал эффект пространственного и временного отстранения, когда сзади остается неподвижный безмолвный рельеф, оживлению которого, реставрации звуков и запахов Перевозчик, вооружившись пером, самозабвенно предавался в часы одиноких бдений. Но если звуки и запахи оживали, то люди, окруженные ими, навечно застывали в своих, пусть и живописных, позах, в беззвучных диспутах своих и бестелесных объятиях, ибо, заключенные в текст, не могли вырваться за его пределы, – точь-в-точь как подопечные Перевозчика с веслом не могли покинуть его, Перевозчика с веслом, мрачных владений.
Чикчириш за пазухой сидел тихо – быть может, заснул: время для птиц было позднее, мрак стлался по земле, укрывая беглеца, хотя, понимал Мальчик, укрывая не очень надежно. К станции пробирался он, но не напрямик, не по дороге, где его могли засечь идущие с электрички люди, а по петляющей в кустах узкой дорожке. Под ногами громко хрустнула ветка, но малолетний конспиратор даже не замедлил шага, и это придало ему еще больше легкости. Как бы новую степень свободы обрел вырвавшийся на волю узник и даже начал мало-помалу воспринимать звуки, на которые минуту назад не обращал внимания, поскольку никакой информации об опасности звуки эти не несли. Например, крик чаек – не для всех, стало быть, птиц наступило время сна. Эти еще носились – как тогда, над их лодкой, но тогда маленький человек не заметил бы их, если б не человек большой, который на некоторое время перестал даже грести, так засмотрелся на описывающих круг, с поджатыми лапами и склоненной набок головкой, бело-сизых птиц. Невдомек было Мальчику, что его спутник мысленно сравнивает этих чаек с другими, морскими, – невдомек, потому что никогда не был на море, не лежал никогда на обкатанной штормами горячей гальке. (Белая дряблая кожа Адвоката до сих пор помнит твердость и приятную остроту камушков, медленно остывающих под обведенным золотой рамочкой худым мальчишеским коричневым от загара телом.)
Вдруг что-то упруго и резко ударило Мальчика по ноге, сперва по одной, вынесенной вперед к растерянно замершей, – наткнулся на что? – лишь носок успел коснуться земли, потом по другой, которая стояла неподвижно, однако узкое и упругое ударило и ее тоже. Не он, выходит, наткнулся, на него напали… Отскочило, тотчас возвратилось, дернулось, замерло, снова дернулось. В первый момент Мальчик не понял, что это, лишь сообразил: живое, а в следующий миг узнал веревку, но веревку именно живую, трепещущую, бьющуюся, как билось утром сердечко спасенного от кота Чикчириша.
Носок по-прежнему касался земли – только касался, не упираясь, готовый в любую секунду отдернуться. Со стороны Мальчик был совершенно неподвижен, но то со стороны, внутренний взор его бегал туда-сюда, как за стеклами очков бегали туда-сюда глаза Адвоката. (Адвокат славился феноменальной скоростью чтения… Одну газетную статью уже пробежал, за другую взялся.)
Веревка оставалась неподвижной, но неподвижность эта была все такой же живой, напряженной, выжидательно замершей, непонятной, и Мальчик вглядывался – внутренним опять-таки взором – в эту непонятность, что еще больше делало его похожим на читающего газеты Адвоката. Ибо, читая газеты (равно, как глядя телевизор), Адвокат с тревогой и раздраженным недоумением (у Мальчика раздражения не было) вглядывался в свершающуюся вокруг него – но уже без него – новую, опасную, такую невразумительную, такую бестолковую жизнь.
Чуть ослабнув, веревка вновь натянулась – еще сильнее, еще напряженней и даже слегка завибрировала, подобно струне. Или стреле; подобно стреле, указывающей направление, за которым Мальчик, по-прежнему не двигаясь, медленно проследил взглядом.
За кустами светлело большое белое тело козы. Слишком большое, противоестественно большое, словно животное начало уже, забытое хозяйкой, растворяться в потемках, смешиваться с ними. Еще немного, и совсем исчезнет.
Мальчик переступил через веревку и, раздвигая ветки, двинулся к мохнатой сироте, которая по мере его приближения уменьшалась в размерах. При этом она даже не пыталась удрать – стояла неподвижно и, не мигая, смотрела сбоку одним глазом на своего то ли врага, то ли спасителя. Врагом, конечно, Мальчик не был, сам он хорошо понимал это, но она-то ведать не ведала, и он почувствовал себя немножечко виноватым. Адвокат хорошо знал это чувство, но знал не столько по себе, сколько по Шурочке, которая терзалась им постоянно, а он утешал ее, доказывая, что вовсе не она обидела их, своих обидчиков, а они ее, пусть и неумышленно. Да-да, они!
Протянув руку, Мальчик коснулся осторожно косматой шеи. Коза не шевельнулась. Он не стал больше ее трогать, стоял и смотрел, сжав губы, потом, нащупывая ногами веревку, совсем не различимую в темноте, двинулся к истоку ее.
Веревка оказалась длинной. Он пересек дорожку, по которой шел, и полез дальше, через кусты, что огибали невысокий бугорок. Наверху, точно посередине, торчал кол – к нему-то и крепилась веревка. Мальчик нагнулся (Чикчириш с неудовольствием трепыхнул) и попытался распутать узел, но узел был слишком крепок, а мрак слишком густ, и он, схватив кол обеими руками, принялся изо всех сил расшатывать его, вертеть и, в конце концов, выдернул.
Теперь пленница была на свободе. Но она не знала этого, не понимала, глупая, и Мальчик, наматывая веревку на холодную деревяшку, с которой осыпалась земля, вернулся к дурехе, чтобы все объяснить ей.
Объяснил – сначала шепотом, потом громче, только она все равно ничего не поняла. Легонько толкнул ее свободной рукой, но рогатой хоть бы хны! Стояла и смотрела, как заколдованная. Он снова толкнул, уже сильнее, затем, опустив кол на землю, попытался двумя руками сдвинуть животину с места – напрасно все. Тогда он поднял колышек с намотанной на него веревкой, отпустил немного и, крепко сжав пальцы, потянул на себя. Упрямица лишь вытянула шею, а ноги точно приросли к земле.
В отчаянии опустил Мальчик руки. Проще всего было повернуться и уйти, но ночь уже подкралась, уже обступила и дышала в лицо, а неподалеку – старая баня с беспризорными людьми, голодными и злыми, способными на что угодно. Воровали же кур на соседских участках – перышки долго потом трепетали на колючих, по-зимнему голых кустах.
Вдали торопливо и гулко отбарабанили колеса электрички – до станции еще топать и топать. Так недолго и на последнюю опоздать, но, с другой стороны, нельзя же повернуться и уйти, тем более когда на тебя смотрят так.
А она смотрела! Смотрела и понимала, и о чем-то думала, проклятая, но думала на чужом языке, как иногда говорят на чужом языке по радио. Если хорошенько прислушаться к той чужой речи, можно узнать отдельные слова, сейчас же Мальчик ничего не узнавал. Совершенно ничего! Все вокруг было другим, нежели прежде, и совсем, совсем непонятным. Какие-то тени, какой-то столб (раньше, вроде бы, столба не было), какое-то на четырех ногах, с головой и хвостом существо… Коза? Правда – коза? Мальчик вдруг усомнился в этом, и сделалось не по себе ему от того, что усомнился. Мир, до сих пор стоящий прямо, слегка как бы накренился – вместе с землей, в которой бесследно пропала спасительная тропинка, вместе с потемневшим небом над головой, теперь уже не таким высоким и не таким большим, вместе с мерцающими вдали огоньками (мгновенье назад не видел никаких огоньков) и черными кустами вблизи, названия которых Мальчик не знал, просто не думал никогда, теперь же эта безымянность еще больше усилила тревогу. А вот защитнику Мальчика – тому, наоборот, было по душе, что не знает, как называются Шурочкины цветы, за которыми тем не менее ухаживал с великим прилежанием…
Сейчас о защитнике своем Мальчик не думал. Не было у него в эту минуту никаких защитников – ни здесь, ни там, далеко, в многоэтажном московском доме. Вообще нигде… Совсем один был он в мире, и этот чужой темный мир накренялся все больше и больше. Чтобы удержаться, не соскользнуть вниз, Мальчик схватился за мягкую от молодых листьев, прохладную ветку.
По душе, очень по душе Адвокату, что не знает, как называются Шурочкины цветы, за которыми он, и правда, ухаживает с необычайным старанием, почти как за могилкой ее. Если Мальчика всякая безымянность настораживает или даже пугает, то Адвокату – применительно к Шурочкиным цветам – она дорога, ибо делает их растениями особенными, единственными в своем роде. Наверное, он бы огорчился, если б увидел где-нибудь такие же.
Ровненько, одна к одной, положив газеты на толстую стопу уже прочитанных, подходит к книжному шкафу. Все цветы стоят в точности на том самом месте, куда их когда-то, очень давно, определила Шурочка. Вот любимый ее: длинные, узкие, с белесой полоской посередке листья разбросаны пышным веером, а из-под веера свешиваются, как лианы, три длинных тонких отростка, тоже с веерами на конце, но уже не такими большими. Комковатые узлы в основании делают эти отростки похожими на корни, только корни воздушные.
Адвокат долго стоит возле шкафа, рассматривает листья – и совсем молоденькие, торчком стоящие, и старые, грузно обвисшие, с уже подсыхающими стеблями; рассматривает отростки-лианы – эти взбугрены узелками, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, причем некоторые узелки пускают побеги, а некоторые почему-то нет. Но особенно внимательно изучает попечитель цветка воздушные корни, жесткие, некрасивые, явно не предназначенные для жизни на виду. Если спрятать их, воткнуть в землю – по-видимому, приживутся, но Адвокат и сам не желает ставить подобного эксперимента, и не позволит младшему Шурочкиному обидчику.
Вопреки законам риска, на изучение которых отец его положил жизнь, все эксперименты младшего Шурочкиного обидчика увенчиваются успехом. На здоровье! Только пусть делает свои опыты где-нибудь в другом месте – однажды Адвокат уже сказал это и может повторить, если потребуется, хотя прекрасно знает, какая последует реакция. Вынет изо рта трубку, спросит скороговоркой: «Тебе что, отец, отростка жалко?» – и тотчас сунет трубку обратно, быстрый, жизнерадостный, пахнущий кожей и туалетной, французского разлива, водой.
Темная, с матовым отливом, слегка курящаяся трубка была своего рода центром, вокруг которого группировалось все остальное: машины и компьютеры (Адвокат утрировал: неизвестно, как насчет компьютеров, но машина у младшего Шурочкиного обидчика была одна), агенты и клиенты, друзья и подружки. (Тоже преувеличение: за все время видел с ним всего двух женщин, причем в обоих случаях дама была представлена как жена.) Да, преувеличивал, да, утрировал, но ведь его отношение было отношением сразу обоих – его и Шурочки. Шурочки даже в большей степени, потому что Шурочка куда болезненней воспринимала происходящее с младшим обидчиком. (Относительно старшего смирилась. Старший навсегда остался маленьким и, хотя делал вид, будто понимает, что деревянная коняшка – всего-навсего шахматная фигура, верил в душе, и по глазам это видно было, что живая.)
Адвокат успокаивал ее. Адвокат говорил, подразумевая, конечно, младшего (о старшем что говорить!), что теперь вся молодежь такая, и она не спорила – Шурочка вообще не умела спорить, – но он видел, как страдает она, и никогда – никогда в жизни! – не простит ему этих ее страданий. Обидчику не откупиться от них – ни черным мрамором, которого он, Адвокат, некогда человек состоятельный, ни за что бы не потянул теперь, ни подчеркнутым вниманием к нему самому, еще живому, – Адвокату это внимание в тягость. Вот и теперь на часы косится – еще нет одиннадцати, звонок может раздаться в любую секунду, и бравый голос произнесет в самое ухо: «Как самочувствие, батя?»
Он ответит не сразу. Но на том конце провода не станут торопить: затянутся, быстро дым выпустят, снова затянутся – у Адвоката даже в горле запершило. (В его отсутствие Шурочка разрешала негодяю курить в квартире; этого, конечно, ему тоже не простится.) В конце концов, отец известит, что самочувствие прекрасное. Да-с, прекрасное! «Так у тебя же бессонница, батя! А сегодня такая луна… Я достал тебе снотворное. Хочешь привезу?»
Тут Адвокат снова выдержит паузу. Но не потому, что в сомнении – разрешить или не разрешить столь поздний визит, после которого не подействуют, разумеется, никакие таблетки, а чтобы дать понять, как труден, как неприятен ему этот разговор.
Касается пухлым, слегка согнутым пальцем воздушного корня, но ему и в голову не приходит сравнивать его со своим отпрыском, вот так же, можно сказать, лишенным почвы. А это помогло б Адвокату, сняло б раздражение. (Раздражение усиливалось.) К тому же, продолжая сравнение, можно было б уподобить другого отпрыска, старшего, корню земному, темному, которому так и не удалось выбраться из детского возраста. Но Адвокат не склонен к образному мышлению, он предпочитает язык логики – логика всегда была его сильной стороной. «Благодарю, – ответит он, – со сном у меня все в порядке». И первый – непременно первый! – положит трубку.
Трогает землю в горшке – еще влажная, но не очень, и он пытливо смотрит на цветок: полить ли? Тем же примерно озабочен Мальчик: коза, проторчав весь день на привязи, наверняка мучается жаждой, но отчего ж в таком случае не скачет домой, ведь он освободил ее?
Ее освободил, а себя привязал и теперь не может стронуться с места, потому что она, проклятая, стоит и, повернув голову, смотрит на своего спасителя одним глазом. Еще чего-то ждет от него… Чего?! Беспомощный Мальчик чувствует, как прямо-таки летит время (еще немного, и он опоздает на электричку), а вот у Адвоката время совсем остановилось, и Адвокат, чтобы хоть немного сдвинуть его, отправляется в кухню за водой.
Не из-под крана – из-под крана поливать вредно, должна отстояться. Так, во всяком случае, делала Шурочка, и он эту ее традицию, этот ее молчаливый наказ блюдет свято. И кувшин тот же, что при ней, – эмалированный, с красным цветочком, и стоит на том же, что при ней, месте, и так же наполнен не до конца; Шурочка вообще не любила чрезмерности.
Иное дело Адвокат – Адвокат не обладал этой счастливой добродетелью. Во всем переборщал – и в работе, и в еде, и в страхе за детей, когда те еще были детьми, а не Шурочкиными обидчиками. Особенно младший допекал, который от рождения был вертуном и торопыгой, – или даже не от, а до. Ну конечно, до, почему и явился на свет преждевременно, месяцем раньше положенного срока, едва-едва набрав два килограмма.
У специалиста по риску, когда узнал, оборвалось сердце. Какие-то жалкие слова лепетал врачу, трогал белый рукав (залатанный, чего Адвокат старался не замечать) и искательно в глаза заглядывал. Процент! Каков процент выживания с таким весом? Но язык не повернулся спросить, а врач процентами не мыслил. Что-то про молоко говорил, про пупок и про нервную систему, которая у недоношенных детей особенно уязвима. А потому, предупреждал, ребенок будет неспокойным.
В ответ Адвокат едва не расцеловал рыжебородого доктора: это бесстрастное предупреждение было для него лучшим ответом на его так и не заданный вопрос. Выживают, стало быть! Выживают – с таким весом! И уж его-то сын выживет обязательно… Золотой рамочкой обведена эта минута – Адвокат и сейчас мысленно улыбается, вспоминая ее. С тяжелым кувшином возвращается в комнату (потому-то и держала неполным, что полный был бы еще тяжелей, да могло б и расплескаться по пути), поливает тоненькой, ненапряженной, лишь самую малость выгнутой струйкой. Эта неспешная размеренность как бы продлевала присутствие Шурочки, но присутствие не для него, он в такие вещи не верит, хотя порой и ловит на себе тревожный взгляд поверх очков (очки идут ее круглому мягкому лицу, только она не знает об этом, он никогда не говорил), присутствие для цветов, которые привыкли, что именно она ухаживает за ними.
В отличие от людей, цветы не взрослеют. Увеличиваясь в размерах, не меняются внутренне и не меняют своего отношения к тем, кто их окружает. Между хилым отростком, что когда-то принесла его жена в пластмассовой коробочке из-под сметаны, и большим, с большими листьями, цветком, который Адвокат мысленно так и называл: Большой цветок, не было даже крошечной доли того колоссального различия, что отделяет могущественного владельца попыхивающей дымком трубки от беспомощного пискуна весом в два килограмма, – сосать грудь и то не всегда силенок хватало. Красный, в морщинках, лобик покрывался испариной, а они с Шурочкой смотрели на устало сопящее существо и не шевелились, почти не дышали в своих марлевых повязках: Адвокат лично следил за тем, чтобы все, кто приближался к малышу, надевали этот гигиенический намордник. И пусть хоть кто-нибудь посмел бы ослушаться! В любую минуту готов был броситься, рыча, как зверь, на защиту своего детеныша.
Но никто на его детенышей – ни на того, ни на другого – нападать не собирался. (Как напали, например, на Мальчика.) Никто не угрожал им. (Как, например, угрожали Мальчику, решив, должно быть, что он один на озере, – Адвокат в это время сдавал лодку в прокате.) Никто не требовал от них самоотверженности и подвига; их требовали от Шурочки, только от Шурочки, и не посторонние люди, а собственные ее дети, которые – теперь-то Адвокат ясно видел это – пусть не нарочно, пусть не со зла, но из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, из часа в час укорачивали ей жизнь.
Цветы принимали воду с настороженностью, которая свидетельствовала, что они чувствовали: их обманывают, это не их хозяйка – другой совсем человек, и человек этот может причинить им вред. Недодать влаги или, напротив, вбухать слишком много, залить, как называла это Шурочка, которая сама-то в точности знала, в какой именно момент следует остановиться. Зависело это от времени года, от погоды и еще от множества вещей, познать которые Адвокату вряд ли суждено когда-либо. Так и остался для этих молчаливых существ в горшочках чужим и опасным, хотя хочет им исключительно добра, и в этом отношении он очень походил сейчас на Мальчика, что боролся в темных зарослях с козой, не желавшей, как ни дергал ее за веревку и ни толкал, стронуться с места. И вдруг… Вдруг вскинула голову, заблеяла, бросилась через кусты. В тот же миг Мальчик расслышал женский голос и быстрые, мягкие, скоро приближающиеся шаги. Он выпустил кол с намотанной на него веревкой и, пригнувшись, шмыгнул в обратную от шагов сторону.
Адвокат выпрямил кувшин, потрогал пальцем землю, чего Шурочка не делала никогда, на глазок определяла и, убедившись, что воды сверху нет, вся ушла, добавил еще немного, совсем капельку (и этого Шурочка не делала тоже), а затем, высоко, как фонарь, держа перед собой кувшин, перешел к следующему цветку.
В обратную от женских, приближающихся с виноватой торопливостью шагов прытко шмыгнул, пригнувшись, Мальчик. Он вновь был хозяином сам себе, вновь был свободен, точно это не козу, а его держал на привязи дурацкий кол. Сперва напролом двигался, выставив вперед руку, чтобы шальная какая-нибудь ветка не зашибла Чикчириша, потом отыскал-таки дорожку и дальше уже шел по ней.
На небе мерцали звездочки, но пока их было немного и горели они не очень ярко. Мальчик понимал, в чем тут дело: там, наверху, было еще не так темно, как внизу. Но и внизу, если привстать на цыпочки и вытянуть шею, можно было увидеть большое, как бы выгнутое, светло-серое – светлее, чем все остальное – пятно. Озеро, Галошевое озеро… Дорожка, пробираясь между кустов, то уводила в сторону от него, то опасливо приближалась, и тогда Мальчику делалось немного не по себе. Хотя что ему озеро – не купаться же шел и не кататься, как в воскресенье, на лодке! Но что-то все же притягивало взгляд, что-то манило и тревожно звало – притяжение это было сродни тому, что испытывал Адвокат по отношению к поглотившей Шурочку бездну. Зов небытия и зов воды – явления, по существу, одного порядка, вот разве что одно – стихия ночная, а другое – дневная. Сейчас эта, последняя, выступала в не свойственной ей роли, и потому-то Мальчик не узнавал ее, Галошевого не узнавал озера, потому-то тревожился и не мог понять, что, собственно, пугает его. Это ж не старая баня, где живут беспризорные люди, баня далеко еще, это озеро, Галошевое озеро – ему было тут в воскресенье так весело. Даже когда один остался (Адвокат, поставив лодку, пошел в будочку проката за паспортом) и к нему привязались трое шалопаев, причем все трое были старше его, все косматые, немытые, с кривыми зубами, Мальчик не испугался, потому что знал: сейчас его друг вернется и разгонит хулиганов.
Ах, как переполошились эти смельчаки, когда подошел большой, спокойный, в расстегнутой голубой рубашке защитник Мальчика! Просто подошел – не делая никаких угрожающих движений, разве что мохнатые брови стали еще мохнатей и еще ниже нависли над умными, быстрыми, все понимающими глазами.
Ни один из трех не поднялся, а стали так отодвигаться, по-паучьи, пятились в разные стороны, пока не скрылись за кустами. Защитник положил руку на голову Мальчика – рука была большой, теплой и совершенно сухой, – а глаза медленно прикрылись, обещая, что все будет в порядке, его не дадут в обиду.
Эту теплую ладонь Мальчик и сейчас ощущал на своей голове, но озеро было другим, нежели тогда, и чайки по-другому кричали, и по-другому пахло водой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































