Текст книги "Пир в одиночку (сборник)"
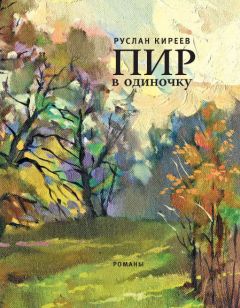
Автор книги: Руслан Киреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 42 страниц)
Часть вторая
НАБЕРЕЖНАЯ СТИКСА
Мы идем, новобранцы, вразброс и неслышно…Разумеется, это была не она: откуда взяться ей здесь, в сутолоке московского магазина, спустя двадцать пять – нет, больше! спустя тридцать лет, – коли уже тогда едва таскала от старости ноги? Да, едва ноги таскала, в глазах, однако, светилась мысль, да и то, как реагировала – вместе с другими старичками и старушками – на чтение стихов, свидетельствовало о ясности ума. Двадцатилетнего поэта – а К-ов тогда считался поэтом – удивляло, что Савельевна не узнает его.
Он-то узнал ее сразу – как и сейчас, в магазинной толчее, хотя сейчас, конечно, была не она, – узнал, ибо ничуть не изменилась за те несколько лет, что не видели друг друга. Не постарела… Не подряхлела… Как было ей семьдесят, восемьдесят или сколько там лет, так и осталось. А он за это время вырос и возмужал, сделался поэтом и вот теперь явился с молодыми коллегами в дом престарелых, именуемый еще домом ветеранов труда, ветеранов войны да и просто жизни.
То была своего рода акция милосердия, на которые самодеятельные пииты, члены городского литобъединения, согласились без энтузиазма: ну зачем этим божьим одуванчикам стихи! Что понимали они в изящной словесности! Не скажите… Обитатели скорбного дома тянулись и тянулись со скамеечками в руках в залитый утренним солнцем асфальтированный дворик, и реакция их оказалась, к приятному удивлению гостей, живой, быстрой и благодарной. Смеялись, когда юный К-ов читал злободневные юмористические стишки, причем улавливали оттенки, которые подчас не замечали куда более молодые. Просто они, молодые, понял впоследствии К-ов, уже перешагнувший рубеж зрелости и медленно катящийся под гору (или, напротив, восходящий в гору?), – просто молодые были слишком замотаны делами и заботами, слишком оглушены гулом повседневности, а эти уже отдалились, уже тишина сомкнулась над их седыми головушками, и те редкие звуки, что еще проникали сюда, воспринимались ими остро, ясно и доверчиво.
В несколько рядов сидели они, смирные, как школьники, и, как школьники, похожие друг на друга, похожие не внешне – хотя, конечно, и внешне тоже (на многих белели панамочки), – а внутренней своей собранностью, своей обособленностью от большого мира, в который они с любопытством всматривались издали.
К-ов, слегка пораженный этой неотличимостью друг от друга старых людей, Савельевну тем не менее признал сразу – быть может, потому, что на ней была не панамка, а рыжая меховая шапочка, знакомая ему еще по той, прежней жизни, когда они, босоногие разбойники, с истошным криком: «Йод с молоком! Йод с молоком!» – проносились, точно торпеды, под ее распахнутым, с белыми занавесочками, оконцем. Но это еще что! Сколько раз, подкараулив ее где-нибудь на улице, сообщали: «Бабушка, у вас дом горит!» – и она, простодушная, как ребенок, верила. Всполошившийся взгляд метался от лица к лицу с наивным, детским каким-то испугом. На ногах, запомнилось ему, были стоптанные фетровые ботики, еще довоенные. Торопливо семенила по мокрому после дождя щербатому, в буграх и ранах, асфальту, тоже довоенному, в лужи плюхала, после чего стучала ногами, стряхивая с ботиков воду, а маленькие дикари плясали вокруг, прыская и кривляясь.
Чему радовались они? Бог весть… Во всяком случае, не изобретательности своей, ибо нехитрый розыгрыш этот повторялся бесконечно. Или тому и радовались, что повторялся? Что горький опыт не шел ей впрок – в отличие от ее преследователей, которые впитывали все, как губка? Она же, откроется в свой час выросшему дворовому мальчику, была по горло сыта этим самым опытом – и горьким, и сладким, и принять в себя еще что-либо уже не могла. Вот разве что незатейливые рифмованные шуточки, которыми угощал под солнышком во дворе богадельни разбитной паренек, вдруг подсевший к ней после выступления и начавший вопрошать, помнит ли она такого-то.
Не помнила. Ни его, ни других ребят, товарищей по жестокосердным забавам, ни, слава богу, самих забав. Не помнила, как спешила «на пожар» в залатанных и даже вроде бы разных – один больше, другой меньше – ботиках.
О, эти ботики! Эти белые занавесочки на узком невысоком окошке!.. И вот теперь, спустя тридцать лет, высушенное временем знакомое лицо мелькнуло в утренней толчее московского магазина, только что взятого штурмом обезумевшей очередью. За два часа до открытия скапливался народ перед стеклянными запертыми дверями, чтобы, ворвавшись, цапнуть два, три, четыре (сколько удастся!) пакета с молоком, расхватываемого из контейнеров на колесиках в считанные минуты.
Савельевне не досталось. Бродила между мгновенно опустошенных контейнеров, подымала, слишком легко, синие, из вощеного картона, длинные четырехгранные пакеты и ставила тихонько обратно. А легко потому, что молока не было в них, вытекло: ровные лужицы белели там и сям на выложенном плиткой полу. В бою ведь не бывает без потерь, а тут разыгрывались форменные бои, короткие, молчаливые – лишь сопели тяжело – и жестокие.
К-ов оказался среди победителей. С трофеями стоял в кассу – целых три пакета! – а она, побежденная, все подымала и подымала сухой коричневой лапкой невесомые, выпустившие белую свою кровь картонные трупики.
Сколько длилось это? Минуту? Полминуты?.. Когда он, стряхнув наваждение – при чем тут Савельевна, Савельевны давным-давно нет на свете! – стал протискиваться сквозь очередь, чтобы поделиться, отдать пакет, старуха исчезла. Растворилась в толпе, и, сколько ни кружил он по медленно пустеющему торговому залу, – напрасно все. Точно сквозь землю провалилась. Сквозь залитый молоком грязный пол.
Холодные, тяжелые (а теперь еще больше потяжелели, словно в них перетекло неведомым образом содержимое тех оставшихся на решетке мертвых пакетов), скользкие от влаги длинные четырехгранники не умещались в руках, а сумку, как назло, забыл дома. Расплатившись, наконец, вышел и, прижимая к груди позорную добычу, оглядел с высокого крыльца площадку перед магазином. По талому снегу рассыпанно двигались человеческие фигурки, тоже серые, серым был «жигуленок», хозяин которого взвешивал на безмене картошку в авоське, и даже пожарная-машина, небыстро и без сирены катящая по размытой дороге, казалась серой. «Бабушка, – вспомнил он, – у вас дом горит!»
Медленно, как во сне, спустился с крыльца. А впрочем, это уже и был сон, вот только привиделся он четыре, кажется, дня спустя, когда купленное семьянином К-овым молоко, три литра, подошло к концу и надо было снова отправляться на охоту. Привиделся уже под утро, он даже подумал, глянув на часы: еще десять минут и подъем, – как вдруг очутился у родного своего магазина. Так же сновали человеческие фигурки, так же стоял на площади картофельный «жигуленок», но теперь вокруг него змеилась очередь, даже не одна, поэтому находчивый продавец с безменом забрался на крышу автомобиля. Покупатели следили за ним, задрав головы, среди них была и Савельевна, К-ов знал это, хотя не видел ее, но потом увидел-таки, засек рыжую шапочку и легкой летучей какой-то походкой сошел (спланировал) с крыльца. Слишком медленно сошел, к тому же почему-то двигался к «жигуленку» не прямиком, а по дуге, когда же приблизился, картошка кончилась. Мужик демонстрировал пустой, не нужный больше безмен, и народ безмолвно расходился – безмолвно и как-то очень быстро. Испарялся… Савельевна тоже исчезла, исчез «жигуленок» с мужиком, все исчезло – один он остался на пустыре, в длиннополом старом пальто и заячьей, тоже очень старой, с вылезшим мехом шапке.
И шапка, и пальто были реальными, в прихожей висели – К-ов облачался в них, когда шел по хозяйственным делам или прогуляться в лесок. Надел он их и теперь, еще не остывший с постели (двенадцать минут оставалось до открытия магазина), и, надевая, явственно ощутил холод зимнего серого пустыря, будто шапка и пальто, в каких он только что преследовал во сне давно мертвую старуху, не успели напитаться домашним теплом.
Лифт не работал. Застегивая на ходу пуговицы, сбежал по темным пролетам, без усилия распахнул легкую, невесомую, как те протекшие пакеты, с выбитым стеклом дверь. На улице не было ни души, даже почему-то собак не выгуливали, тишина стояла, ничто не шевелилось вокруг, лишь в многоэтажной громаде АТС слабо мерцали в черных окнах голубые и желтые огоньки. Обогнув АТС (траектория движения точь-в-точь повторила дугу, по которой он скользил во сне к картофельному «жигуленку»), вынырнул на площадку перед магазином. Сейчас «жигуленка» не было – К-ов с облегчением убедился в этом, а взгляд уже прилип к темной бесформенной толпе у входа в магазин. Он прибавил шаг, поскользнулся, едва не упал, но удержал равновесие, и в этот момент толпа изменила очертания. Сжалась, распрямилась, снова сжалась, вытолкнула из себя густой, звериный какой-то рык, и вдруг что-то звонко, громко посыпалось. Потом все замерло – и звуки, и толпа, и беллетрист К-ов с вскинутыми, будто взлететь собирался, руками, но гулкая пауза эта длилась недолго, секунду или две, после чего все опять, пришло в движение, посыпалось, только уже не стекло (К-ов понял, что выбили стекло), а голоса, вороний в низком небе крик, далекие автомобильные гудки. Стронулся и поехал, тяжело просев набок, автобус с желтыми чахоточными окнами – только что его не было.
Да, он не ошибся: в двери, увидел он еще издали, зияла огромная, в острых зубцах, дыра, и уж ее-то не залатать фанерой, как это сделали в их подъезде (фанера, впрочем, исчезла через день), – он подумал об этом мельком, стремительно приближаясь к толпе, что медленно втягивалась в магазин. Это несовпадение скоростей – неповоротливая, тяжелая толпа и он, такой быстрый, такой легкий, будто все еще во сне, – это несовпадение скоростей вселяло надежду, что поспеет к молоку, ухватит и, может быть, даже не два и не три пакета, больше (сумка на сей раз была в кармане), дабы поделиться после с какой-нибудь нерасторопной старушкой.
Увы, гуманист К-ов просчитался. Толпа, хоть и медленная, хоть и вязкая, опередила его, и, когда он, прохрустев ногами по стеклу, уже мелко истолченному и потому отзывающемуся не очень громко, протиснулся-таки в магазин, контейнеры были уже пусты. На каждом, впрочем, оставалось по два, по три, а на одном аж четыре пакета, но он знал, что это за пакеты, и, подымая – как три дня назад подымала их один за одним Савельевна, – не удивлялся их бумажной легкости.
Это вдруг уловленное им сходство с Савельевной было, конечно, поверхностным и неполным, однако, поймет он скоро (и даже очень, очень скоро – когда, облагодетельствованный, выйдет из магазина с подаренным ему тяжелым звонким пакетом молока), – однако неполнота эта временная, она убывает, истекает в пользу пусть еще далекого, но неизбежного тождества, впервые обнаруженного им в старых людях на том поэтическом утреннике в захолустной богадельне. Не в стариках и старухах, а именно в старых людях – без различия пола, без различия возраста (восемьдесят ли, сто – какая разница!), без различия в одежде и выражении глаз…
С некоторых пор К-ов стал замечать в себе интонации вырастившей его покойной бабушки, ужимки ее и жесты. Ничего вроде бы удивительного: отзвуки детства, следы воспитания, отголоски бессознательно усвоенных уроков… Так полагал он в наивности и, конечно, ошибался. То другое было, совсем, совсем другое… Не в конкретную свою бабушку исподволь превращался он, а в человека, на котором мало-помалу истлевала и рассыпалась в прах одежка бедной его индивидуальности. Мудрено ли, думал он, что старые люди почти не отличимы друг от друга – как не отличимы новорожденные, как не отличимы новобранцы. Вот-вот, новобранцы, которых призвали, и мы идем, дисциплинированные, тащимся на зов трубы, разве что не строем, а каждый сам по себе, вразброс и неслышно…
Один пакет оказался тяжелее прочих. Неужели? Не веря этакому везению, осторожно наклонял прохладную емкость в одну сторону, в другую – определял по звуку, полна ли, как вдруг белая быстрая струйка сбежала мимо рук вниз, прямо на его войлочные сапожки. Отстранив дырявый пакет, стоял раскорякой в допотопном своем пальто, ногами постукивал, сбрасывая молоко с сапожек, дабы не промокли, – как опять-таки Савельевна в своих ботиках, когда, летя к «горящему» дому, наступала нечаянно в лужу.
О, эти ботики! Эти белые занавески на окне!
Кто-то бесцеремонно тронул его за локоть, даже не тронул, а толкнул легонько, и он, испугавшись, что облил кого-то, отдернул пакет. А ему, оказывается, другой протягивали, целехонький, – во всяком случае, не капало.
Это был не последний пакет, три других цепко и уверенно прижимались растопыренной пятерней к оранжевой, в бахроме, курточке – их-то, в первую очередь, и узрел К-ов, а уж после и благодетеля увидел, длинноволосого, лохматого, совсем юного: бритва, судя по всему, еще не касалась прыщавого бледного личика. В оттопыренном ухе блестела сережка… «Бери, дед, чего глядишь!»
И К-ов взял. Принял аккуратно, а тот, дырявый, все держал и держал на отлете немеющей рукой, пока какая-то толстуха не бросила зло: «Льется вон – ослеп, что ли!»
Кормление диких уток в чужом прудуНедоверие, подозрительность, неприязнь даже, которую в трезвом состоянии умный Петя Дудко старательно подавлял, вызревали исподволь, началось же все… С чего? Да, с чего? Прежде ведь друзьями были. Ну, может, не друзьями – товарищами, приятелями. К тому же жили по одной дороге и обычно на пару возвращались из арбитража на последней электричке.
Раз, уже в поезде, говорун Петр смолк внезапно, по-собачьи головой помотал, стряхивая хмель. «Свиньи…» И не прибавил больше ни слова, а когда вспыхнул свет и голос в динамике объявил, что поезд следует туда-то и туда-то, остановки такие-то, быстро пожал плечо товарища и выскочил на пустую платформу.
Денег на такси не было – какие деньги! – и он битый час топал по Садовому, трезвея от непривычного глазу ночного простора и собственной целеустремленности.
Тинишин открыл сразу, не спросив даже, кто там: не впервые возвращались, опоздав на метро, полуночные его гости. На столе уже белела доска с чертежом, но он молча отодвинул стол, за раскладушкой полез – она тоже на шкафу лежала, рядом с велосипедными колесами. Петр остановил его. Скинул пиджак, галстук снял (он всегда в галстучке ходил), стянул рубашку и, открыв кран, сунул под звенящую струю голову. Фыркал и кряхтел, стонал от удовольствия, шлепал ладонью по загоревшей шее. Привыкший ко всему Боря Тинишин без удивления наблюдал за поздним омовением, а когда приятель закрутил наконец кран, подал чистое, с рубцами от глажки, полотенце. (В этом доме всегда были чистые полотенца.) И опять стонал, вытираясь, Петр Дудко, опять крякал смачно. Любил плотские радости, любил баню и пивко, особенно первые два-три глотка, после которых с шумом переводил дух. Очень волейбол любил, и не болеть – играть; удары его считались неотразимыми…
Вытершись насухо, натянул на крепкое розовое тело рубашку, причесался, продул со свистом расчесочку и шагнул к столу. «Ну-с, – молвил, – командуй!» – и, без пяти минут инженер (инженер-строитель), взял остро отточенный карандаш.
До рассвета не разгибали спины, разве что отрывались ненадолго, чтобы попить чайку. То была великолепная ночь – Дудко после вспоминал о ней часто, а К-ов завидовал. Ему-то судьба не подарила, такой ночи, но он так отчетливо, так живо и ярко рисовал себе все – и скупой, трезвый разговор (мужской разговор!), и запорхнувшую с улицы бабочку, бледная тень которой металась по ватману, и сопенье чайника на электроплитке, – что в конце концов длинная и светлая ночь эта стала его тоже ночью. Теперь уже не только Петр, теперь уже и К-ов вспоминал о ней, раз даже – вслух, при Петре (Петре Лукьяновиче), и посолидневший, погрузневший Петр Лукьянович уставился на него с изумлением. «А ты откуда знаешь? Тебя ведь не было».
К-ов смутился. Он точно помнит, что смутился – будто с поличным поймали! – и наблюдательный Петр заметил это. «Ты рассказывал», – пробормотал сочинитель книг, «О бабочке рассказывал?» – еще больше удивился Дудко.
О бабочке не рассказывал. И тем не менее К-ов видел ее, мечущуюся в ярком свете, видел, как на ромашку села. Трепещущее тельце на миг успокоилось: поверила, что ромашка не сорвана, земля внизу, а вверху небо… Тинишин, приблизившись, осторожно протянул к стеблю руку. Поднести к окну, стряхнуть: лети, пленница! – но глупая бабочка сорвалась с цветка и в панике снова закружила по комнате…
Дудко пристально смотрел на гуманитария. Ни единого вопроса не задал больше, но именно с этого момента началось отчуждение. К-ов чувствовал: Дудко избегает его, и – что особенно угнетало – основания для этого у подозрительного, отяжелевшего Петра Лукьяновича есть. А когда-то таким легким был! Таким беспечным и контактным! «Я ведь, – сообщал доверительно, – знаете откуда? С улицы Подберезовики». И ждал, когда спросят, где такая.
Некоторые спрашивали. «Не в Москве, разумеется, – отвечал довольный Петр. – В Москве у вас разве есть такие улицы!»
К-ов верил ему. И когда, отправляясь, вскоре после института, в его края, пробежал глазами адрес на аккуратной посылочке, что заботливый сын поднес к поезду, то в первый момент даже растерялся. «А разве не Подберезовики?»
Петр вытянул губы трубочкой. (Это он так улыбку прятал.) «Переименовали», – произнес тихо. Голубые глаза хитро блестели, и рубашка тоже была голубой, с короткими рукавами… Москва не угнетала его, как угнетала К-ова, он не благоговел перед столицей, не тушевался. Хотя городишко, где родился, выглядел глухоманью по сравнению не только с Москвой, но и даже с его, К-ова, областным городом. Грибы, конечно, не росли на улицах, но это сейчас не росли. В детстве Петя, может быть, и собирал их. А уж рыбку наверняка ловил, только К-ов узнал это не от самого Пети и не от матери его, сухопарой неразговорчивой старухи, тем не менее накормившей гостя молодой, со своего огорода, картошкой и вишневым пирогом, а из того же таинственного источника, что поведал про плененную ночным арбитражем бабочку.
Пробираясь на велосипеде по ухабистой подмосковной дороге, что втиснулась между хилой лесополосой и засеянным кормовой свеклой полем, беллетрист вспомнил вдруг – не умом, не сознанием, а всем существом своим, – как шел, босой, по этой шершавой, нагретой августовским солнцем земле, без рубашки, в закатанных до колен штанах, с удочками в одной руке и банкой с водой и рыбками в другой. Шумела береза, очень высокая, затесавшаяся непонятно как в жалкие кустики вдоль дороги, на обочине валялся серовато-бурый корнеплод, он еще поддел его ногой, большим пальцем, но поддел не сильно, просто дотронулся, почтил вниманием (усмешливое выраженьице Пети Дудко) и прошагал, не задерживаясь, дальше с мимолетной досадой на лице. Вырвали… Бросили…
Руль дрогнул и заупрямился – в засохшую грязевую колею попало велосипедное колесо, – но К-ов удержал равновесие. Огляделся… И береза была (действительно высокая: листья зернисто трепетали на солнце), и корнеплод валялся, похожий из-за усиков на гигантскую улитку, но никогда прежде не хаживал по этой дороге, тем более в детстве (а тот, босой, был явно мальчишкой), тем более с удочками, кормовую же свеклу впервые увидел уже взрослым. Однако помнил ведь! Помнил и прикосновение к крутому свекольному боку слегка поджавшегося пальца, и шелест пыльной ботвы… А рядом то ли отец шагал, то ли брат старший. Вот-вот, старший. Фотографию его К-ов видел в Петином доме, когда ел, запивая холодным молоком, вишневый теплый еще пирог.
Быть может, мать обмолвилась о рыбалке? Нет, мать помалкивала, лишь о здоровье сына осведомилась да поинтересовалась, не с ним ли ее Петенька развозил к самолетам газеты? Ну как же, обрадовался К-ов, как же! Ночь они работали, ночь – другая пара, тоже студенты, один из ГИТИСа, Лешей зовут, актер сейчас, а шофером у них был Костя Магарян. Не слыхали? Нет, о Магаряне мать не слыхала. Провожая к калитке гостя, еще раз спросила, как там чувствует себя сын, и он не обратил внимания на этот повторный и такой естественный в устах матери вопрос, но позже, когда между приятелями кошка пробежала (разумеется, черная – неизменное действующее лицо всех мистических историй), К-ов, задним уже числом, различил в голосе старой женщины как бы напряженность. Словно укоряла в чем-то… Словно подозревала, что он, К-ов, тишком обирает ее сына. На ведущей к калитке асфальтированной дорожке чернели там и сям вишни. К-ов боялся наступить на них и попеременно смотрел то под ноги, то на петуха, что разгуливал среди чахлых помидорных кустиков с непропорционально большими, еще зелеными плодами, то на хозяйку. День был жарким и тихим, середина июля, уроженец юга любил это время года, но не всегда умел попасть в него, часто проскакивал впопыхах мимо. Так было и в то лето, какое-то бестолковое и суетливое, быстрое – раз и нету. Лишь много времени спустя, пробираясь на велосипеде вдоль свекольного поля, вспомнил ни с того ни с сего, как шел по нагретому солнцем пятнистому асфальту, который клал, быть может, Петя Дудко, и повернулся к провожавшей его женщине, и что-то сказал, а поднятая нога зависла в воздухе, чтобы в следующий миг с чавканьем раздавить вишню.
Конечным пунктом велосипедных вылазок был пруд. Между двух вековых лип приспособили на единственной опоре посередке длинную и толстую доску. Настолько толстую, что хоть бы шелохнулась, когда садились! От времени доска задубела и потемнела, бесчисленные зады до блеска отполировали ее, а любители оставлять автографы изрезали ее вдоль и поперек. Прежде чем сесть, К-ов смахнул камушек. Тот шлепнулся в воду, и тотчас за ним нырнули две утки. Решили, должно быть, – угощение. На руле прислоненного к липе велосипеда висела сумка с бутербродом и огурцом, невольный обманщик снял ее и, отщипнув корочку, бросил. И опять головой вниз бултыхнулись птицы. А издали подплывала уже их товарка. Тихо скользила, с достоинством, оставляя за собой вытянутый треугольник. К-ов, размахнувшись, и ей швырнул, но не добросил, корочка ко дну пошла. Утка нырнула – и не как первые две, чьи раздвоенные хвосты торчали, подрагивая, а совсем исчезла, когда же появилась, то в длинном клюве торчала добыча.
Какие, оказывается, длинные клювы у уток, подумал он, но подумал как-то нарочито, вслух (хотя губ не разомкнул – именно подумал), под внешним же удивлением таилось спокойное узнавание. Не раз и не два кормил вот так прожорливых птиц, разве что не на велосипеде приезжал, а приходил пешком, с удочками и со старшим братом, которого у него отродясь не было…
Арбитражу тем временем пришел конец: Боря Тинишин, так и не женившийся, получил – не без помощи Шнуркача – однокомнатную квартиру. Новоселье долго откладывал: то мебелью, дескать, не обзавелся, то командировка, но устроил-таки под нажимом Пети Дудко, и устроил по-арбитражному. Умудрился даже кильку достать – ту самую, по 88 копеек, пережаренную, непотрошеную, и голова на месте, и хвост, однако она успешно конкурировала с осетриной. (Осетрина была.)
Вот тут уж вспоминали всласть. Боксерскую вспоминали грушу, велосипед на шкафу, покойного Лешу, которого на самом деле звали Константином, ночные бесцеремонные вторжения, причем особенно усердствовал К-ов, точно демонстрировал кому-то (Петру Лукьяновичу, кому же еще): помнит, но помнит лишь то, чему сам свидетель, и ничего кроме. Слышишь, Петр Лукьянович, ничего!
Дудко не верил ему. И правильно, что не верил, ибо и уточки ведь были (с длинными клювами), и рыбалка, и старший брат, смастеривший рогатку, из которой пуляли по засевшим на макушке яблокам. О рогатке Петр даже не упоминал никогда, но перед глазами стояло, как после многих выстрелов шлепнулся к ногам подберезовского мальчугана крупный, с розовым бочком плод.
Босоногий снайпер триумфально вскинул вверх руки. Вот так же впоследствии, уже в Москве, вскидывал их на стадионе, послав через сетку неотразимый мяч, – это-то К-ов видел собственными глазами. «Что волейбол? – беспечно осведомился он. – Играешь?»
Петр Лукьянович смотрел на него, скосив красные, с прожилками глаза. Не верил… Опять не верил! К-ов заволновался. «Четыре мяча подряд забил, помнишь? Потом еще пиво ходили пить. С рыбкой вяленой, из дома тебе прислали… Неужели не помнишь?»
Серые губы Петра Лукьяновича растянулись, обнажив металлические коронки. «Помню, – усмехнулся он. – Я все помню», – и продолжал всматриваться в приятеля студенческих лет, а тот, горячась, твердил зачем-то, что Петр сам провел их на трибуну. И его, и Магаряна, и Тинишина… «Скажи, Борис! – в отчаянье обратился за поддержкой к хозяину. – Еще рыбку ели».
Тинишин насупился, не понимая, чего хотят от него, на кильку глянул, и К-ов, засмеявшись (неестественно засмеявшись, нехорошо), сказал, что не об этой рыбке идет речь, о другой, в магазине не продается такая. И тотчас спохватился, что выдал себя. Теперь Петр наверняка осведомится, откуда, мол, известно ему, что не продается. Ловил он ее, что ли, в подберезовских прудах?
Но Петр ни о чем не спросил. Облизал губы, рюмки наполнил. «За арбитраж, а?»
К-ов покорно опорожнил свою, но хмель не брал; он устал, сник и, сославшись на срочную работу, поднялся.
Его не задерживали. Тинишин до лифта проводил, а Дудко некоторое время сидел, забывшись, потом взял гитару, долго настраивал и наконец ударил по струнам. Одна оборвалась. Беллетрист в это время далеко был – то ли в метро входил, то ли спускался на эскалаторе вниз, то ли уже в поезде ехал, – но долгий, тонкий звон той лопнувшей струны слышится ему до сих пор.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































