Текст книги "Людовик XIV, или Комедия жизни"
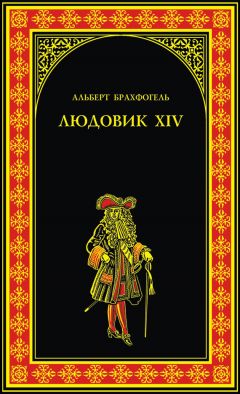
Автор книги: Альберт-Эмиль Брахфогель
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Как громом пораженный, стоял король у трупа Анны Орлеанской, тяжелое молчание царило в комнате. Вдруг, круто повернувшись, Людовик проговорил глухо:
– Позвать Кольбера, Таранна, Фейльада!
Названные вошли.
– У всех дверей, у всех выходов двойную стражу! Кольбер, начните обыск! Остальные удалитесь!
Придворные вышли, примеру их хотели последовать королева и герцог Орлеанский.
– Останьтесь! – произнес король, запирая дверь.
– Филипп, чье это дело? Она намекала вам, что вы кое-что знаете о разговоре, бывшем здесь сегодня утром! Не в первый раз замышляете вы убийство! Сознавайтесь, или, клянусь Богом, я поступлю с вами, как с Равальяком, убийцей Генриха Четвертого.
– Я беспрекословно подчинюсь всякому решению вашего величества, – возразил принц, – но, даже в этот страшный час, надеюсь на правосудие, государь. О вашем разговоре с принцессой я узнал вот из этой записки, найденной мною под моим обеденным прибором. Может быть, она осветит это темное дело!
Король взял бумагу и громко прочел:
«Сейчас его величество король высказал принцессе намерение искать обоюдного развода. Он хочет сделать Анну королевой! Я слышал предложение, и как милостиво было оно принято!
Лорен».
– Лорен! Он, никто другой, он убийца! – Король бросился к двери. – Шевалье де Лорен скрывался в замке! Таранн, обыскать каждый уголок! Конных патрулей во все стороны! Десять тысяч ливров тому, кто схватит преступника! Гофмейстера принцессы!
Захлопнув дверь, король подошел к трупу и, положив руку на грудь принцессы, проговорил:
– Клянусь этим сердцем, сердцем, вмещавшим сильную волю и непоколебимое мужество, бившимся только для нашего счастья и славы Франции, я принесу тебе такую очистительную жертву, пред которой содрогнется вся Европа, и все, знавшие тебя, вечно будут помнить день твоей смерти!
Ввели гофмейстера Пурнона. Быстро повернулся к нему король.
– Ты ввел в замок де Лорена, ты подал принцессе шоколад! Ты, бездельник, был участником этого страшного преступления! Горе тебе! Сознавайся во всем, называй участников: как бы высоко они ни были поставлены – я отомщу!
– Призываю Бога в свидетели, государь, я невинен, клянусь, невинен! Я подал ее высочеству шоколад, по обыкновению, приготовленный в кухне. Принцесса собиралась на бал, вследствие чего меня сильно торопили, и мне и в голову не пришло заглянуть в чашку, стоявшую в буфете, как и всегда, на своем месте. Я действительно поместил во дворце некоего патера Иозефа, лицо которого мне было как будто знакомо, но сделал это по именному приказанию ее величества королевы, переданному мне графом Сен-Марсаном. Ослушаться приказания королевы я не осмелился, особенно же теперь, когда Сен-Клу полон посторонних посетителей. Услышав о страшном происшествии сегодняшнего дня, я по какому-то необъяснимому предчувствию бросился в комнату, где ночевал патер Иозеф. Он исчез, оставив на столе письмо к вашему величеству. Вот оно!
Король взял бумагу.
– В Бастилию его!
В комнате у трупа Анны Орлеанской оставались теперь Кольбер, герцог Орлеанский и королева. Сорвав конверт, король быстро пробежал написанные строки, и вдруг, покачнувшись, стал белее стены. Филипп не спускал с него глаз…
– Единственное утешение, испытываемое нами в эту страшную минуту, – простонал наконец король, – это полнейшее убеждение в вашей невиновности, Филипп! Простите нам минутное подозрение, совершенно, впрочем, естественное, теперь мы знаем настоящего преступника!
– Кто это, государь, кто?!
– Кроме меня и Бога, никто не узнает его имени, никто! Ступайте, Кольбер проводит нас. Успокоившись, мы посетим вас.
И, протянув принцу руку, он разом обернулся к королеве. Дверь затворилась за Кольбером и Филиппом. Людовик близко подошел к Терезии и протянул ей ее собственное письмо:
– Вы преступница, вы!!!
– Да! – Злая усмешка пробежала по лицу королевы. – Я одна отвечаю за это дело! Как смертельный враг Испании, как женщина, обворожившая вас, она должна была умереть! Она доказала, что может сделать любовь, я взялась показать силу ненависти: и победительницей вышла я!
– Вы следовали лишь голосу ненависти, так да будет же он и нашей путеводной звездой! Торжество ваше перейдет в ужас! Конечно, королева, супруга наша, не может быть судима наравне с нашими подданными, но есть наказание и для вас, наказание, которое для чувствительного сердца было бы в тысячу раз тяжелее смерти. Клянусь Богом, Царем царей, клянусь этим, вами убитым ангелом, мы расстаемся навеки! Ни нас, ни дофина – сына вашего, вы никогда не увидите. Боссюэ станет его воспитателем. Каждый день, в этот самый час, вы будете являться в королевскую часовню молиться за упокой души убитой. Слышите ли, каждый день, хотя бы нашей страже пришлось вас тащить к алтарю! С этих пор вы станете набожной королевой!
Людовик вышел.
Несколько минут стояла неподвижно донна Терезия, точно стараясь вникнуть в смысл только что слышанной речи, потом дико, страшно вскрикнула и без чувств упала к ногам своей жертвы.
В этом положении застали ее придворные и перенесли в Сен-Жермен.
Страшное происшествие быстро рассеяло аристократическое общество, готовившееся к балу, и к вечеру Сен-Клу, свидетель горя, радости и смерти дочери Карла II, опустел окончательно.
Глава VII. Король-иезуит
Редкая смерть возбуждала столько толков, горя, удивления, как внезапная кончина герцогини Орлеанской. Ум, красота, любезность, обходительность принцессы давно сделали ее любимицей парижан, и, несмотря на то, что она была из дома Стюартов, народ видел в ней истую француженку. Всякий смелый шаг, всякий предприимчивый замысел, приписывался ей; на нее смотрели как на гения – покровителя короля, как на представительницу славы, могущества и чести Франции. Боссюэ, воспитатель дофина, в надгробной речи принцессе ярко обрисовал ужас и горе, возбужденное ее кончиной во всех слоях общества, и, несмотря на все усилия двора скрыть истину перед глазами света, в народе ходил уже темный слух о том, будто Анна Орлеанская пала жертвой тайного злодеяния. Скрыть же действительную причину смерти герцогини было необходимо: преступница была ведь неприкосновенна. Мало-помалу прекратились все розыски по этому делу. Пурнон вышел из Бастилии, его наказали лишь повелением оставить двор и поселиться в имении, купленном ценой крови. Преследование де Лорена, внезапно появившегося при лотарингском дворе, тоже прекратилось; вообще, это темное дело старались всячески замять, так как разъяснение его ставило на карту не только честь королевской фамилии, но и Дуврский договор. Действительно, первое известие о внезапной кончине герцогини Анны подняло целую бурю при Сент-Джеймском дворе и грозило разорвать едва завязавшуюся дружбу, но французское золото, щедро сыпавшееся придворным Карла II, и прелести мадемуазель де Керуаль, ставшей фавориткой Карла и герцогиней Портсмутской, скоро изгладили дурное впечатление в забывчивом сердце короля Англии. Принц Филипп очень равнодушно относился к столь близкой ему потере; он, впрочем, совершенно разделял мнение де Лорена, что, если бы Анна прожила дольше, намерение короля относительно разводов было бы исполнено, так как, по всем вероятиям, сердце его жены не устояло бы против постоянной, преданной любви Людовика XIV. Одна мысль об этом поднимала в душе Филиппа всю старую вражду и злобу к брату-королю и заставляла его смотреть на все гнусные проделки своего бывшего любимца почти как на личное одолжение. Не при его ли помощи он вышел из затруднительного, невыносимого положения? Он решил снова сблизиться с де Лореном; живо завязалась переписка, сначала натянутая, но быстро перешедшая в дружеский тон благодаря иезуитскому посредничеству. Смерть Анны прекратила при дворе на время все сплетни и интриги, точно она и была причиной раздоров в королевской семье. Один король был глубоко поражен потерей Анны, так глубоко, что весь мир с его обаятельными увлечениями и прелестями скрылся для него, и лишь бесконечная ненависть к врагам, бывшим и ее врагами, лишь нестерпимая жажда мести охватила его сердце. Ему мало было раздавить и уничтожить при случае всех зачинщиков и участников этого дела.
Нет, он хотел мстить Вене, Мадриду, Нанси, дворы которых были постоянным приютом всех интриг против Анны. Теперь-то, пользуясь предлогом законного возмездия, выступила наружу его страсть к завоеванию, его старинные планы о расширении границ своего государства, словом, нравственная узда, наложенная на него близостью Анны, лопнула, а с нею вместе исчезло всякое сознание справедливости, всякое уважение к освященному веками порядку вещей. Военный министр Лувуа, человек, вполне преданный иезуитам, маршалы Конде и Тюренн совершенно одобряли воинственные замыслы короля. Один Кольбер был против, но напрасно боролся он с жаждой мести и славы, напрасно доказывал, что благоденствие Франции, ее зарождающаяся промышленность, торговля, культура требуют глубокого мира, что война, грозящая быть бесконечной, вконец истощит родную страну – Людовик был неумолим и глух: не стало посредницы, которая одна могла и умела сдерживать и направлять его.
Не прошло и месяца со дня смерти герцогини Орлеанской, а военный вопрос был уже решен – и от Кольбера потребовали огромную сумму денег для предстоящих вооружений армии и флота. По окончании конференции довольный, торжествующий Лувуа остался в королевском кабинете. Людовик XIV внимательно рассматривал карты и планы, лежавшие перед ним на столе. В мечтах он уже переходил границы Франции. Заметив остановившегося Лувуа, король обернулся к нему:
– Что еще скажете?
– Маленькое замечание, сир, боюсь только, что оно будет принято немилостиво!
– Какое? Говорите!
– Ваше величество подготовляете события, долженствующие поразить мир ужасом и удивлением. Богатства Франции неистощимы, арсеналы наши полны, войска горят жаждой славы; победа во всяком случае наша. Но, государь, есть сила, без которой всякая победа не полна, всякое приобретение неверно; единственная сила, могущая отдать вам навеки то, что завоюет ваш меч!
– Вот как! И эта сила…
– Церковь и ее воинство – отцы иезуиты!
– Ни слова об этих господах! Мы не нуждаемся в попах! Прибрав к рукам дворы наших врагов, они давно добираются уже до нашего. Следы их становятся даже заметны: не они ли исподтишка подготовили страшную смерть бедной герцогини Орлеанской? Не советую вам быть передо мною ходатаем этого ордена!
– Я вовсе не хочу быть ходатаем иезуитов, государь. Я осмеливаюсь только представить вашему величеству, что не следует пренебрегать такой силой, отталкивать такую важную помощь из-за неопределенных, недоказанных подозрений!
– Интересно знать, чем докажете вы непричастность езуитов к этому делу?
– Конечно, государь, против них лишь ни на чем не основанные подозрения, все же факты за них, и показывают, что орден не мог запятнать себя кровавой смертью герцогини Анны. К тому же надо прибавить, что иезуиты гораздо больше пользы принесли вашему величеству, чем вы полагаете!
– Все это прекрасно, к несчастью, нам надоело слушать вашу хвалебную песнь святым отцам. Можете идти!
– Как прикажете, сир. Но, оставляя вам вот эти бумаги, позволю себе еще один вопрос: разве католическая, строго монархическая Англия – не лучшая союзница, чем Англия еретическая, парламентская? Разве при заключении Дуврского договора у вашего величества не было великой мысли, что победа белой лилии будет началом утверждения и распространения истинной церкви? И не был ли патер Питер вашим лучшим агентом в Лондоне и не он ли спас в Кале принцессу от покушения де Лорена?
– Положим, Питер принес нам много пользы в Лондоне, положим даже, что он действительно защитил тогда принцессу, но что им руководило во всем этом – неизвестно!
– Соблаговолите, государь, просмотреть вот эти бумаги; они разъяснят вам этот вопрос и заставят переменить ваш взгляд на весьма многие вещи!
– От кого эти бумаги?
– От мадам де Ментенон, государь.
– От Ментенон! Опять это имя! Ну, мы когда-нибудь доберемся наконец до ее замыслов, сорвем с нее личину святости! Можете на это вполне рассчитывать.
Лувуа поклонился и вышел.
Напоминание об иезуитах, о Ментенон сильно раздражило Людовика. Гнев и неопределенное, связанное с подозрением любопытство заставили его тотчас развернуть бумаги, оставленные военным министром. С замирающим сердцем принялся он за чтение… И странно, чем дальше подвигалось оно, тем более убеждался король, что он, Людовик Великий, уже восемь лет слепое орудие иезуитов, невольный исполнитель всех планов, задуманных и развитых мадам де Ментенон!
В руках короля была полнейшая, по числам подобранная корреспонденция иезуитской партии, каждая строка которой ясно показывала настоящее значение Ментенон и ее, все возрастающее влияние на орден. Переписка начиналась в тысяча шестьсот шестьдесят первом году, но только с тысяча шестьсот шестьдесят седьмого она приобретала жгучий интерес для царственного чтеца: с того именно времени завязывались прямые отношения главы иезуитов в Риме с вдовою Скаррон.
Ничто не могло быть оскорбительнее для короля, чем постепенное осознание того, как орден Лойолы при помощи этой женщины прокрался во все щелки его внутренней жизни! Любовь и честолюбие принцессы Орлеанской, страсть к ней самого короля, бешеная ревность Филиппа, ненависть Терезии – все-все было известно иезуитам, всем пользовались они, тонко и незаметно заставляли короля исполнять то, чего хотели в Риме. Хитрый орден победил, сам же он, Людовик, вел ненавистных иезуитов к победе, и вот доказательства их торжества! Вот они, эти письма, каждая строка которых ясно говорит: «Ты делал то, что мы хотели, ты исполнил лишь желания! Мы – твоя судьба!» Взбешенный король, вовсе не бывший человеком, охотно подставляющим шею под ярмо, решил тотчас же покончить с Ментенон и ее черными сообщниками и во что бы то ни стало порвать и уничтожить опутавшие его сети римской политики.
На следующий день приказано было мадам Ментенон приготовиться к принятию короля у себя в доме; туда же велено явиться патеру Летелье и Лашезу. В назначенный час Людовик XIV отправился на улицу Тиксерандери в сопровождении мадам Гранчини, д’Эфиа, Сен-Марсана, Фейльада и Таранна с мушкетерами. Все сторонники иезуитов, казалось, чувствовали, что свидание это не приведет к добру, и струсили не на шутку; патеры же Лашез и Летелье желали бы лучше сквозь землю провалиться, чем явиться в назначенный для королевского посещения час, но не осмелились ослушаться категорического приказания Ментенон. Она одна, глава иезуитской партии во Франции, вдова бедного писателя фарсов, только она бесстрашно смотрела в глаза опасности, спокойно ожидая приближающуюся грозу…
Как только король вступил на лестницу маленького дома Ментенон, стража его заняла все выходы… Оставив свиту в смежной комнате, Людовик вошел в приемную лишь в сопровождении Фейльада и Таранна. Ему казалось, что хозяйка дома употребит всевозможные женские уловки для отвращения грозы, он ожидал даже, что навстречу ему будет выслана маркиза де Монтеспан с королевским ребенком на руках, чтобы вздохами, слезами, мольбами разжалобить его прежде, чем виновница всего, сама Ментенон, осмелится явиться ему на глаза.
Он ошибся. Эта женщина, сила и странное влияние которой бесило, унижало, раздражало его, стояла тут, перед ним, гордо выпрямившись, с полным сознанием своей правоты. Ее большие, блестящие глаза твердо и прямо смотрели на короля.
За нею жались, смиренно согнувшись, патеры Лашез и Летелье, выжидая, как разыграется сцена…
– Ваша переписка, переданная мне Лувуа, – начал король, – так странна, что я решился сам, лично, потребовать у вас разъяснения тех поповских интриг, при помощи которых вы намерены учредить у нас государство в государстве и сделать из Франции римскую провинцию! Советую вам быть правдивой, или я засажу вас и ваших сателлитов в такое местечко, где у вашего благочестия пропадет всякая охота заниматься грешными делами мира сего! Истина, одна только истина может несколько смягчить вполне заслуженное вами наказание.
– Не думаю, государь, – кротко возразила Ментенон, – чтобы Франсуаза Скаррон с тех пор, как она имеет счастье быть известной вашему величеству, заботилась сколько-нибудь о своей собственной доле. Я живу не для себя, сир, но для выполнения той великой задачи, которой служу. Лучшим же доказательством того, что я хочу и должна быть откровенна, правдива перед вами, служат уже те бумаги, благодаря которым я имею сегодня счастье принимать у себя ваше величество! Но все мои объяснения могут быть сделаны только одному королю. Прошу ваше величество войти в мой кабинет.
– Я не вижу ни малейшей необходимости в таком уединении. Эти господа настолько нам преданы, что могут свободно слушать все ваши излияния.
– Другими словами, сир, – и по лицу Ментенон пробежало выражение насмешливого сожаления, – владыка Франции отступает перед слабой, беспомощной женщиной! Я предполагала больше твердости и характера у вашего высочества, иначе я избавила бы вас как от чтения известных вам бумаг, так и от настоящего затруднительного положения.
– Клянусь прахом моих предков, она смела до безумия! Никто в целой Европе не осмелится говорить со мной таким образом, не осмелится упрекнуть меня в недостатке мужества!
– А я осмелюсь даже повторить вам, что вы трепещете и отступаете передо мною потому, что я, и только я одна, скажу вам истину в лицо, скажу, что сделать должна я и что обязаны исполнить вы, государь! Блеск ваш не ослепит меня, ваше благоволение меня не подкупит! Я спокойно жду, когда вашему величеству заблагорассудится свести со мною счеты!
– Что значит свести счеты с вами?
– Это значит, сир, что с нынешнего дня вы должны будете забыть прошлое и начать новую жизнь. Или вы выслушаете с глазу на глаз то, что необходимо вам сообщить, или же, отказавшись, накажете меня за то, что, вопреки вашему желанию, вами же самими будет все-таки исполнено!
Свита Людовика XIV переживала за Ментенон при этой безумно смелой речи. Все ждали взрыва. Король был, видимо, взбешен, но не столько смелостью этой женщины, сколько мучительной душевной борьбой гордости и религиозного страха. Бросив шляпу на стул, он сильно забарабанил по стеклянной раме окна; потом, круто повернувшись, сказал:
– Право, Таранн, она или сумасшедшая или же хочет быть мученицей своей партии, своих убеждений! Оставьте ваши поучения, сударыня, или легко может статься, что вас с попами выгонят из Франции!
– И вслед за этим нарушат Дуврской трактат, заключат союз с гугенотами и гражданами Амстердама, сделают их религию господствующей в нашем отечестве, словом, откажутся от всех тех планов, ради которых ваше величество предпочли донну Терезию Испанскую принцессе Стюарт! Клянусь Богом, если вы добиваетесь только этого, то я желаю напрасно, – и нет для меня ничего желаннее смерти!
Король затруднился ответом. Ему очень не хотелось разыгрывать долее роль ученика Ментенон, да еще в присутствии посторонних. Резкое прекращение всяких объяснений одно только могло вывести его из затруднительного положения, но этим не достигалась цель его посещения.
– Если вы и злоупотребляете преимуществами вашего пола, – проговорил наконец король, – то никто не может сказать, будто я забываю правила вежливости. А терпению моему предстоит сильное испытание! Идем в ваш кабинет!
Ментенон, улыбаясь, отворила дверь и, бросив святым отцам торжествующий взгляд, последовала за королем.
Комната, в которую вошел теперь Людовик XIV, невольно обратила его внимание: ему до сих пор не случалось еще видеть такого, полного святости и учености кабинета. Вдова Скаррон и здесь осталась верна себе. У окна стоял тот же самый письменный стол ее мужа, то же кожаное кресло, та же ландкарта с красными точками висела на стене; только эти точки теперь заметно умножились, и Франция, обведенная бледно-зеленой чертой, точно растянулась от Эмдена и Нордеренея до Гибралтара. Англия и немецкий Пфальц обозначены были тем же цветом. По стенам кабинета стояли шкафы, сквозь их полуоткрытые дверцы виднелись кипы бумаг и книг. Напротив единственной двери этой комнаты стоял алтарь черного дерева, на нем распятие и свечи, у левой же стены виднелась высокая кровать, полузакрытая темно-серой драпировкой. Ментенон спокойно остановилась перед королем, глядя на него с улыбкой, ясно говорившей, что она замечает его удивление. Несмотря на свои сорок пять лет, вдова Скаррон была еще замечательно хороша; если стан ее и стал несколько полнее, то на лице все-таки не было ни одной морщинки, а большие, блестящие глаза ничуть не утратили той магнетической силы, которая восемь лет назад так очаровывала короля.
– Кончите ли вы наконец эту комедию, – досадливо вскрикнул Людовик, точно желая избавиться от подавляющего впечатления. – Я знаю, что вы как умная женщина отлично умеете пользоваться своими средствами – хитро и кстати прикидываетесь страстно-религиозной, но все это вовсе не из слепой преданности Риму, имеющему и без того довольно силы и влияния во Франции, а из личных, честолюбивых целей.
Насмешливая улыбка и взгляд дополнили смысл этих оскорбительных слов.
– Не можете ли вы, государь, вместо намеков и мины, которую я принимаю за выражение глубочайшего презрения, назвать прямым именем эти мои личные цели?
– Да разве вы не соблаговолили выдать нам их, в набожно-любовном признании в тот самый день, как были в первый раз представлены нам Мольером? Ну-с, так во всей вашей деятельности, вплоть до присылки нам вашей корреспонденции, вы с редким постоянством и необдуманностью преследовали всю ту же интересную цель.
– Еще раз прошу вас, сир, назовите мне эту цель.
– Черт возьми! Да она состояла в том, что вы имели такое высокое мнение о своем уме, прелестях и о моем вкусе, что смело рассчитывали при помощи вашей набожности и господ иезуитов сначала столкнуть герцогиню Лавальер, потом заменить маркизой Монтеспан принцессу Анну, а в конце концов самой занять их место! Но в вашей преступной суетности и самообольщении вы забыли, не сообразили, что страшная смерть принцессы Орлеанской откроет нам глаза на происки вашей партии, и… и сделает нас недоверчивым ко всякой женской политике, если бы даже она появилась тысячу раз в более прелестном, обольстительном образе, чем особа вдовы Скаррон!
Смертельно побледнела Франсуаза при этих словах и с дрожью в голосе ответила:
– Если бы как убийцу Анны Орлеанской ваше величество приговорили меня к казни на Гревской площади или присудили меня к пожизненному заключению в подземельях замка Сент-Иф, я была бы не так больно, жестоко поражена, как этим намеком на то, что я добиваюсь вашей любви во что бы то ни стало, не уступая даже перед убийством. Узнайте же, – продолжала она с насмешливым поклоном, – что раз и навсегда я отказываюсь от столь великой чести. Опасения вашего величества в этом отношении совершенно неосновательны. Мне не по вкусу, да и не по летам уже добиваться вашей благосклонности! Сердце мое отдано теперь тому Царю царей, пред которым вы так же ничтожны, как и я!
Удивление короля было безгранично.
– Так вами руководило не личное честолюбие? Вы не мечтали занять со временем положение принцессы Орлеанской?
– Хотите ли знать, государь, почему я вам когда-то сказала, что буду вашим последним другом? Что ваше холодеющее, опустелое сердце, ваш неугомонный дух найдут во мне утешение? Я предвидела, что вы не всегда будете, как тростник, колебаться между женщинами и стремлением к славе и что наступит наконец время, когда жизнь покажется вам пустой, все ваши начинания – скоропреходящими, ничтожными, и из груди вашей вырвется крик Соломона: «Все суета сует!» Тогда-то вы обратитесь ко мне, бедной, презренной женщине, и я дам вам вечное утешение, но вместе с ним и сознание прежних ошибок! Да, государь, я знала, что блеск не доставит вам того внутреннего мира, который дается лишь служением Всевышнему, и что вы станете действительно великим Людовиком лишь тогда, когда, отказавшись от страстей мира сего, сделаетесь наместником Бога на земле! Если бы я была завистливой соперницей ваших любовниц, то к чему мне было наблюдать за де Лореном, если бы герцогиня Орлеанская стояла на моей дороге? Не по моему ли указанию патер Нейдгард открыл доступ к испанскому престолу одной из дочерей герцогини?
Не я ли поручила патеру Питеру наблюдать за шевалье во время поездки Анны Орлеанской в Дувр? А ведь лучшим средством удалить незаметно соперницу было предоставить ее во время этого путешествия воле судьбы. Вы должны сознаться, сир, что для честолюбивой и влюбленной женщины я поступила непростительно опрометчиво и глупо! Вероятно, мною руководили другие стремления, другие цели!
– Назовите их!
– Я стремилась доставить вам, государь, владычество над всей Западной Европой не столько мечом, как крестом.
Вы должны были низвергнуть ересь, высоко вознести Лилию как символ освобожденной церкви! Взгляните на эту карту, сир, власть ваша должна распространиться везде, где властвует крест! Для достижения этой-то цели я готова жертвовать даже жизнью, ради нее я забываю все оскорбления, нанесенные вами моему женскому самолюбию!
Настенная карта давно занимала короля. Сильно заинтересованный словами Ментенон, он быстро подошел к ней и, рассмотрев внимательно, был поражен сходством плана с идеями Мазарини. Только теперь он вполне понял значение переписки, переданной ему Лувуа; только теперь нашел он связь во всех поступках этой женщины, добивавшейся, казалось, того же, чего так жаждало его молодое, честолюбивое сердце, к чему он неутомимо стремился еще и теперь!
Король протянул руку Ментенон, проговорив растроганным голосом:
– Я оскорбил вас, а вы, вы имели полное право говорить мне правду. Я удивляюсь вашим смелым замыслам; но чтобы я не видел в ваших поступках ни одного пятна, скажите мне, зачем вы при помощи иезуитов освободили из тюрьмы этого бездельника Лорена? Почему в Кале патер Питер не передал его в руки моих мушкетеров, почему, наконец, не следили за ним и позволили пробраться в Сен-Клу как убийце?
– Государь, показания этого сумасшедшего в Нанси, бумаги, которые он вечно носит при себе, – все это немедленно привело бы к открытиям, прямо заклеймившим бы вашего брата Филиппа именем изменника, что легло бы неизгладимым пятном не только на честь всего дома Бурбонов, но и внушило бы вашему величеству роковое желание возвести на французский трон Анну Орлеанскую, как вашу законную супругу. А что эта мысль уже зарождалась в душе вашей, я знаю, я вижу по вашему лицу. Ведь такой шаг, государь, был бы не только преступлением, но и страшным несчастьем для Франции, концом вашей славы. Конечно, Питер мог арестовать де Лорена в Кале! Но разве Терезия не нашла бы другого исполнителя своей мести? Не под рукой ли у нее был Сен-Марсан, не забывший и не простивший еще смерти своей матери? Де Лорен – злодей, я согласна, но он все-таки Бурбон. В Вене, в Нанси он известен под именем Гастона-Людовика, герцога де Гиз Орлеана, смерть его легла бы пятном на вашей совести! Он пробрался в Сен-Клу. Но как могли мы ему помешать? Раз остановленный патером Питером, он потерял всякое доверие к иезуитам, ни разу не видели мы его ни в одном из наших конниктов, словом, мы совершенно потеряли его след. Местопребывание его было известно только королеве да Пурнону, я же, изгнанная с Монтеспан отовсюду, не могла следить за людьми, окружающими принцессу. Вы еще упрекнули меня, государь, будто я хочу при помощи иезуитов основать государство в государстве, сделать Францию римским вассалом. Увы, ваше величество, Рим не царит уже над миром! Наместники Петра стали слишком слабы, бессильны для этой великой цели! Истинная церковь может теперь восстановиться и процветать только под охраной могущественного государя, владыки и ужаса всей земли, пред сильной волей которого покорно склонилась бы толпа служителей Бога! Без союза с Францией Англия не станет католической страной, без огненной проповеди наших священников и Голландии не бывать французской! Нам остается один исход: или Людовик Великий заставит весь мир преклониться перед Францией и католицизмом, или же ересь распространится повсюду, и Франция останется маленькой Францией Генриха Четвертого, ему именно недоставало только того, чем обладаете вы, государь: истинной веры! Я могу тотчас передать вашему величеству акт, подписанный отцом-генералом в Риме, которым иезуиты торжественно клянутся быть верными помощниками и слугами вашими везде и всегда, если только вы объявите себя покровителем ордена, обещаете сделать католицизм господствующей религией во всех подвластных вам землях и везде ввести иезуитов как первых исполнителей воли Божьего наместника на Земле, то есть воли вашего величества!
– Значит, орден ставит нас наравне с его святейшеством папой?
– Выше папы, государь, – если только удастся ваш план. Тот, кто предписывает законы миру, может и должен быть главой церкви!
– Так и будет, клянусь Богом! Орифлама и крест в моем лице будут повелевать миром!
– Поклянитесь в этом пред ликом Спасителя, нашего патрона, в присутствии провинциала Лашеза и патера Летелье, возьмите одного из них духовником, и слово ваше станет законом для иезуитов!
– Прикажите войти патерам! – ответил кротко король.
Ментенон торжественно распахнула дверь и позвала обоих священников.
– Примите клятву его величества, на основании вот этого акта досточтимого отца-генерала!
Все смолкло на время в маленькой комнате. На коленях, с глазами, полными слез, в каком-то экстазе, слушала Ментенон громко произносимую роковую клятву короля Франции.
Закончив, король подошел к Ментенон.
– Первым признаком нашего глубокого к вам уважения будет то, что вы последуете за нами в Версаль, где нам часто необходимы будут ваши советы!
Яркая краска разлилась по лицу Франсуазы Скаррон.
– Нет, государь, моя задача кончена! Достойнейшие пусть ведут дело до конца. Я не хочу, чтобы свет сказал, будто власть моя зародилась на священном гробе Анны Орлеанской.
Но, государь, маркиза де Монтеспан из-за вас потеряла мужа, пожертвовала вам счастьем всей своей жизни. К ней и ее ребенку, сир, вы обязаны быть справедливым на столько, на сколько позволяет ваше высокое положение. Я хочу и могу вступить в Версаль учительницей вашего сына, подругой женщины, так дорого искупившей мимолетное внимание вашего величества!
– Я удивляюсь вам и готов следовать вашему приказанию исполнить ваше желание! Лашез, вы будете нашим духовником! Мадам де Ментенон, вы проводите нас к маркизе Монтеспан!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































