Текст книги "Разрыв франко-русского союза"
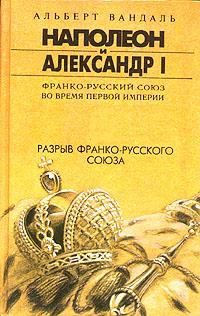
Автор книги: Альберт Вандаль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 44 страниц)
Император построил свои расчеты, не приняв во внимание более грозного врага, чем разбросанные и уступавшие ему по численности русские войска. Климат Севера подготовил ему первое жесткое предостережение. В течение нескольких дней погода стояла переменная – то солнце, то дождь, с явной наклонностью испортиться вконец. 29-го, после полудня, над великой армией на всем занимаемом нашими войсками пространстве собралась и разразилась гроза. Гвардию она захватила на пути к Вильне; другие, находившиеся правее, корпуса – во время их пребывания в городе и передвижений вблизи него, армию же принца Евгения – еще на берегах Немана. Ярость стихий была ужасна. Молния пересекала небо во всех направлениях; она ежеминутно падала на землю, ударяла в наши колонны, убивала в пути солдат. После грозы – словно небо разверзлось: полил дождь, какой бывает только на Севере, беспросветный, ледяной. Наступил жестокий холод. Словно законы природы извратились, словно среди жаркого лета наступила суровая зима.
Войска провели ночь на затопленных водой биваках, без огня, без защиты от ужасных порывов вихря, завернувшись в плащи, с которых потоками текла вода. Наутро перед их глазами предстала отчаянная картина. Места стоянок превратились в озера из грязи; все необходимое для жизни солдат предметы были поломаны и разметаны ветром; опрокинутые повозки представляли грустную картину разрушения. Наконец, что было всего важнее и что наносило непоправимый ущерб, – на земле сотнями, тысячами лежали с окоченевшими членами мертвые или умирающие лошади. Питаясь в течение нескольких недель одной травой, не получая овса, измученные непосильной работой животные были в невозможных гигиенических условиях. Они оказались не в состоянии бороться с внезапным нападением температуры, с насквозь пронизывающим их холодом и, обессилев, падали. Явление беспримерное в истории войны: одна ночь свершила дело целой эпидемии; наши солдаты в оцепенении, с ужасом стояли перед этими жертвами грозы.
Все с отчаянием думали о лишних трудах, о хлопотах, какие вследствие этого несчастья выпадут на их долю. Из офицеров – одни думали о своих несчастных эскадронах; другие – о лишенных лошадей батареях; третьи – о бедственном положении своих экипажей. Некоторые страшно сердились на войну, которая так плохо началась, и на того, кто завел их в эту страну. Командир гвардейской артиллерии, генерал Сорбье, кричал, “что нужно быть безумным, чтобы пускаться в подобные предприятия”.[641]641
Pien des Loches, 282.
[Закрыть] Когда был сделан приблизительный подсчет несчастья и потерь, было установлено, что число погибших лошадей доходило до нескольких тысяч, по некоторым данным – до десяти. Это бедствие непоправимо ослабило кавалерию и артиллерию, задержало подвоз провианта, отчасти нарушило порядок перевозки и внушало армии боязнь, что впереди ей предстоит еще много лишений и тяжких страданий.[642]642
Переписки, находящиеся в национальных архивах, AF, IV, 1644. Cf. Boulart, Brandt, Chambray, Cogniet, Gourgand, Laboume, Ségur.
[Закрыть]
Начиная с этого времени, упорно продолжавшаяся дурная погода задерживала все дела и мешала военным операциям. Армия надрывалась в бесплодных усилиях выбраться из топи, в которой она увязала, и едва могла двинуться в путь. Во всех прибывавших в главную квартиру донесениях указывалось на трудности передвижения. Все корпусные командиры в один голос жаловались, смотря по натуре и характеру, одни в более, другие в менее резких выражениях. Вспыльчивый генерал Роге, производивший со своей дивизией разведки для итальянской армии, ругал и проклинал дождь. Ней двигался вперед, но какая удивительная энергия требовалась для этого! Он полз, как черепаха, и не развертывал фронта. 30-го он писал императору: “Дождь, не прекращающийся со вчерашнего дня – с трех часов пополудни, позволяет армии идти только по большой дороге; проселочные затоплены и представляют наполненные водой ямы, из которых пехотные солдаты не могут выкарабкаться и по которым даже кавалерия проходит с величайшим трудом”[643]643
Эта и следующие выдержки из писем взяты из национальных архивов, AF, IV, 1644.
[Закрыть], Мюрат приводил в пример самые неприятные воспоминания из своей военной жизни, которые остались у него от зимней кампании в болотах Польши в конце 1806 г. “Дороги, – говорит он, – страшно испортились; в некоторых местах мне казалось, что я снова в Пултуске”. Евгений больше других впал в уныние. В его переписке весьма много опасений за будущее и мало надежд. Он писал начальнику штаба: “Чем дальше мы идем, тем больше теряем лошадей… Я не могу в точности сказать Вашей Светлости числа павших транспортных лошадей, но оно очень велико. Я в отчаянии, что должен постоянно говорить Вашей Светлости об ужасном состоянии провианта и лошадей, но мой долг не скрывать этого от вас. Я могу надеяться только на средства, которые мы, может быть, найдем впереди, ибо, если местность, по которой нам придется идти, так же обездолена, как и та, по которой мы уже прошли, я положительно не знаю, до чего мы дойдем в самом непродолжительном времени”.
Несмотря на недостаток в самом необходимом, на зловещие предвидения, поиски неприятеля не останавливались; все старались поскорее добраться до него, ибо все чувствовали, что он тут вблизи, что до него рукой подать. Утром, 1 июля, когда ненадолго разгулялась погода, в окрестностях Вильны поднялась тревога. Накануне генерал Пажоль, дошедший до Ошмян, наткнулся на сибирских драгун, синих гусар и казаков. Произошла горячая схватка на саблях. Город был взят, отнят и снова взят. Бордезуль, находившийся вблизи тех же мест, тоже донес о сильном неприятельском отряде. Императору и всей главной квартире пришло на ум, что на Вильну идет Багратион, что он попадет в развернутую вокруг города сеть войск и попадется в западню. В наших лагерях пронесся крик: к оружию. Солдаты надеялись на сражение. Но почти тотчас же поливший дождь затянул горизонт и покрыл все своей серой пеленой; снова водворились мрак и неопределенность. Вдруг, в самый сильный ливень, солдаты увидали среди себя императора на белом коне. Он приехал с Бертье, чтобы изучить места, которые рассчитывал сделать базой блестящей операции. Он старался рассмотреть рельефы почвы и подступы позиции. Видели, как он наводил зрительную трубу на покрытые пеленой дождя леса и холмы. Вокруг него яростно бушевал ветер. Вода капала с намокших краев его шляпы и ручьями текла по серому сюртуку. По прошествии некоторого времени он сказал: “Ужас, какой дождь” и, повернув коня, направился к городу.[644]644
Souvenirs d'un affiefer polonais, 229.
[Закрыть]
Переброшенные на юг от Вильны кавалерийские части то видели неприятеля, то теряли его из виду, и никак не могли в точности выяснить, какие это силы и куда они идут; не знали, имеют ли они дело с Багратионом или с кем-либо другим. В действительности Багратион никогда не приходил к Вильне. Покинув при первом известии о переправе верхнее течение Немана, он, вместо того, чтобы направиться к северу, на свои страх бросился на восток по направлению к Минску, вовнутрь России. Считая невозможным нагнать теперь же первую армию, он надеялся присоединиться к ней только путем огромного обхода. Теперь он был уже в безопасности. Чтобы предпринять против него необходимое движение, пришлось бы расширить крут наших эволюции, двинуть Даву на Минск и подождать, пока Понятовский и Жером войдут в линию. Такая операция требовала для своего выполнения много времени и притом с сомнительным успехом. Русские, на которых наткнулся Пажоль в Ошмянах, принадлежали к корпусу Дохтурова; но этот генерал, избегая показываться под Вильной, огибал город, держась от него на весьма большом расстоянии. Наши драгуны и егеря столкнулись и имели дело только с кавалерийской колонной Дохтурова, прикрывавшей и защищавшей его левое крыло, в то время, как его корпус, пользуясь этим прикрытием, проскальзывал с возможной скоростью, оставляя позади себя опасное место. Можно было еще броситься ему вслед, нагнать его и нанести ему вред во время отступления, но уже не было никакой возможности окружить и забрать его.
Только одна часть неприятельской армии оставалась под ударом и подвергалась страшной опасности. Это было несколько пехотных и кавалерийских полков под командой генерал-майора Дорохова, входивших в состав 6-го корпуса Барклая. Не получив вовремя приказания присоединиться к общему отступлению, этот арьергард задержался на юге от Вильны; как вдруг он увидал, что его со всех сторон окружают наши посты. Теперь он блуждал, как безумный; ежеминутно менял направление и, всюду натыкаясь на наших, метался в отчаянии во все стороны, ища выхода. Люди шли день и ночь, голодные, изнуренные, со стертыми ногами, в поту и крови. Некоторые солдаты несли по три, по четыре ружья, выпавших из рук их ослабевших товарищей, и, несмотря на это, они шли без остановки, подгоняемые властным голосом своего командира, который говорил им, что сейчас придут французы и всех заберут в плен.
На их счастье характер местности облегчал им бегство. Нашим войскам, преследовавшим Дохтурова и Дорохова, трудно было ориентироваться в стране, покрытой лесами, пересеченной оврагами и лесными прогалинами. Они не могли разобраться в сведениях, которые им давали местные жители; путали названия местностей и фамилии, принимали Дохтурова за Дорохова и обратно. Пажоль, Нансути, Моран, Бордезуль – ежеминутно входили в соприкосновение с неприятелем, но не могли схватить его; чувствовали только, что он скользит у них между пальцами. Бывало так, что легкая кавалерия входила в деревню вслед за казаками. Избы были еще нагреты их присутствием, пропитаны их запахом, заражены насекомыми; но неуловимый враг уже исчез. По временам казалось, что неприятель хочет принять бой. Его пехота показывалась на опушке леса; застрельщики открывали огонь, наши конные отряды отходили в сторону. Но, когда командиры, собрав войска и получив подкрепления, двинулись на неприятеля, того уже и след простыл. От того, что накануне казалось нам значительной величиной, оставались только неясные контуры, которые мало-помалу расплывались в туманной дали. Эта мельком показавшаяся армия-призрак испарялась при нашем приближении; она таяла на наших глазах, исчезала при одном прикосновении.[645]645
Письма Даву, Пажоля, Морана, Бордезуля. Archives nationales, AF, 1643, 1644. Письма Бертье королю Жерому, приведенные Du Casse. Mémoires pourservir á 1'histoire de la campagne de 1812, стр. 137 и след. Bogdanovitch 1. 132 и след., по донесениям русских генералов.
[Закрыть]
Однако на север от Вильны, в районе, где Ней и Удино действовали против Багговута и Витгенштейна, где стоявшие друг против друга французские и русские корпуса постоянно приходили в соприкосновение, не обнаруживая своих сил, имело место несколько отдельных схваток, несколько горячих аванпостных дел. Обе стороны дрались храбро, но без ожесточения. Французы и русские, между которыми не стояла ни традиционная вражда, ни оскорбления, нанесенные народом народу, не вошли еще во вкус борьбы, не успели воспылать, друг к другу ненавистью[646]646
Генерал Льотей в своих неизданных воспоминаниях рассказывает по этому поводу сцену, которая напоминает известные эпизоды из Крымской войны. “Начавшийся ранним утром бой был прерван среди дня на один или два часа. Нас отделял от русских овраг, наполненный грязной водой. И нам и им необходимо было напоить лошадей, и с нашей, и с их стороны подошли к оврагу. Русские пили с одного берега, мы с другого. Завязался не вполне понятный разговор жестами; обменялись водкой и табаком; мы были богаче и щедрее их. Вслед за тем эти добрые друзья обменивались уже пушечными выстрелами. Я встретил молодого офицера, Оговорившего по-французски; в ожидании лучшего мы обменялись Несколькими любезными словами”.
[Закрыть]. 28 июня у герцога Реджио была стычка с стоявшим в окрестностях Вилькомира корпусом Витгенштейна. Невзирая на то, что у герцога кроме кавалерии была только одна дивизия пехоты, он энергично схватился с неприятелем, убил и взял в плен несколько сот человек и оттеснил его на большое расстояние, не причинив, однако, серьезного вреда. Император поздравил командира и войска 2-го корпуса. Но какое значение могло иметь для него, мечтавшего о втором Аустерлице или Фридланде, или, по меньшей мере, Абенсберге и Экмюле, эта блестящее авангардное дело. Всем офицерам, являвшимся к нему с донесениями, он прежде всего задавал вопрос; “Сколько пленных?”.[647]647
Неизданные документы.
[Закрыть] Ответы вовсе не отвечали его желаниям. Ему сообщалось, что было подобрано несколько человек отсталых, несколько дезертиров, захвачено несколько заблудившихся отрядов и обозов. Этим и ограничивалась наша добыча, и император тщетно ждал тех колонн обезоруженного неприятеля, тех бесконечных рядов артиллерийских обозов, тех охапок захваченных знамен, которые некогда представляли ему при возвращении с поля сражения его солдаты.
Чтобы обновить нравственное состояние своей армии, а главное, чтобы поднять против России литовских поляков, ему необходимы были трофеи, блестящие бюллетени о победах. Несмотря на то, что им были пущены в ход всевозможные средства, чтобы вызвать и разжечь энтузиазм, поведение населения ничуть не оправдывало его ожиданий. Чтобы заставить почетных жителей Вильны выступить на сцену, чтобы убедить их дать свое имя и принять участие в рискованном деле, пришлось разыскивать их по домам, вербовать одного за другим, упрашивать, чтобы они примкнули к нам, почти силой добиваться их содействия. В селах у каждого класса населения были свои причины к недоверию. Буйства наших солдат и разбои немецких союзников приводили в отчаяние крестьян, убегавших и притаившихся в лесах при нашем приближении. Чтобы вернуть их в села и примирить с собой, Наполеон обещал им личную свободу, отмену крепостного права; но эти обещания восстанавливали против него вельмож, крупных помещиков, рабовладельцев. Несмотря на все это, большинство знати хорошо относилось к Наполеону, но упорное сомнение относительно его истинных намерений насчет Польши, затем неуверенность в успехе его оружия и боязнь мщения русских сдерживали порыв их сердец.[648]648
См. по этому предмету Chambroy, Histoire de 1'expédition de Russie, 45.
[Закрыть] Все, что происходило в Литве – подготовка народного самоуправления, образование временного правительства, набор местной милиции – все это было делом немногих вельмож, с давних пор преданных нашему делу и уже скомпрометированных в глазах неприятеля. Народ вяло следовал за ними и ни разу не выступил по собственному почину. Император видел преданных ему отдельных лиц, но не общее движение; людей, но не нацию. Он дважды ошибся в своих расчетах: армия царя, ускользнув от него без боя, разрушила его первоначальные планы; русская Польша поднялась только наполовину и не оказывала ему решительного содействия. За разочарованием в военном деле наступило разочарование в деле политики.
Тогда Наполеон решил принять Балашова и вытребовал его в свою главную квартиру. За неимением других трофеев он хотел представить полякам его; ибо армия и население могли думать, что посол царя приехал в роли просителя; что его присутствие указывает на то, что Россия еще до борьбы признает себя побежденной. 30 июня Балашова привезли опять в Вильну. Его поместили в дом принца Невшательского, где принц просил его “быть, как у себя дома”[649]649
Донесение Балашова.
[Закрыть], и где его предупредили, что император тотчас же даст ему аудиенцию.
Фиктивные переговоры, инициативу которых взял на себя Александр, могли привести только к безрезультатным препирательством о старых недоразумениях. Если бы Наполеон согласился на условия своего противника, поставленные в выражениях, не подлежащих обсуждению, если бы отвел свои войска обратно в Неман, он тем самым нанес бы смертельный удар не одной своей гордости. Признаваясь перед всем миром в своем бессилии, выставляя на вид свою ошибку, он разрушил бы свой престиж, подорвал бы обаяние, которое приковывало к его судьбе столько народов; поощрил бы русских к обороне, а Европу к восстанию. Не подлежит сомнению, что мысль об отступлении даже не промелькнула в его уме. Неудачное начало кампании, несомненно, огорчало его. Он часто бывал “серьезен, озабочен, мрачен”[650]650
Неизданные документы.
[Закрыть]; но трудности не могли сломить его; наоборот, они еще более воодушевляли его львиное сердце, а успешность, с какой русские ускользали от него, подстрекала его еще настойчивее преследовать их, еще более стремиться овладеть этой добычей. Даже предполагая, что Александр, отказавшись от своих предварительных требований, согласится ввиду появления наших войск на его территории вести переговоры; что он впредь будет уважать законы континентальной блокады и будет действовать против англичан согласно нашим требованиям, эта сделка, которую император принял бы во всякое другое время, теперь не удовлетворила его. В присутствии Бертье, Коленкура и Бессьера он, не стесняясь, сказал; Александр издевается надо мной. Не думает ли он, что я пришел в Вильну за тем, чтобы начать переговоры о торговых договорах? Нужно покончить с этим северным колоссом, нужно отбросить его и поставить между ним и цивилизованным миром Польшу, Пусть русские принимают англичан в Архангельске – на это я согласен; но Балтийское море должно быть для них закрыто… Прошло то время, когда Екатерина заставляла дрожать Людовика XV, и одновременно с тем, заставляла славословить себя во всех парижских листках. Со времени Эрфурта Александр слишком зазнался. Приобретение Финляндии вскружило ему голову. Если ему нужны победы, пусть сражается с персами, но пусть не вмешивается в дела Европы. Цивилизация не может иметь ничего общего с этими жителями Севера”.[651]651
Id.
[Закрыть]
Решив отнять у русских все предоставленные им завоевания или, по крайней мере, часть их, он рассчитывает добиться этого в самом непродолжительном времени несколькими громкими, смело нанесенными ударами, и думает, что сумеет найти для этого случай. Его все еще не покидала надежда, что Александр, который столь же быстро падал духом, как и увлекался несбыточными горделивыми надеждами, смирится и раскается, лишь только почувствует на себе острие шпаги. По его мнению, чтобы поскорей навести царя на мысль о необходимости покориться, не нужно было делать ему этот шаг слишком тягостным по форме: необходимо было оставить открытым и даже обеспечить бывшему союзнику путь к возврату. Поэтому Наполеон, вовсе не придавая серьезного значения объяснениям Балашова, решил принять его вежливо, с целью поощрить на будущее время к присылке новых послов. Несмотря на войну, он стремился найти средство поддерживать правильные сношения с Александром, чтобы тот при первом охватившем его душу смущении, после одного или двух проигранных сражений, знал, куда обратиться с предложением о мире и капитуляции, и как довести до него о своем раскаянии. При этом, желая и иными способами приблизить минуту безусловной покорности, он намерен был в присутствии Балашова показать, что совершенно застрахован от неудачи, что вера его в успехе непоколебима. Намереваясь запугать Русского указанием на свои силы и средства, он хочет придать своей любезности тон подавляющего превосходства.
1 июля, в десять часов утра, он послал одного из своих камергеров за Балашовым. Привезенный во дворец флигель-адъютант был введен в залу, в которой в последний раз видел Александра и которая служила теперь кабинетом императору французов. Ничто в ней не изменилось, исключая хозяина. В смежной комнате Наполеон кончал завтрак. Через несколько минут Балашов ясно услыхал шум отодвигаемого кресла; вслед за тем отворились двери, и император спокойно, не торопясь, с видом завоевателя, который удобно устроился и прекрасно чувствует себя в неприятельской стране, вошел в кабинет, куда приказал “подать себе кофе”.
На поклон Балашова он любезно ответил: “Рад познакомиться с вами, генерал. Я слышал о вас много хорошего. Знаю, что вы искренно привязаны к императору Александру, что вы один из его преданных друзей. Буду говорить с вами откровенно и поручаю вам точно передать мои слова вашему государю”[652]652
Эта и все следующие цитаты до стр. 535 взяты из донесения Балашова.
[Закрыть].
После этого вступления первые его слова были: “Мне все это очень прискорбно, но император Александр окружен дурными советниками. По своему обыкновению, он предпочитает напасть не на государя, а на его приближенных. – К чему эта война? – продолжал он. Два великих монарха толкают своих подданных на резню, а, между тем, предмет их ссоры точно не определен. Балашов ответил, что его государь не желает войны; что он все сделал, чтобы избежать ее. Как на веское доказательство этого, он сослался на предложение о мире, передать которое было ему поручено. Тогда Наполеон заговорил о прошлом. Завязался спор о событиях, которые были случайной причиной разрыва. Оба собеседника до пресыщения высказывали свои обиды, не желая признавать и принимать во внимание обид противника. По мере того, как император вспоминал поступки, в которых ясно обозначилось, что Россия намерена действовать наперекор Франции, что она относится к Франции пренебрежительно, даже не желает вступать с нею в разговоры, он начинал говорить с большей запальчивостью, с возрастающей резкостью, все больше подогревая себя огнем собственных речей. Его, быть может, и притворный в начале разговора, гнев перешел в действительный, он не на шутку вошел в роль обиженного.
Он начал большими шагами ходить по комнате. По некоторым вырывавшимся у него знакам нетерпения можно было судить о его внутреннем волнении. Неплотно запертая форточка в окне открылась, и в комнату ворвалась холодная струя воздуха. Император с силой захлопнул форточку. Но форточка была плохо подогнана. Не прошло и минуты, как под напором ветра она снова открылась и начала биться. Император был в таком возбужденном состоянии, что не мог выносить этого раздражающего шума. С бешенством схватил он форточку, оторвал и выбросил на улицу. Слышно было, как она упала на землю, и как зазвенело разбитое стекло.
Вслед за тем Наполеон обратился к своему собеседнику с горькими жалобами на то, что Россия, вынудив его ополчиться против нее, помешала ему кончить войну с Испанией и умиротворить Европу. Затем, срывая завесу и оставляя в стороне словопрения и дипломатические тонкости, которых до сих пор держался, он прямо подошел к сути дела. Он превосходно очертил все, что с давних пор казалось ему двусмысленным и подозрительным в поведении Александра. Он дал понять, что русский государь неуклонно шел к войне с того момента, как позволил разным темным личностям – нашим заведомым врагам – приблизиться к своей особе и овладеть его доверием. Кем окружен он, кто составляет его интимный круг? Разве это русские, впитавшие в себя смысл и традиции национальной политики? – Ничего подобного. Его окружает группа иностранцев: не имеющие родины советчики, какой-то кружок эмигрантов и изгнанников – пруссак Штейн, швед Армфельд, бежавший из нашей армии Винцингероде и многие другие, эти вечные сеятели интриг и раздоров. С полным основанием указывал Наполеон на спрятавшихся, на засевших за спиной клявшегося ему в верности государя, своих личных, ожесточенных врагов, которых он всегда встречал на своем пути и которые восстанавливали против него королей и составляли европейские заговоры. Изгнанные им из всех стран, на которые распространялась его власть, эти люди отправились в Россию с тем, чтобы похитить у него союзника, про которого он думал, что подчинил его обаянию своего гения. Его гнев разразился против этих соблазнителей, а затем и против слабохарактерного монарха, позволившего овладеть собой и направить себя на ложный путь.
Тщетно давал он себе слово быть спокойным —не показывать гнева, а только сожаление; бранить, но дружески и свысока. Увлеченный чувством ненависти, он нарушил данное себе слово, перестал сдерживаться, начал наносить обиды и оскорбления. Его голос сделался отрывистым и пронзительным. Каждая фраза дышала страстью или ненавистью. Каждое слово было оскорблением.
Император Александр, говорил он, хвастается своими благородными чувствами. Он хочет быть рыцарем на троне. Но окружать себя презренными людьми, позорищем и отребьем Европы, значит ли следовать этому правилу? Среди самих русских кто его избранники? Кому вверил он начальство над своими армиями и судьбу страны? “Я не знаю Барклая-де-Толли, но Беннигсен!..” Намек на насильственную смерть Павла I – на заговор, в котором Беннигсен принимал участие и которое ускорило воцарение Александра, был на устах императора. Он несколько раз проглядывал в его разговоре.
Мы неоднократно указывали, что до какой бы степени ни доходили припадки его гнева, он всегда отлично я умел владеть собой и пользоваться проявлением своего гнева для достижения своих целей. Теперь его желанием было не столько оскорбить Александра, сколько застращать его. Конечно, он не прочь смешать его с грязью, но, главное, хочет нагнать на него страху. Его цель доказать, что царь, доверившись иностранцам и приобщившись к их вражде, идет вразрез с национальными традициями; но при первом удобном случае приверженцы этих традиций восстанут против него и могут подвергнуть опасности его корону и даже жизнь. Нужно сказать, что в течение одного века недовольство высших классов в России неоднократно проявлялось заговорами, покушениями, дворцовыми или казарменными переворотами. На протяжении шестидесяти лет эти внутренние кризисы приводили к переменам царствования. На основании этих прецедентов вся Европа была убеждена в неустойчивости власти в Петербурге. Вот одна из причин, почему Наполеон безусловно верил в успех своего предприятия и что побуждало его отважиться на него. В разговорах он почти ручался, что при том критическом и тяжелом положении, в какое он вскоре поставит Россию, возмущение высших классов окажет косвенное содействие вторжению и быстро положит конец сопротивлению. Во всяком случае, чтобы заставить Александра поскорее сдаться, он старается напугать его возможностью мятежа; он стремится лишить его мужества, и все его слова, все намеки направлены к тому, чтобы внушить сыну Павла I мысль, что участь его отца может быть и его участью. Он старается внушить ему мрачные видения, окружить его призраками загробного мира, которые бы навели его на мысли об ожидающей его будущности.
– Разве, – сказал он, – император Александр так прочно сидит на престоле, что, может безнаказанно доводить своих подданных до отчаяния и подвергать их бедствиям неудачной войны? – Люди, – продолжал он, – которым Александр отдает на поругание свое доверие, первые, лишь только это покажется им выгодно, обратятся против него; они изменят ему, продадут его, “затянут веревку, которая пресечет его жизнь”. Разве эти слова не были намеком на шарф, которым будто бы умертвили Павла I? – Что нужно для повторения подобных ужасов? – продолжал он. – Для этого достаточно порядочного толчка со стороны – такого, который встряхнул бы общественное мнение; достаточно известия о проигранном сражении, о крупном военном погроме! А такой погром неизбежен. Тут Наполеон целым рядом бесподобных и потрясающих данных старается доказать, что война неминуемо сложится во вред русским и приведет их в расстройство. Он утверждает, что она плохо началась для них и что способ, которым она началась, позволяет предсказать ее исход; он выбивается из сил, чтобы доказать это. Он старается показать, что все события начального периода враждебных действий, которые, как нам известно, доставили ему столько разочарований, слагаются в его пользу. Разве несоразмерность сил в людях, в деньгах – словом, во всякого рода средствах, не очевидна; разве она не подавляюща? – спрашивает Наполеон. Он хвастается, что ему все известно о русских армиях; что он знает состав и достоинство каждой из них; знает число дивизий, средний наличный состав батальонов. Он приводит цифры, излагает все подробности; причем самодовольно вспоминает о своей собственной мощи, делает выкладки, сравнения, и, искусно сопоставляя свои и русские войска, старается показать, что сила всюду на его стороне. Превосходно умея придавать утверждениям по меньшей мере смелый характер строго выведенных истин, он доказывает, что задача успешной кампании им уже решена, что он уверен, безусловно уверен в своем деле, что он уверен, как дважды два – четыре, в победе.
Да и кто в Европе, высказывает он, может сомневаться в подобном результате? Даже англичане сожалеют о войне, ибо предвидят “несчастье для России и, быть может, наихудшее несчастье”, т. е. переворот. Что же касается континентальной Европы, то она идет с нами, она следует за нашей звездой. Правда, русские хвастаются, что отняли у нас некоторых традиционных союзников. Говорят о мире, который они будто бы заключили с турками – и Наполеону, в сущности крайне недовольному и сильно заинтригованному этим договором, очень хотелось бы узнать, каковы его условия. Он подвергает Балашова правильному допросу, но тот уклоняется от ответов. Тогда он делает вид, что относится пренебрежительно к туркам и шведам – к этим жалким союзникам, не имеющим существенного значения. Вот увидят, продолжает он, что, лишь только счастье повернется в его сторону, они вернутся к нему, что они примкнут к победителю. Он говорит, что прекрасно знает, что у него стараются похитить, переманить его немецких союзников; его войска перехватили письмо, написанное одним принцем – родственником русской императорской семьи, в котором подговаривают пруссаков к дезертирству. Жалкие способы, разве так должны действовать императоры? Пусть государи ведут войну – это их право: но, по крайней мере, они должны влагать в свои войны подобающие этим великим турнирам благородство и величие души. Впрочем, чего надеются достигнуть подобными приемами? Только того, что избавят его армию от “нескольких бездельников”; что отнимут у него несколько сот солдат. Но ведь у него их 550000 – да, 550000 полностью – против 200000 русских. “Скажите императору Александру, что я даю ему мое честное слово, что у меня по ту сторону Вислы 550 000 человек”.
Проделав этот выпад, он смягчается, меняет тон, и легко, почти небрежно, подходит к тому, к чему хотел придти. Вывод, который должны были сделать из его слов, из того, чего он не договаривал и на что намекал, был тот, что император Александр может быть уверен, что будет побит; что он окружен опасностями, что ему остается только один выход: как можно скорее прекратить борьбу и покориться его воле. Что же касается его, то он будет воевать, ибо его вынуждают к этому; но что от этого он не сделается ни более воинственным, ни более озлобленным; что “он ничего не имеет ни против переговоров, ни против мира”. Конечно, пусть не обращаются к нему с требованиями об эвакуации Вильны или об отступлении его армии. На подобные условия нельзя смотреть серьезно. Но если император Александр пожелает дать себе отчет о существующем положении и решится на надлежащие жертвы, то всякий, кто бы ни явился от него, будет желанным гостем. Может быть, он захочет вернуть графа Лористона, чтобы всегда иметь под рукой человека, с которым можно было бы начать переговоры? – Ему нужно сделать только знак, и прежний посланник снова поедет в Петербург. Может быть, он хочет теперь же установить условия войны – так, чтобы сохранить требования гуманности и цивилизации, заключить договор на самых любезных основах, поставить в лучшие условия раненых и пленных? – Наполеон готов вести эти переговоры параллельно с враждебными действиями, – и здесь-то все более обнаруживается его сокровенная мысль. Его главное желание – не прерывать сношений с Александром, сохранить возможность в свое время снова завладеть им и, уже покорного и раскаявшегося, снова привлечь к себе. Поэтому он начинает говорить о царе с сожалением, как о заблудшем друге, к которому, невзирая ни на что, в глубине души, относятся снисходительно и с которым желают снова сойтись. Затем, выложив во время разговора все эти мысли, не настаивая, однако, на них и предоставляя своему противнику заботу уловить их и воспользоваться ими, он с удивительной развязностью заговорил о безразличных вещах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































