Текст книги "Разрыв франко-русского союза"
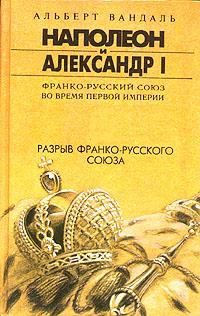
Автор книги: Альберт Вандаль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 44 страниц)
Наполеон согласился, что средства России велики, но прибавил, что его военные силы необъятны. Мало-помалу он перешел к исчислению их. Начав с указания, что его войска покрывают Европу от Вислы до Таго, что они расставлены на всех стратегических пунктах и по знаку его сольются в одну сплошную массу, он сказал затем, что империя представляет неиссякаемый источник людей, что сто двадцать департаментов ежегодно поставляют причитающееся с них количество солдат в постоянно увеличивающиеся кадры; что учебные команды пополняются рекрутами по мере того, как из них берутся солдаты для составления новых боевых батальонов. Затем в центре этих непрерывно увеличивающихся масс он поставил солдат, оставшихся у него от прежних полков, первых его боевых товарищей, тех старых, непобедимых товарищей по Италии и Египту, Аустерлицу и Иене, тех испытанных солдат, ту человеческую сталь, закаленную в сотнях боев, ту священную фалангу, которая горит освященным огнем великих дел и заражает других своим героизмом. Наконец, увлекаясь своими мечтами, он сгруппировал вокруг своих французов всех союзников, все свои народы. Он призвал их к себе со всех концов света: ломбардцев Евгения, неаполитанцев Мюрата, испанцев, португальцев, Мармона с кроатами, Германию с ее восемнадцатью контингентами, Жерома с вестфальцами, ганноверские и ганзейские полки, которые формировались под начальством Даву, Понятовского с его поляками. Он составил себе из них беспримерную в истории армию; заставил ее пройти перед собой церемониальным маршем, сделал ей смотр, вычислил ее наличный состав, сосчитал батальоны, эскадроны, батареи, дивизии, корпуса и, по мере того, как делал это огромное исчисление, его все более охватывало и опьяняло сознание его силы. Им овладел приступ горделивого помешательства. Его голос дрожал, глаза блестели, взгляд и жесты как будто говорили: “Разве есть что-нибудь невозможное с таким количеством людей – и каких людей?”. Сделавшись свидетелем такого постепенного нарастания мании величия, завершившегося полным торжеством самонадеянности, Коленкур почувствовал, что его надежды рушатся. Он понял, что почва, с таким трудом завоеванная, снова ускользает из-под его ног. Он увидал, что война снова приближается– та ужасная война, которую, как он думал, ему удалось устранить, рокового исхода которой он так боялся,– и смертельная тревога за отечество сжала его сердце.
И действительно, несколько времени спустя император сказал ему: “Ба! Одно удачное сражение докажет, чего стоят прекрасные решения вашего друга Александра и его песочные укрепления”. Последние слова были намеком на песчаные холмы Днепра и Двины, которые русские приспособили для укрепления оборонительных позиций. Затем Наполеон сказал, что сам он не намерен начинать войны, но что Александр, наверно, вызовет ее; что этот непостоянный монарх поддался внушениям Англии; что ему вбили в голову идеи о завоеваниях и о его превосходстве по крови; что эти идеи льстят его тщеславию и его сокровенным честолюбивым планам. “Он фальшив и слабоволен”. – Коленкур: “Он упрям. Он легко уступает в некоторых вещах, но в то же время он начертал себе круг, за который не переступит”. – Император: “Он скрытен и лжив; у него византийский характер”. – Коленкур:– “Конечно, он не всегда говорил мне все, что думал, но то, что говорил, всегда оправдывалось, и что обещал мне для Вашего Величества, всегда держал”. – Император: “Александр честолюбив: в его желании войны есть скрытая цель. Повторяю вам, он стремится к войне, иначе зачем бы ему отказываться от всех сделок, которые я предлагаю. У него особые поводы действовать таким образом, но он скрывает их. Вам не удалось разведать, в чем тут секрет? Говорю вам, что у него иные поводы, а не опасения по поводу Польши и не дело об Ольденбурге”. – Коленкур: – “Может быть, этих дел и нашей армии в Данциге достаточно, чтобы объяснить его тревоги: помимо того, он разделяет беспокойство, которое причиняют всем кабинетам перевороты, совершенные Вашим Величеством со времени тильзитского свидания и, в особенности, со времени венского мира”.– Император: “Что до этого Александру? Это делается не у него. Разве я не предлагал ему брать, что у него под боком? Разве я не говорил ему, чтобы он взял Финляндию, Валахию и Молдавию? Разве я не предлагал ему раздела Турции? Разве я не дал ему триста тысяч душ в Польше после австрийской войны?”. – Коленкур: “Да, но эти приманки не помешали ему видеть, что после того Ваше Величество наметили пути для перемен в Польше, а это у него дома”. —Император: “Вы грезите, подобно ему. Я делал изменения только на далеком расстоянии от его границ. Какие же перемены в Европе так пугают его? Что они могут сделать России, которая стоит на краю света? Меры, которые вы осуждаете, это те самые меры, которые лишат англичан всякой надежды и вынудят их к миру”.
Император перешел к обсуждению этих мер. Он широко развил свои идеи, излагал их пространно, в двадцати различных видах, вполне отдаваясь своей страсти и своему вдохновению. Он как будто потерял представление о времени. Наступил вечер. Последние лучи заходящего солнца золотили еще верхушки больших деревьев парка, но в зале водворились уже сумерки, а император все еще продолжал говорить. Широкими штрихами очерчивал он всю свою политику, указывая главную цель своих стремлений – нанести смертельный удар Англии сквозь тело всякого государства, которое бы вздумало прикрывать ее собой. Иногда он возвращался к вопросам, освещавшим более подробно главный предмет разговора, обсуждал их без всякого порядка, как попало, постоянно перескакивая с одного на другой; пытал Коленкура на все лады, неоднократно задавал ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, получатся ли те же ответы; старался поймать своего собеседника на противоречии или ошибке. Иногда, после энергично высказанного возражения, он прерывал разговор, задумывался и в продолжение нескольких минут хранил молчание. Эти резкие переходы от разговора к молчанию, эти вечные отступления от предмета обсуждения и перескакивания с одного предмета на другой доказывали, как неугомонно металась его мысль. Он старался рассмотреть ссору со всех сторон; доходил до источников ее происхождения, видимо, стремясь получше вникнуть в ее характер и найти выход.
После продолжительной паузы он вдруг сказал: “Нас поссорил австрийский брак: Александр рассердился, что я не женился на его сестре”. Это было довольно странное утверждение, ибо предложение о брачном союзе отклонено было русским двором, о чем Коленкур знал лучше всякого другого, так как ему-то и было поручено передать отказ. Хотел ли Наполеон, из чрезмерного самолюбия, показать, даже пред лицом этого посредника и доверенного лица, будто он по собственному желанию предпочел австрийскую принцессу русской великой княжне? В нескольких словах Коленкур напомнил ему, как было дело. “Я забыл эти подробности”, – развязно сказал император, и вслед затем сделал совершенно верное замечание: “Тем не менее, несомненно, что в Петербурге рассердились за сближение с Австрией”.
Когда все было разобрано, когда все было сказано с той и другой стороны, император повторил вкратце все сказанное и постарался еще раз вывести заключение. “Я не хочу ни войны, ни восстановления Польши,– в десятый раз повторил он, – но нужно сговориться относительно нейтральных судов и других спорных вопросов”.– Коленкур: “Если Ваше Величество действительно этого желаете, это не представит затруднений”. – Император: “Вы уверены в этом?” – Коленкур: “Уверен, но нужно предложить то, что стоит предлагать”. – Император: “Но что же еще?” – Коленкур: “Ваше Величество знает не хуже меня и с давнего времени, в чем причина охлаждения; вы лучше меня знаете, что можете сделать для устранения их”. – Император: “Но что? Что предложить?”
Коленкур объяснил, что относительно торговли следует принять во внимание экономические интересы России, что нужно удовольствоваться некоторыми смягчениями тарифа, отнестись снисходительно к допущению нейтральных судов, установить по общему соглашению систему исключительных разрешений на торговлю. Следовало также сговориться относительно Данцига, облегчить положение Пруссии и дать гарантии ее безопасности; и наконец, создать герцогу Ольденбургскому положение, которое не ставило бы его в зависимости от нас, чтобы он не был чем-то вроде французского префекта, каковым был бы в Эрфурте… Но Наполеон счел бесполезным слушать дальше. Он вынес убеждение, что Коленкур все вопросы разрешает на русский лад, что все, что он говорит, внушено ему Александром, что на его рассмотрение был подвергнут не план полюбовного соглашения, а список требуемых от него уступок. Он сказал Коленкуру, что его заместителю, Лористону, поручено обсудить все подробно и урегулировать, если возможно, подлежащие разбору вопросы, что ему самому нужно отдохнуть.
Несмотря на разрешение удалиться, Коленкур хотел еще раз попытаться настоять на своем и попросил позволения представить последнее соображение.
– Говорите! – было ему отвечено.
– Война и мир в руках Вашего Величества. Умоляю вас, ради вашего личного счастья, ради блага Франции, подумать, что вам придется сделать выбор между возможными превратностями войны и несомненными выгодами мира.
– Вы говорите, как русский, – становясь снова суровым, сказал Наполеон.
– Нет, Государь, как честный француз, как верный слуга Вашего Величества.
– Я не хочу войны, но я не могу запретить полякам чувствовать ко мне влечение и звать меня на помощь.
Он добавил, что поляки русских губерний, особенно литовцы, разделяют нетерпение своих варшавских соотечественников; что они обращаются к нему с просьбами; что они зовут его к себе и обещают, если начнется война, дать ему в союзники целый восставший народ. В этой картине Коленкур усмотрел новое заблуждение и постарался рассеять его. С уверенностью, которая вполне оправдалась дальнейшими событиями, он с положительностью заявил, что большинство поляков Литвы применилось к русскому строю; что они вряд ли решатся скомпрометировать себя совместными действиями с нами, вряд ли станут на стезю возможных случайностей и превратностей неизвестного будущего, вряд ли пожелают “сделаться ставкой в азартной игре”. – “К тому же, – с невероятной смелостью продолжал Коленкур, – Ваше Величество не может скрывать от себя, что теперь в Европе слишком хорошо известно, что вы желаете создавать государства для себя, а не для их собственной пользы.
– Вы верите этому?
– Да, Государь.
– Вы меня не балуете, – ответил император обиженным тоном, – однако пора идти обедать.
И он удалился.
Разговор продолжался семь часов. Никогда еще Наполеону не случалось выслушивать подобных слов: никогда опасность, навстречу которой он шел, не была ему так ясно указана. Но в сделанной Коленкуром оценке положения следует отделить истину от ошибок. Бывший посланник глубоко ошибался, когда выставлял русского императора искренно готовым вернуться к системе, установленной во время свиданий в Тильзите и Эрфурте. Он сам вынужден был сознаться, что Александр не имеет ни малейшего намерения изгнать из своих гаваней английскую торговлю под американским флагом, а этого-то, главным образом, и добивался Наполеон. Можно думать, что даже уступка Польши не вызвала бы у Александра сердечного порыва, не восстановила бы прежнего доверия, которое выразилось бы не призрачным возобновлением общей борьбы против англичан. Сверх того, сам Наполеон злоупотреблениями, дерзостью и неистовствами своей политики сделал весьма трудным возврат к прежним отношениям. Еще меньше оснований было думать, что Наполеон мог бы достигнуть своей цели менее важными уступками. Но, если бы он согласился смирить свою гордость, если бы согласился уменьшить требования своей системы, допустил бы мир без союза, – ибо в это время император Александр, не желая союза, конечно, не хотел и войны, – он избежал бы острого конфликта и рокового столкновения. С другой стороны, нужно признать и то, что Наполеон, не обладая способностью читать в душе русского императора, имел право возразить Коленкуру, что недавнее прошлое не таково, чтобы можно было ручаться за будущее. Он вправе был сказать: “Меня уверяют, мне все твердят – и действительно, факты, взятые сами по себе, дают опору таким уверениям, – что у императора Александра был умысел напасть на меня, что он отказался от него только вследствие непредвиденных препятствий при выполнении его планов. Кто поручится мне, что он не вернется к прежним затеям, когда я доставлю ему к тому случай; когда, разрушив варшавскую Польшу, открою мою границу; особенно, когда отведу мой авангард с Севера и снова введу войска в Испанию? Однако, допуская, что вполне естественные побуждения, толкавшие Россию к Англии, рано или поздно привели бы ее к союзу с нашей соперницей, все-таки лучше было бы для нас – во сто крат лучше – занять выжидательное положение, предоставить врагу, выйдя из своих границ, напороться на наши штыки, чем идти за ним в те северные дебри, где закатилась уже не одна блестящая звезда. Нельзя не признать, что во время разговора был момент, когда Коленкур выступает в удивительном блеске, когда он поражает высокой мудростью и изумительной прозорливостью, – это тот момент, когда он рисует трудности и опасности наступательной кампании и бедствия, которые ждут нас на этом пути. Одного этого бесстрашного предостережения было бы достаточно, чтобы упрочить его славу. В споре с ним император часто был прав на почве политики, но он ошибался на почве военной, где сознание своего могущества, дошедшее до бреда безумия, затемнило его суждение, затуманило его взоры. Допуская, что он был вправе думать, что война с Россией почти неизбежно вытекала из того ненормального и острого положения, в какое поставили себя друг к другу обе империи, все-таки его заблуждением, его истинным несчастьем было то, что он не видел, что из всех опасностей, которым могли подвергнуться его судьба и величие Франции, самой ужасной опасностью была война в России.
ГЛАВА VI. АУДИЕНЦИЯ 15 АВГУСТА 1811 г.
Какое заключение выводит император из разговора с герцогом Виченцы. – Он перестает верить в близость войны и приостанавливает приготовления. – Он почти уверен в желании Александра получить клок Польши, но откладывает до более подробного осведомления окончательное решение. – Крестины Римского короля. – Свистки на площади Карусель; афиши с призывом к мятежу. – Чернышев указывает на эти симптомы. – Император в церкви Notre-Dame. – Речь в Законодательном Корпусе: намек на Польшу. – Лористону предписывается держаться твердо. – Затруднение в выборе средства восстановить близкие отношения и придти к соглашению. – Дальнейшие приготовления к войне идут втихомолку. – Европа успокаивается. – Летний сезон дипломатов и высшего общества. – Курорты Богемии. – Картины Карлсбада. – Графиня Рекке и ее бард. – Деятельность Разумовского. – В Петербурге прения идут своим порядком. – Разногласие между императорами делается менее обостренным, но более глубоким. – Влияние Армфельта. – Александр решает не вести переговоров; принятие им военного плана Фуля. – Какие причины побуждают его уклоняться от соглашения и тянуть конфликт. – Отклонение посредничества Австрии и Пруссии. – Уклончивые приемы и отсрочки. – Наполеон проникает в его игру и в это же время узнает о новых нарушениях блокады. – Взрыв гнева. – День 15 августа в Тюльери. – Дипломатическая аудиенция; тронная зала. – Нападение на Куракина. – Наполеон заявляет, – что никогда не уступит и пяди варшавской территории. – Цветистая и потрясающая речь; сравнения и угрозы. – Куракину долго не удается вставить свое слово. – Неотразимый удар. – Пытка в продолжение трех четвертей часа. – Работа с Его Величеством. – Наполеон приказывает составить при себе оправдательный документ своей будущей кампании; важное значение этого документа: в нем излагается фактическая сторона конфликта и блестяще обрисовывается основная причина распри. – Пагубная логика. – Какие причины не позволяют Наполеону удовлетворить предполагаемые желания России. – Герцогство Варшавское и блокада. – Война решена, но отсрочена. – Наполеон ставит себе за правило продолжать фиктивные переговоры с Александром, исподволь подготовить союзы на случай войны и довести свои военные силы до колоссальных размеров; время вторжения в Россию назначается на июнь 1812 г.
I
Достопамятный разговор 5 июня не привел к результату, которого желал герцог Виченцы; тем не менее он оставил известный след. Несмотря на все усилия подавить душевное волнение, в которое повергли его слова обер-шталмейстера, императору не удалось вполне освободиться от тревожного чувства. Некоторое время он был задумчив, озабочен, словно колебался между противоречивыми побуждениями. В общем, разговор нисколько не выяснил ему главного вопроса – вопроса о том, какой ценой можно восстановить согласие. Он все более приходил к убеждению, что Россия, как условие, без которого не может быть и речи о соглашении, потребует уступки части великого герцогства, но не был в том безусловно уверен.[233]233
См. его письмо к Mapе от 22 июня 1811 г. Corresp., 17839.
[Закрыть] Поэтому он отложил окончательное решение до тех пор, когда у него будет полная уверенность. Не принимая во внимание намеков, сделанных Александром Коленкуру и его заместителю, он ждет, чтобы эти намеки были повторены или переданы в иной форме.
Однако, по одному вопросу он теперь же выводит из разговора точное заключение. Уверения Коленкура почти что убедили его, что Россия не нападет в течений этого года. Следовательно, если войне неизбежно суждено быть, у него больше, чем он думал, времени подготовиться к ней; он может еще собрать и взвесить все данные для оценки положения. Считая, что положение дел, решительно не требующее “прежней спешности”[234]234
Corresp., 17774.
[Закрыть], дает больше свободы его действиям, больше простору его мысли, он воздерживается от всякого поступка, имеющего решающее значение, и даже слегка приостанавливает военные приготовления. 6 июня, т. е. на другой День после приема герцога Виченцы, он отправляет приказы в отмену некоторых данных уже приказаний, вследствие чего несколько направляющихся в Германию отрядов задерживаются во Франции. В следующие дни отменяется часть требований войск от союзников. Император переносит свое внимание уже на Испанию и не так враждебно смотрит на Север.[235]235
Id., 17783.
[Закрыть] Это успокоение не ускользнуло от его приближенных, и дало Коленкуру, с которым обходятся то милостиво, то холодно, слабую кратковременную надежду.[236]236
Неизданные документы.
[Закрыть]
Как раз по время этого затишья произошел обряд крещения. Он должен был совпасть с открытием отложенной по случаю праздников сессии Законодательного Корпуса и со съездом духовенства, созванного с тем, чтобы одобрить закон о подчинении церковного управления государству. Европа с беспокойством ждала всех этих событий, ибо они могли доставить императору случай говорить публично, причем он мог сказать несколько таких слов, которые осветили бы будущее.
Крестины имели место 9 июня. В пять часов пополудни Римский король был торжественно отвезен в кафедральный собор, где в ожидании его собрались сословные представители, власти столицы и сто архиепископов и епископов. Император с императрицей проследовал в церковь Notre-Dame, в парадной карете, впереди и сзади которой ехали генералы и офицеры его свиты. Толпа с любопытством и восторгом смотрела на это зрелище; но энтузиазм, с которым встречено было рождение наследника, начал уже ослабевать. Дело в том, что с некоторого времени в Париже со страшной силой свирепствовал экономический кризис: в предместьях Св. Антония не было работы; мастерские опустели, станки были покинуты; оставшиеся без работы угрюмые рабочие толпами слонялись по улицам. Контраст между этой нищетой и выставленным на показ официальным блеском, с непроизводительным золотом и серебром, которыми в изобилии горели костюмы и ливреи, сбруи и экипажи, слишком резко бросался в глаза, чтобы не наводить на злостные мысли, не вызвать злобного ропота.
В продолжение нескольких дней полиция срывала афиши с призывом к мятежу, которые расклеивались .по ночам в кварталах, населенных простым народом.[237]237
Бюллетени полиции, 17 и 28 мая. Archives nationales, АF, IV, 1515. 9-го, когда императорский поезд, покинув Тюльери, выезжал из-под Триумфальной арки на площадь Карусель, приветственные возгласы раздавались гораздо реже, чем обыкновенно; даже раздалось два-три пронзительных свистка. По крайней мере, мы узнаем об этом из язвительного донесения Чернышева. [17 июня, вышеупомянутый том, стр. 178.
[Закрыть] Молодой русский офицер, выслеживавший скверные новости и усердно осведомлявший своего государя о всех признаках, которые могли поощрить враждебные намерения царя, с особым удовольствием сообщал ему, что ожесточение против деспота проникает все глубже в народные массы, и что Наполеон уже не так уверен в населении Парижа.
Не этой ли встрече, оказанной народом, следует приписать грустное настроение императора в эти торжественные дни? Во время всей церемонии 9 июня он был мрачен, рассеян, молчалив и только в конце службы луч света пробился сквозь тучи на его лице. По совершении религиозных обрядов император принял из рук императрицы завернутого в покрывала наследника престола, чтобы представить его народу. Приближались сумерки. По мере нарастания мрака, тысячи свечей и особенно люстры на хорах, бросавшие в воздух снопы света, загорались еще ярче, отражаясь в глубине сводов мириадами мерцающих звезд. И вдруг в этом сиянии, в ореоле славы и величия, предстал божественный император с высоко поднятой белоснежной ношей на руках. Охватившее его волнение, нахлынувший прилив радости и гордости вмиг преобразили его лицо. В эту минуту начальник герольдов воскликнул: Да здравствует Император! Да здравствует Римский король! И все присутствующие неистово подхватили этот возглас, который, как ураган, понесся в необъятные глубины храма.[238]238
Вышеупомянутое донесение Чернышева, стр. 178. Cf. Thiers, XIII, 106 и Moniteur от 11 июня, где напечатан отчет об этой церемонии.
[Закрыть] Целая неделя была посвящена празднествам и народным удовольствиям, устроенным городом. 16-го, за три дня до съезда духовенства, император председательствовал на открытии Законодательного Корпуса. Его речь, по обыкновению, была изложением его политики. Естественно, что главным образом, он говорил об Англии: она, ее злокозненные подстрекательства вызвали слухи о войне, из-за которых Европа не так давно пережила столько волнений, и так пострадало народное благосостояние.
“Англичане, – сказал император, – играют на всевозможных страстях. То они приписывают Франции планы, которые могут вызвать тревогу в других государствах, – планы, которые Франция могла бы привести в исполнение, если бы они входили в ее политику; то взывают к самолюбию народов и стараются возбудить их ревность. Они пользуются всеми случаями, которые порождают неожиданные события переживаемого нами времени, ибо только война на всем протяжении континента может упрочить их благосостояние. Я не требую ничего, чего нет в договорах, которые я заключил. Я никогда не пожертвую кровью моих подданных ради интересов, которые не составляют непосредственных интересов моего государства. Я льщу себя надеждой, что мир на континенте не будет нарушен”.[239]239
Corresp., 17813.
[Закрыть]
Фразы, предшествующие этому ясно выраженному желанию, относились к Польше; в них иносказательно давалось обещание, что Франция не начнет войны ради славы и удовольствия освободить какой-нибудь народ. Эти слова были слабым отголоском тех слов, которые император при торжественной обстановке сказал в 1809 г., когда хотел жениться на сестре Александра.[240]240
См. II т., 202.
[Закрыть] В случае, правда, маловероятном, если бы в настоящее время Россия удовольствовалась подобным удовлетворением, он не прочь дать его.
Лористону поручено было указать в России на миролюбивый характер речи, совпавшей с целым рядом успокоительных симптомов, и настоять на необходимости безотлагательно придти к соглашению. “Внушите Лористону, – пишет император герцогу Бассано, – что я желаю мира и что пора уже поскорее покончить со всем этим. Передайте ему, что приезд Коленкура и его последние письма дают надежду, что император изменит свои решения и что, если Россия не делает новых приготовлений, я тем более не буду делать таковых; что несколько времени тому назад я потребовал от Баварии и Бадена новые полки, но что на днях я отменил это требование, что я остановил отправку пушек, назначенных для крепостей на Одере; что же касается обозов, которые находятся в настоящее время в пути и о прибытии которых в Данциге могут узнать, то следует обратить внимание на расстояние, сославшись на которое можно объяснить, что эти движения исполняются по приказаниям, данным два месяца тому назад”.[241]241
Corresp., 17832.
[Закрыть]
Наполеон ни на минуту не допускает мысля, что ему поставят в упрек эти передвижения, ибо они явились прямым следствием положения, занятого весной Россией. Тогда Франция сделалась свидетельницей, как войска густыми колоннами шли по направлению к герцогству, и, следовательно, была в положении законной обороны. Ее право приступить к вооружениям было безусловное, неоспоримое. Ему даже кажется, что Лористон недостаточно энергично отстаивает это положение. Уже при чтении первых депеш посланника Наполеон заметил, что тот сразу же подпал под влияние Александра, что он не устоял против его обаяния: во время спора был слаб и уступчив; не воспользовался своим выгодным положением; не сумел дать справедливой оценки коварным речам. Он также, если его там не направить, даст обольстить себя. “Обвить гирляндами цветов”. Исходя из этих соображений. Наполеон тотчас же приказывает герцогу Бассано обратиться к послу со строгим предписанием – держаться твердо; признаться, не стесняясь, в наших вооружениях и заставить признать, что мы были вправе так поступать, а не метаться и не отрицать их в туманных и запутанных фразах, да к тому же, против всякой очевидности. “Скажите Лористону,—пишет император министру, – что он плохо понимает мое положение; что России все известно; что я сказал об этом всем русским, ибо нужно быть слепым, чтобы не видеть, что все мои дороги загромождены обозами с припасами, командами военного конвоя и выступившими в поход отрядами, и что нельзя тратить по двадцать пять' миллионов в месяц, не поднимая на ноги все, что есть в стране; но что все это было приказано мною только после того, как Россия дала мне понять, что может изменить мне и воспользуется первым благоприятным моментом, чтобы начать враждебные действия.
В вашем письме к Лористону добавьте: “Император находит очень странным, что в этом случае вы не нашлись, что ответить… Император не вооружался, когда втихомолку вооружалась Россия. Он вооружился на виду у всех и только тогда, когда Россия, по словам самого Императора Александра, была готова. Император не издавал манифеста[242]242
Намек на публичный протест русских по поводу Ольденбурга.
[Закрыть], не заводил ссор на глазах европейских дворов, он даже не дал ответа. Наконец, Император ничего так не желает, как привести дела в то положение, в каком они были раньше. Он предлагал это, но вместо того, чтобы прислать кого-нибудь для переговоров, говорят несуразные вещи. Итак, Императору угодно, чтобы вы не отрицали вооружений и тем не ставили Саксонию в затруднительное положение, а чтобы настоятельно просили о прекращении этого строгого положения – не путем взаимных обвинений, а путем чистосердечных объяснений, стараясь найти средства к соглашению, если таковые можно найти”[243]243
Corresр., 17832.
[Закрыть]. Эта оговорка, эта формула сомнения выдает истинную мысль императора. У него нет ни желания, ни предвзятого намерения вести войну. В сущности, он хотел бы избежать ее и был бы благодарен каждому, кто избавил бы его от нее. Но он не видит средств устранить разрыв путем мирного соглашения. Мысль полностью удовлетворить желание России, иначе говоря, расчленить герцогство, по-прежнему ненавистна ему. “Исходите из того положения, – приказывает он писать Лористону, – что русским войскам, чтобы заставить нас дать согласие на столь позорное расчленение, потребуется оттеснить нас к Рейну”.[244]244
Id.
[Закрыть] – “Это было бы позором, – энергично продолжает он,– а для Императора честь дороже жизни”. Но, с другой стороны, он понимает, что Россия не получит удовлетворения, которого он не может дать, никогда не вернется к прежнему доверию, что почти нет надежды обойти затруднение и найти какой-нибудь хитроумный выход. Одним словом, что вне того, чего он не хочет сделать, ничего сделать нельзя. Вот почему, несмотря на его миролюбивые уверения, несмотря на его как будто искренние обещания, его неотступно преследует засевшая в нем и в большинстве случаев руководящая его поступками мысль, что в будущем году ему неизбежно предстоит война. Приостановив на время отправку войск в Германию, он очень скоро возвращается к прежней деятельности. Правда, он не увеличивает, напротив, даже уменьшает стоящие на первой линии войска. Чтобы ответить на один из предметов беспокойства Александра, он не усиливает гарнизонов Данцига; он останавливает на Одере один из полков, назначенных для этой крепости, и приказывает отступить части вестфальской бригады, командированной для несения службы в той же крепости. Но вся эта предупредительность имеет целью отвести глаза от более важных движений в тылу, ибо в то же время батальоны, формирующиеся в учебных командах, присоединяются к армии Даву и незаметно увеличивают ее на тридцать тысяч человек. По границам Германии Наполеон организует подкрепления в более широких размерах и с более тщательной подготовкой. Стоящие на левом берегу Рейна и на южном склоне Альп, спешно набранные и, следовательно, находящиеся не в полном составе команды, он заменяет настоящими армиями.[245]245
Corresp., июнь и июль 1811 г., passim.
[Закрыть] Он хочет иметь возможность в подходящий момент наводнить Германию солдатами и бурным потоком направить их к границам России.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































