Текст книги "Приглашение к Реальному"
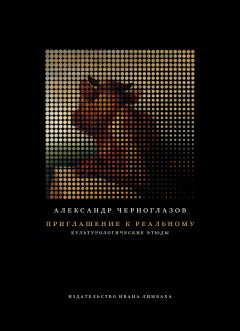
Автор книги: Александр Черноглазов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Разбитое зеркало
Истории, о которой пойдет здесь речь, не найти в антологиях «греческого романа» или «византийской любовной прозы». Повесть о юноше, покинувшем отчий дом в день своей свадьбы и после долгих скитаний на чужбине вернувшемся под родной кров, чтобы провести в нем остаток дней неузнанным нищим, прочно заняла свое место в житийных сборниках, запечатлев собой, по свидетельству отечественного исследователя Бориса Бермана, «самое лицо агиографии». Впрочем, ученый тут же вынужден оговорить, что житие это «несет на себе явную печать своеобразия, хотя и отвечает всем канонам жанра». И не просто отвечает, но «по нему одному можно составить себе понятие о существенных чертах агиографии»[9]9
Берман Б. И. Читатель жития // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 165.
[Закрыть]. Принадлежность повести житийному жанру, разумеется, нельзя оспаривать. Но именно на своеобразие его – в том числе жанровое – хотели бы мы здесь обратить внимание. Своеобразие это отмечалось давно – так, уже в конце XIX века французский исследователь Гастон Парис, отмечая близость фабулы жития романам приключений, называет его «восточным романом».
И в самом деле, уже при первом взгляде на нашу повесть велико искушение увидеть в ней вариацию на тему античного романа – своего рода роман, вывернутый наизнанку. Как и в романе, героев постигает внезапная разлука в самый день свадьбы, за ней следуют долгие странствия в чужих краях, а венчает историю долгожданная встреча. Но если в романе героев разлучает судьба, роковое стечение обстоятельств, то здесь происходит скорее обратное – разлука происходит по вине – и даже по воле – самого героя, судьба же, напротив, словно вопреки ему, возвращает беглеца под родной кров.
Да и встреча героев мало напоминает хеппи-энд античного романа. И все же сходство мотивов – пусть самое поверхностное – позволяет нам (не без риска, конечно) на это истолкование решиться. Итак, предположим, что перед нами действительно роман. Что это предположение означает? Прежде всего, что герои любят друг друга и стремятся к союзу, к соединению. Но как тогда объяснить поступок святого Алексия, который служит пружиной всему сюжету, как объяснить его уход? Почему стремление к суженой оборачивается бегством от нее? Для античного романа ситуация немыслимая. Но настала другая эпоха, изменилась сама геометрия духовного мира, и линии, стремящиеся друг к другу, стремительно разбегаются, послушно следуя кривизне той поверхности, на которой они прочерчены. Однако прежде, чем эту геометрию исследовать, сделаем шаг назад и вернемся к традиционным координатам жития, где поступок героя сложных объяснений не требует, где движет им не любовь, а мотивы совсем иные. Какие же? Попробуем найти ответ у Гегеля, обратившегося к этому сюжету в своих лекциях по эстетике.
История святого Алексия служит философу для иллюстрации той мысли, что в эпоху, о которой идет у него речь, – в эпоху Средневековья – стороны и обязанности нравственного организма человеческого мира «еще не признаны как необходимые, правомерные звенья в цепи внутри себя разумной действительности, в которой ни одна стороны не должна получать изолированную самостоятельность, но должны быть сохранена в качестве значимого момента и не принесена в жертву». Ибо «нравственная жизнь в семье, узы дружбы, крови, любви, государства, профессии – все это принадлежит мирскому, а мирское, поскольку оно еще не проникнуто здесь абсолютными представлениями веры и не возвышено до единства и примирения с этими представлениями веры, кажется верующей душе с ее абстрактной задушевностью ничтожным в себе и потому враждебным, вредным благочестию и не включается в сферу ее чувств и обязанностей». Вполне естественно поэтому, что герой истории, чье поведение отражает давно пройденный, «грубый» и «варварский» этап человеческого духа, не вызывает у философа личного сочувствия. «Если благочестие доходит до насилия над в самом себе разумным и нравственным, то мы не в состоянии симпатизировать такому фанатизму святости. Более того, этот вид отречения нам должен казаться безнравственным и противоречащим религиозности, так как он отвергает, разрушает и попирает то, что само по себе справедливо и свято». Направленный на самоуничижение пафос отречения, своего рода «ревность не по разуму», видится ему главным мотивом поведения героя: «Здесь же боль, преднамеренное сознание и ощущение боли является подлинной целью. Она может быть достигнута, как рассчитывают, в тем более чистом виде, чем более страдание связано с осознанием ценности того, от чего отрекаются с любовью к нему и с непрерывным созерцанием отречения. Чем богаче сердце, подвергающее себя таким испытаниям, чем более благородное достояние оно в себе заключает <…>, – тем тяжелее ощущается отсутствие примирения <…>. Такой человек чувствует себя дома только в интеллигибельном, а не в земном мире и потому чувствует себя потерянным в законах и целях этой определенной действительности, существующих самих по себе. Хотя он всей душой пребывает в них и связан с ними, он все-таки рассматривает это нравственное как нечто отрицательное по отношению к абсолютному предназначению». Результатом является, как видим, «отсутствие примирения», то есть разрыв с окружающим, эгоизм как преследование личной, субъективной, никем не разделяемой цели, в пределе же – сумасшествие: «Такой человек кажется нам сумасшедшим и в страданиях, им же созданных, и в его покорности, так что мы не можем ни чувствовать к нему сострадания, ни почерпнуть в нем возвышающих нас сил. Этим поступкам не хватает содержательной, действительной цели, ибо то, что они достигают, лишь совершенно субъективно, это цель единичного человека для самого себя, для спасения своей души, для своего блаженства». Дух общины, который «состоит в том, что человек в самом себе отражает, как в зеркале, божественный процесс, делая себя новым бытием вечной истории Бога», – дух этот не обнаруживает в таком субъекте своего действия, а зеркало, где призвано отражаться то, что именует Гегель «божественным процессом», на наших глазах мутнеет и гаснет. Подлинным содержанием жизни героя становится «претерпевание жестокостей и собственное добровольное отречение, жертвы, лишения; испытывая всякого рода лишения, страдания, пытки, муки, дух преображается внутри себя чувствует себя единым, удовлетворенным, блаженным в своем небе»[10]10
Гегель Г. Ф. В. Эстетика: В 4 т. М., 1969. Т. 2. С. 258–260.
[Закрыть].
Легко убедиться, что точка зрения Гегеля нисколько не противоречит здесь позиции психоаналитика Теодора Райка, в работе которого «Мазохизм и общество» мученичество рассматривается как сублимированная разновидность социального мазохизма. За смирением святого, его самоуничижением Райк усматривает скрытую гордость или тщеславие – но не гордость собственными достижениями и подвигами, а гордость теми особыми требованиями которые святой к себе предъявляет. «Человеку культуры свойственна гордость идеалом своего Я (Ich-Ideal), своим Сверх-Я (Über-Ich). Страдание такого человека становится доказательством его собственных достоинств, а тем самым и собственного превосходства»[11]11
Reik Th. Aus Leiden Freuden. Masochismus und Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1983. S. 311.
[Закрыть].
Не жалует нашего героя и Лев Толстой, обвиняющий его в эгоизме, в том, что он оставил свой дом, «заставляя мучиться и страдать и жену и родителей»[12]12
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935–1964. Т. 64. Письма 1887–1889. С. 207.
[Закрыть] (что не помешало, впрочем, писателю несколько лет спустя решиться на весьма похожий поступок и самому).
По сути дела, к близкой точке зрения приходит – хотя и совершенно иным путем – цитированный уже нами выше Борис Берман. Анализируя предполагаемое воздействие жития на читателя, он приходит к выводу, что, вопреки первому впечатлению, герой его был не столько образцом для подражания как личность (сама исключительность его подвига вряд ли это допускала), сколько посредником между духовной властью и подданными. При этом мотивом как героя, так и читателя служит «наслаждение самоотвержения, очевидное извращение которого – чувство <…> верующего в церковной иерархии». На духовном наслаждении этом зиждется «прочность подданнического мироощущения»[13]13
Берман Б. И. Читатель жития. С. 179.
[Закрыть].
Все толкования сходятся, как видим, в одном: каковы бы ни были скрытые и явные мотивы героя – нравственное приносится им в жертву как отрицательное по отношению к религиозному Ich-Ideal, к высшему абсолютному предназначению. В такой формулировке, противопоставляющей религиозный идеал нравственному, поведение героя приобретает подозрительно современную, чуть ли не кьеркегоровскую окраску. В житии, однако, о подобном противопоставлении нет и речи: мир, где живет его герой, – это не просто нравственный, а именно христианский мир, мир скорее идеализируемый, нежели осуждаемый. И тем не менее конфликт в жизни героя, конфликт, придающий его судьбе столь драматический оборот, бесспорен. Что же с ним в действительности произошло? Попробуем присмотреться к житию внимательней.
Начинается оно описанием дома героя, его семьи. И вот первое, что бросается в глаза: внутри себя разумная действительность, идеально слаженный нравственный организм не предносятся здесь как цель – они уже налицо. Благочестивый Евфимий, отец Алексия, «строго соблюдал заповеди Божии. <…> постился всякий день до девятого часа. В доме своем учреждал три стола – для сирот и вдов, для захожих людей и путников и для страждущих и нищих. И всякий раз как выходил из дому, творил заповедь милосердия и подавал милостыню нищим, говоря в душе своей: „Я не достоин ступать по земле Бога моего“»[14]14
Житие и деяния человека Божия Алексия. Л., 1972. С. 156.
[Закрыть]. В государстве занимает Евфимий почетную должность синклитика. Рабы его благоденствуют – они опоясаны золотыми поясами и одеты в шелк. Супруга его – женщина верная и богобоязненная. Нравственная жизнь в семье, узы крови, любви, государства – все это именно проникнуто здесь абсолютными представлениями веры, возвышено до единства примирения с этими представлениями и ничтожным, враждебным благочестию явно не кажется – ни читателю жития, ни тем более герою его, который является плотью от плоти этого – идеального, разумеется, утопического – житийного мира. Более того, благочестию создается здесь, казалось бы, идеальное поприще. То, что предстоит у Гегеля как конец истории – идеальное христианское общежитие, – в нашей истории оказывается как раз началом. И завязка ее в том-то и состоит, что жизнь в идеальном общежитии этом – идеальном для Алексия, ибо никакого другого идеала он не формулирует и себе не мыслит – оказывается для героя невозможной. Но если жизнь эта, жизнь в христианской семье, действительно составляет идеал героя (и читателя) жития, то почему он оставляет ее? Возможен лишь один ответ: что-то, вопреки собственному желанию, мешает ему, какая-то сила выталкивает, выбрасывает его из разумной действительности, разрушает ее изнутри, не дает ей осуществиться.
Проследим же за уходом героя. Приурочен этот момент к брачной ночи. Войдя с суженой в спальный покой, Алексий «взял свой золотой перстень и поясную пряжку, завернутые в пурпурного цвета покров, и отдал ей и сказал: „Прими это и береги, и Господь да будет между мной и тобой, пока на то воля Его“, – и сказал ей и другие сокровенные слова»[15]15
Там же. С. 157.
[Закрыть]. Сам по себе мотив ухода от невесты очень распространен – отказом от брака начинали свой аскетический подвиг многие святые. И легче всего понять этот поступок как аскетическое предпочтение Бога – миру, девства – браку. В пользу этого говорит и молитва об избавлении «от суетной жизни сей», произнесенная Алексием после ухода. Но в житии противоречит этому истолкованию тот главный – отсутствующий, кстати сказать, в первых сирийских редакциях жития – мотив, который как раз и придает ему черты романа – мотив возвращения (возвращения, предвосхищаемого уже в момент расставания, когда Алексий оставляет суженой пояс и золотой перстень). Оно-то и бросает свет на тайну ухода, в корне меняя всю фабульную схему повествования. В традиционном житии герой оставляет невесту как препятствие, преграду между ним и Богом. Здесь же – вспомним слова самого Алексия – именно Бог становится между ним и невестой. И не только как стена, разлучник, как меч, лежащий между героями средневековой легенды, но и как посредник, как мост, как единственный путь, которым может святой Алексий вернуться. Вернуться к своей суженой, в свою семью, к соединению с которой он и стремится, которая и составляет цель всего пожизненного его странствия.
«В отношениях между мужчиной и женщиной, – пишет, комментируя Гегеля, Александр Кожев, – желание человечно только тогда, когда один желает не тело, а Желание другого, когда он хочет „завладеть“ Желанием, взятым как Желание, или „ассимилировать“ его, то есть когда он хочет стать „желанным“ или „любимым“, или же: „признанным“ в своей человеческой ценности, в своей индивидуальной человеческой реальности»[16]16
Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 14.
[Закрыть]. Очевидно, что-то мешает нашему герою быть признанным в «своей человеческой ценности», в «своей индивидуальной человеческой реальности». И уход его как раз и есть путь к такому признанию. По какой-то, очевидно, непреложной для него логике – ибо на карту поставлена вся его жизнь – путь к признанию проходит для него через непризнание, неузнавание, анонимность. Попробуем проследить эту логику и понять, что же мешает герою принять то «признание», которое общество, живущее по законам «разумной действительности», ему предлагает.
На языке самого жития ответ очевиден – это «тинистое болото» греховности, о котором упоминает Алексий в своей благодарственной молитве[17]17
Житие и деяния человека Божия Алексия. С. 159.
[Закрыть]. Читателю может показать, что речь идет о греховности мира, из которого бежит святой Алексий. Но что представляется Алексию в этом мире злом, что стремится он изменить своим бегством? Только одно – свое собственное положение, свой собственный статус в нем. «Благодарю Тебя, Господи Боже, что удостоил меня Святого Твоего Имени ради принять подаяние от собственных рабов моих», – говорит Алексий, принимая подаяние от разыскивающих его по приказу отца слуг. А это значит, что не мир представляется ему греховным, а себя почитает он недостойным мира. Видение своей греховности и есть главное достояние христианской святости. «Святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными»[18]18
Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1900. С. 44.
[Закрыть] – слова эти взятые нами у аввы Дорофея, являются общим местом для святоотеческой письменности. Но о каком «именно» грехе идет речь? Напрасно было бы нашего героя об этом расспрашивать. Скорее всего, он ответил бы нам словами старца из притчи, которую находим мы у того же аввы Дорофея: старец этот, оплакивающий своих грехи и пытаемый софистом, говорящим ему: «Скажи мне, как ты считаешь себя грешным, разве ты не знаешь, что ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди», – неизменно отвечает одно: «Не знаю, что сказать тебе, но считаю себя грешным. <…> Не смущай меня; я подлинно считаю себя таким»[19]19
Там же. С. 46.
[Закрыть]. Мотив самоосуждения почувствовал в этом житии еще русский богослов Стефан Яворский, сравнивавший святого Алексия с евангельским слугой, скрывавшим свой талант, но делавшим это «не от небрежности и лености, а от глубокого смирения»[20]20
Цит. по: Адрианова В. П. Житие Алексия человека Божия в древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917. С. 213.
[Закрыть]. Святой Алексий уходит, чувствуя свое недостоинство, чувствуя, что «признание», которое он получает в своей «индивидуальной человеческой реальности», то есть в своем «Желании», не касается, не затрагивает его подлинного желания – желания, которое, с одной стороны, он не может высказать, а с другой – переживается им как греховное.
Итак, в своей борьбе за признание, в своем желании стать желанным, герой проникается мыслью, что признание, которое он получает как индивидуальность, не заслужено им, что в нем ошибаются, что его принимают за кого-то другого, лучшего. Ему же нужно признание подлинное, признание его самого как субъекта желания.
Но, по Кожеву, «Желание, взятое как Желание, то есть до его удовлетворения, на самом деле есть не что иное, как явленное ничто, ирреальная пустота»[21]21
Кожев А. Введение в чтение Гегеля. С. 60.
[Закрыть]. Удовлетворяется такое желание, как явствует далее, через объект, на который направлено желание другого: «Желание, направленное на природный объект, человечно только в той мере, в какой оно „опосредовано“ Желанием другого, направленный на тот же объект»[22]22
Там же. С. 61.
[Закрыть]. Таким образом, объект этот удовлетворяет желание как объект символический, то есть как знак, элемент языка. Проблема же нашего героя состоит как раз в том, что он лишен такого объекта, что язык не предоставляет его. Более того, чувство вины заведомо запрещает его удовлетворение, обрекая героя на существование в виде «явленного ничто». Перед нами, таким образом, возникшая парадоксальным образом внутри романа проблема исповеди. В чем же дело? Может быть, в языке заложен какой-то внутренний порок, недостаток, может быть, скудость его не позволяет герою себя высказать? В поисках ответа на этот вопрос обратимся к своего рода «феноменологическому описанию» самоотчета-исповеди, данному Бахтиным в работе «Автор и герой в эстетической деятельности».
Целью героя исповеди является «чистое ценностно-одинокое отношение к себе самому». Следуя к этой цели он должен преодолеть «трансгредиентные моменты сознания и оценки, возможные в сознании других людей», «путем самоуничижения перед [другим] освободить себя от этого влияния его оценивающей позиции вне меня». На этом пути «всякое успокоение, остановка в своем самоосуждении <…> воспринимаются как отпадение от чистоты самоотношения как одержание возможным оценивающим другим». Тут же оказывается, однако, что при этом неизбежен конфликт с формой и с самим языком выражения, которые с одной стороны, необходимы, а с другой – принципиально неадекватны, ибо содержат в себе эстетические моменты, обоснованные ценностным сознанием других. Вывод: «Чистый одинокий самоотчет невозможен <…>. Известная степень тепла нужна в окружающей меня ценностной атмосфере, чтобы самосознание и самовысказывание могли осуществиться в ней». В поисках выхода из ценностного вакуума герой обращается к вере, но и здесь поджидают его готовые формы, в которых он предвосхищает свое оправдание, «становится возможным ритм, милующий и возвышающий образ и проч. – успокоение, строй и мера в антиципации красоты в Боге», а «чисто просительные» слова псалмов «порождают эстетизированные образы». Чтобы получить оправдание, дух должен «стать наивным», «не знать воздуха, которым он дышит»[23]23
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 124–127.
[Закрыть], что противоречит самой установки исповеди на самопознание.
Дело, таким образом, вовсе не в бедности, скудости языка. Напротив, чем богаче и полнокровнее этот язык, тем больше создает он возможностей для самоотчуждения субъекта, тем быстрее и вернее превращает он «грешника» в «праведника», тем дальше уводит он кающегося от себя самого. На пути святого Алексия оказывается не тот или иной «порок» общества и эквивалентного его ценностям языка, а сам язык как таковой. Язык, служащий у Гегеля и Кожева (при условии «наивности духа») посредником во взаимном признании, для святого Алексия, эту наивность (невинность) утратившего, оказывается преградой, стеной. И ситуация эта, гегелевскому миру чуждая, ставит нас в совершенно иную перспективу, лучше всего описанную, пожалуй, Жаком Лаканом.
Субъект желания отделен в этой перспективе от Другого субъекта стеной языка, а оба они стоят по разные ее стороны как два подобных друг другу, зеркально отражающих друг друга собеседника-марионетки. Язык, в котором субъекты предстают в отчужденном от себя облике, предопределяет их мнимые взаимоотношения, принципиально не позволяя понять друг друга. Их Я, то есть их самосознания (в смысле Гегеля и Кожева), оказываются не чем иным, как комплексом сопротивлений, призванных подлинное желание вытеснить. Любая выраженная в языке интерпретация вытесненного желания оказывается в конечном итоге делом рук его Я, то есть очередным способом запирательства. Язык изначально выступает как инструмент этого запирательства и служит отчуждению желания, возникшего в результате вытеснения первичных означающих. Поскольку же означающие эти изначально связаны с телом матери – утраченной Вещью, которую в дальнейшем и ищет, не обретая, желание, – то поиск их со временем, в период Эдипа, связывается с чувством вины. Вытесненная, Вещь обуславливает, однако, возможность желания, чья связь с феноменальным миром опосредована фантазмами, которые комментатор Лакана Бернар Баас удачно называет «трансцендентальными схемами» желания[24]24
Baas B. Le désir pur // Ornicar. № 43 (1985). P. 56–91.
[Закрыть] и которые носят у Лакана название «объект а» или «объект-причина желания»[25]25
Lacan J. Écrits. Paris, 1999. P. 98
[Закрыть]. «Канализированное» через объект а, любое желание становится, таким образом, инцестуальным, что и приводит Лакана к знаменитой формуле о невозможности сексуальных отношений… помимо инцеста.
Другими словами, судьба Эдипа уготована каждому, а «нормальная» жизнь и любовь – «восполняющая», по Лакану, невозможность сексуальных отношений, – основана на «наивном» забвении этой участи, на «культурной подтасовке, которую в отношении к сексуальному объекту наглядно демонстрирует эдипов комплекс.
Вот этой-то наивности и лишен наш герой. Не зная, не в силах сказать, на что направлено его желание, он отлично знает, что любая попытка добиться признания в зеркале себе подобных, любая попытка предстать личностью будет лишь маскарадом, фальсификацией его желания, утаиванием его как чего-то воистину постыдного, превращающего героя в своего рода «прореху на человечестве». Желая признания в качестве субъекта желания, он и хочет как раз признания в качестве чего-то ничтожного и постыдного, худшего всей твари.
Любому, кто знаком с аскетической литературой восточного христианства, это состояние души хорошо известно. Не в силах сказать, в чем именно их грех состоит, святые упражняются в самоуничижении, а выражения, в которых говорят о себе аскеты, выстраиваются в устрашающую, устремленную к небытию прогрессию: хуже бессловесных, хуже всей твари, хуже демонов, мертвец – нет, гробница, где и мертвое тело успело обратиться в прах.
Но любые ухищрения на этом пути бессильны, ибо сам язык, как мы уже видели, превращает самообвинения в изощренное средство самооправдания. «Субъект желания как таковой, – говорит Лакан, – не может ничего сказать о себе, не упраздняя себя тем самым в качестве желающего. Это и определяет место субъекта как субъекта желания. Всякая попытка артикуляции на этом уровне будет тщетна; даже синкоп языка бессилен что-либо сказать, ибо стоит субъекту заговорить, как он немедленно оказывается в роли требующего, то есть переходит в регистр требования, а это совсем другое дело»[26]26
Lacan J. Le Séminaire, livre VIII. Paris, 2001. P. 430.
[Закрыть]. Быть желающим, значит «не допустить ни малейших следов предположения, что ты можешь оказаться желанным»[27]27
Ibid. P. 428.
[Закрыть]. Заметим, что это как раз и характеризует для Лакана позицию аналитика, отказывающегося от соблазна стать предметом желания.
Итак, перед Алексием, желающим признания в качестве субъекта желания, стоит задача заведомо невыполнимая. И тогда, уповая на Бога, он делает то единственное, что действительно в его силах сделать, – он разбивает зеркальное изображение своего предназначенного для «соблазнения» других и требующего признания и «милования» двойника. Теперь он избавлен от иллюзорного облика, наличие которого переживал как обман. Именно этот жест – жест субъекта желания, разбивающий зеркало Символического, – и разъясняет, как нам кажется, загадку его ухода. Почему, однако, делает он этот жест именно теперь? Почему вообще соглашается он на таинство брака? Уже одно согласие это свидетельствует о том, что вовсе не о противопоставлении безбрачного, монашеского образа жизни супружеству идет в житии речь, но именно о браке, о самой возможности его, о путях его осуществления. Можно предположить даже, что именно сам брак и открывает Алексию глаза, что именно брак лишает его иллюзий. В одной из приведенных Адриановой-Перетц версий жития мы действительно находим деталь, которая, возможно, на момент подобного прозрения как раз и указывает. «Влези чадо и виждь невесту свою и познай подружие»[28]28
См.: Адрианова В. П. Житие Алексия человека Божия в древней русской литературе и народной словесности. С. 213.
[Закрыть], – говорит отец Алексия сыну после венчания и брачного пира.
Фраза эта, на первый взгляд, излишня, избыточна, ибо сводится к требованию того, что так или иначе должно быть совершено. Перед нами, тем не менее, тот самый тип высказывания, которому один из комментаторов Лакана, Славой Жижек, посвящает специальную главу одной из своих работ, где определяет его как «акт пустой и чисто формальный, <…> акт чистого притворства, посредством которого субъект делает вид, будто именно он в ответе за то, что произошло бы в любом случае и без его участия»[29]29
Žižek S. Ils ne savent pas ce qu’ils font. Paris, 1990. P. 177.
[Закрыть]. Анализируя этот тип высказывания, он приходит к выводу, что именно в нем «сырая и безразличная реальность усваивается и принимается нами как дело наших собственных рук, как простейшая идеологическая операция, символизация Реального, его преобразование в значимую целокупность, его вписывание в большого Другого»[30]30
Ibid. P. 188.
[Закрыть]. Более того, подобного рода «пустой акт» как раз и «полагает большого Другого, дает ему существование»[31]31
Ibid.
[Закрыть]. Перед нами, таким образом, символический акт по преимуществу. Характерно, что совершается он здесь именно отцом – той самой фигурой, которой отводится у Лакана особая роль: именно отец сопрягает воедино желание и закон.
Слова отца открыто ставят нашего героя перед выбором – тем самым выбором, который Лакан выразил формулой «père ou pire» («отец или нечто худшее»)[32]32
Lacan J. Écrits. P. 557.
[Закрыть]. В случае повиновения Алексий навсегда отчуждает свое желание в формах, предложенных ему отцовским законом, – той, говоря языком Лакана, «отцовской метафорой», которой первичные означающие желания матери (фаллические означающие) оказываются вытеснены, заменены означающим Имени Отца. Иными словами, он дает согласие на операцию, именуемую у Лакана символической кастрацией – увечьем, лишающим соединение героя с возлюбленной подлинной его цены, его обессмысливающим. В случае же неповиновения Алексию предстоит лишиться всякого символического статуса, вычеркнуть себя из реальности, стать в ней дырой, прорехой.
Казалось бы, провозглашение закона, явление его должно было бы стать и его торжеством, знаком утверждения его могущества. На деле все происходит иначе. Если прежде Имя Отца действовало в нем как бессознательно усвоенный им и потому непреложный закон, то ныне, явившись перед ним открыто, обнаружив свою связь с реальной фигурой отца, свой пустой, формальный, чисто императивный характер, оно являет тем самым и неспособность свою ответить Алексию на мучающий его вопрос о том собственном его тайном желании, которое было этим именем вытеснено. Санкция отца, закона, этого ветхого уже завета, не преодолевает, не снимает, не зачеркивает в нем – человеке уже неподзаконном, новозаветном – желания истины, желания быть признанным в самом желании своем. Именно бессилие закона, выступающее в этот момент в обнаженном виде, и заставляет его выбрать в конце концов «нечто худшее».
Как же происходит казалось бы невозможное теперь воссоединение? Как отказ от признания становится путем к нему? Нельзя забывать, что исчезновение было для героя не самоцелью, а именно началом пути – пути к признанию в качестве субъекта желания.
Обратимся вновь к житию. Мы видели, что при разлуке Алексий вверяет себя Богу, именно Его делая посредником между собой и супругой. Перед смертью он описывает свою жизнь в грамотке и умирает, зажав ее в руке. Найденный по откровению, данному папе – главе Церкви – свыше, он, уже мертвый, лежит, зажав грамотку в руке, и отдает ее не родным, которые первыми попытались взять ее, а папе и императорам, олицетворяющим собою всю Церковь. После этого тело подвижника с великими почестями и при огромном стечении народа, который даже деньги, что велели императоры бросать в толпу во избежание давки, не смогли отвлечь от этого зрелища, переносится в храм. Останки святого, оказавшись нетленными, прославляются Церковью и источают благовонное миро. Плачу над гробом святого посвящен весь конец жития, занимающий (скажем, в «Золотой легенде») до одной четвертой общего объема текста.
Итак, встреча в нашем романе все-таки происходит. Бог, которого призывал Алексий в посредники между собой и супругой, соединяет их. Но каким образом? Казалось бы, разбивая зеркало, Алексий уничтожает то Я, которое могло бы стать предметом чужого желания. Вглядимся, однако, в формулировку Кожева внимательнее: «Желать желание, значить хотеть заменить собою ту ценность, которую желает желание»[33]33
Кожев А. Введение в чтение Гегеля. C. 62.
[Закрыть]. «Собою» – означает ли здесь для Алексия его зеркального двойника? Очевидно, нет – ведь он хочет стать желанным именно в качестве субъекта желания, а этот последний неспособен, как мы видели, явить себя, не отразившись в зеркале Символического. Субъект, о котором идет речь, не может, казалось бы, совпасть с ценностью, заменить ее. Но что это за ценность – та, которую желает другое желание? Разве не подсказывает святому Алексию его собственный опыт, что вытесненный объект желания – «то, что мы желаем в том, что мы любим»[34]34
Lacan J. Le Séminaire, livre VIII. P. 177.
[Закрыть] – отнюдь не совпадает с идеальным образом, который преподносит нам Символическое? Да, субъект желания не соответствует Идеалу Я как ценности, но ведь и сам этот идеал отнюдь не является на деле желанным! Желанным является объект а, объект-причина желания. Что же этот объект характеризует? «Объект а со злорадством преподносится Лаканом как нулевая отметка человеческого достоинства», – пишет английский исследователь Лакана Малкольм Боуи[35]35
Bowie M. Lacan. Cambridge (Mass.), 1993. P. 176.
[Закрыть]. «Леденящей поэзией в прозе» называет он посвященную этому объекту страницы Лакана, поразительно напоминающие порой по интонации ту прогрессию самоуничижения субъекта, о которой говорили мы выше. «Не тряпье, а само бытие человеческое занимает подобающее ему место среди испражнений, где протекали первые его забавы»[36]36
Lacan J. Écrits. P. 582.
[Закрыть], – пишет Лакан. «Аз яко кал, греховную скверну желаю», – вторит ему келейная молитва современника Алексия Иоанна Златоустого. «Каждый из нас – блудный сын, которому самое место в свинарнике»[37]37
Bowie M. Lacan. P. 176.
[Закрыть], – резюмирует Боуи пафос лакановских строк. Но именно здесь, в свинарнике этом, герой наш, как раз и видящий себя блудным сыном, недостойным отчих объятий, оказывается неожиданно для себя как никогда близок цели. Ибо именно здесь занимает он наконец, сам того не зная, «подобающее ему место» среди объектов, вокруг которых кристаллизуется человеческое желание.
Но объект а имеет и другую сторону. «Как испражнения могут приобрести для младенца значение преграды, дара или знака доверия, так и для Лакана все отвратительные отбросы, составляющие подкладку субъекта, могут стать предметом ценности»[38]38
Ibid.
[Закрыть]. Будучи утрачен и недоступен воображению как таковой, объект а не подлежит разрушению. Именно он является «тем, что желают в том, что любят». Ценность его абсолютна: «Все блага являются благами лишь постольку, поскольку могут стать платой за доступ к желанию»[39]39
Lacan J. Le Séminaire, livre VII. Paris, 1986. P. 371.
[Закрыть]. Он служит источником того, что Лакан называет jouissance, означающим одновременно «владение» и «наслаждение».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































