Текст книги "Приглашение к Реальному"
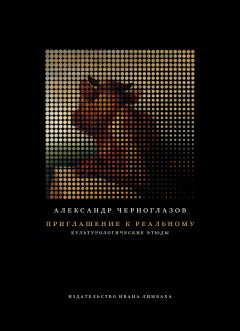
Автор книги: Александр Черноглазов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Евангелие от лошади
Фильм Белы Тарра «Туринская лошадь» начинается с пересказа легендарного эпизода из жизни Фридриха Ницше. Произошло это в городе Турине. Выйдя из дома то ли на прогулку, то ли на почту, Ницше увидел извозчика, который, пытаясь справиться с упрямой лошадью, безжалостно хлещет ее плетью. Подбежав к ним, философ в слезах бросается на шею лошади. После чего, отведенный домой, проводит несколько дней в молчании и сходит с ума.
В эпизоде этом два основных мотива. Первый – жалость. Жалость к животному, то есть существу по определению бессловесному. И второй – молчание. Молчание, в которое погрузился философ вслед за постигшей его вспышкой жалости и сострадания. Как они связаны между собою? Почему именно участь животного вызвала у философа слезы? Ответ напрашивается сам собой – потому что животное бессловесно, безответно. Ведь словесность служит существу своего рода убежищем, панцирем, защитной сферой. Животное лишено этой сферы, и потому именно оно в первую очередь достойно жалости. Молчание философа можно тогда объяснить как отождествление себя с животным, нисхождение к нему, своего рода кеносис, в котором человек, одаренный разумом, принимает зрак немого, бессловесного существа.
Именно таковы, надо сказать, и герои фильма – их речь односложна и носит чисто утилитарный характер: такой речью животные обладают в не меньшей мере, нежели люди. Реплики «распрягай», «готово», «видишь, она не пойдет», «идите отсюда», дают персонажам возможность общения, но не репрезентируют их как субъектов: они полностью обезличены и являются частью действий, направленных на удовлетворение повседневных нужд. Это не система означающих, а набор сигналов, каждый из которых жестко связан со своим смыслом.
Но почему и в каком смысле язык служит одушевленному существу защитой? Речь, конечно, не о языке как об инструменте, позволившем человечеству покорить природу и занять привилегированное, господствующее место на лестнице животных видов. Речь о той конкретной защите, что дает язык, наедине с собой, каждому человеческому существу. Ответ на этот вопрос можно, как мне представляется, найти у Лакана. Человек для него – не просто животное, владеющее языком, как протезом или инструментом, животное, оказавшееся способным этот инструмент изобрести и создать. Язык скорее сам создал человека и входит в само определение человеческого бытия. Не случайно Лакан придумал неологизм parlêtre, где само бытие человека словесно, где бытие, être, и речь, parole, сливаются в одно целое, образуя новую природу, подобно тому как, по формуле Кирилла Александрийского, божественная и человеческая природа сливаются в фигуре Христа в «единую природу Бога Слова воплощенную». Самоназвания славянских племен, такие как «славяне», «словенцы», схватывают суть дела. Лакановский термин удобно перевести на русский как «словенин», человек-слово. Хайдеггеровское определение языка как «дома бытия» здесь радикализуется – дом не отделяется от его обитателя, составляя с ним одно целое. Но в доме этом, согласно Лакану, человек живет не один – есть в нем и другой обитатель, и обитатель этот не кто иной, как сам Господь Бог. Говоря, человек боготворит, пишет Лакан. И происходит это непроизвольно, спонтанно, без его ведома. Дело не в сознательном утверждении или отрицании бытия Божия, а в том, что только с языком возникает бессознательное, а с ним и та фигура большого Другого, к которой человек, говоря со своими ближними, маленькими другими, бессознательно обращается.
Однако дело, добавим мы от себя, даже не только в этом. Дело еще и в том, что Бог-творец вообще не может войти в мир живого существа иначе как через слово. И в самом деле, как бы ни явился Бог человеку, какой бы облик ни принял, облик этот будет принадлежать миру, а значит, Богом уже не будет. Поэтому явиться в мире, оставаясь Богом, Он может лишь в качестве знака, так как знак по определению не равен самому себе. Материально будучи частью мира, он указывает на нечто иное. Поскольку иное это в данном случае миру не принадлежит, знак оказывается единственным и полномочным представителем Бога в мире: он и есть тот Бог, которого означает, хотя последний, разумеется, к нему не сводится. Не случайно на некоторых иконах – одну из них можно видеть, к примеру, в верхнем ряду иконостаса новгородской Софии – Бог репрезентируется пустым троном с развернутой на нем книгой. В основе возникшего на Афоне в начале XX века движение имяславцев лежит, по сути дела, та же самая интуиция: имя Божие, утверждали они, может быть предметом для поклонения как святыня, ибо оно есть Бог. Бог присутствует в мире как слово, как Имя Божие. Он не просто, подобно гераклитовскому Аполлону, подает знаки, он и есть Знак, он входит во вселенную лишь в качестве слова. И это еще одна, главная привилегия человеческого существа: только через него, словенина, может Бог действовать в мире, не слившись с ним, не став его частью, не обратившись в еще одного, пусть самого большого, «маленького другого». Это не значит, что животное не может общаться с Богом – это значит лишь, что оно не может общаться с Ним как внеположным миру Творцом. Иными словами, не обделенное Божией милостью и любовью, оно лишено одного – тех символических гарантий, которые дает человеку Слово Божие. Именно в этом и заключается его беззащитность, именно это делает его объектом сострадания по преимуществу.
Посмотрим теперь, как будет выглядеть эта жалость в контексте ницшеанской мысли. Мы имеем в виду прежде всего то знаменитое место в «Веселой науке», где философ говорит, что Бог мертв и мы, люди, убили его. Конечно, речь идет о новом времени, новой культуре – культуре, лишенной сакрального, божественного фундамента. Но провозглашающий эту истину безумец из афоризма 125 – это, разумеется, и сам Ницше: за «мы» совершенного великого преступления скрывается «я» мыслителя, человека, «чей час не пробил», чье деяние не получило пока последствий, но уже совершено им: он берет на себя ответственность. Но ответственность за столь великое дело предполагает обязанность: «не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться его достойными?» Без Бога, как видим, вновь не обходится: означающее это всплывает снова и снова. «После того, как Будда умер, в течение столетий показывали еще его тень в одной пещере – чудовищную, страшную тень. Бог мертв: но такова природа людей, что еще тысячелетия, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. И мы – мы должны победить еще и его тень!» (афоризм 108)[71]71
Перевод К. Свасьяна.
[Закрыть].
По сути дела, Лакан, говоря в Семинаре XI, что «подлинная формула атеизма вовсе не Бог умер. Бог бессознателен – вот подлинная формула атеизма», комментирует именно эти слова. Бог живет в бессознательном, и выкурить его оттуда уже нельзя, ибо бессознательное – это язык, а говоря, мы, как я уже написал, цитируя Лакана, боготворим.
Нечто подобное мог ощущать и Ницше, говоря о тени Бога, которую предстоит победить. Тени, которую как раз и обнаружит впоследствии Лакан в языке бессознательного. Ницше был сознательным богоборцем: убийство Бога, пусть и не совершенное им в одиночку, он считал своей миссией, своей культурной задачей – задачей, которую он, несмотря на «веселый» характер своей науки и на гимны легкости, что поет его Заратустра, выполняет с «дьявольски» религиозной серьезностью. А это значит, что его не мог не тревожить призрак убитого, та неистребимая, бессмертная его тень, о которой пишет он в «Веселой науке». Лишь разделавшись с ней, мог он довести свою миссию до конца. Но если тень эта живет в языке, то избавиться от нее можно единственным способом – замолкнуть, изгнать из себя слово. Что и делает Ницше, рыдая на шее замученной лошади. Его отказ от слова можно понять как своего рода кеносис, нисхождение в бессловесное – нисхождение, которое сопровождается озарением сострадания и жалости к существам, которые стоят с реальностью лицом к лицу, лишенные той символической смысловой оболочки, того «дома бытия», где мы, люди, спрятав головы под крыло, обитаем. В каком-то смысле он повторяет здесь жест Христа, который из сострадания к людям стал одним из них, покинув блаженную сферу своей Божественности, и оказался, по слову Клоделя, «заложником» земной жизни, разделив с нами наши страдания и нашу незащищенность. Ницшеанский кеносис, как видим, это одновременно как сострадательное нисхождение к бессловесному, животному миру, так и логическое завершение его собственной жизненной миссии и философии, окончательное изгнание Бога из человеческой жизни.
Она-то, жизнь без Бога, и оказывается сюжетом фильма. История лошади – это история того мира, в который сошел, выйдя из сферы логоса, наш философ и который легко представить себе как порожденный его воображением. А это, собственно, так и есть – ведь порожден он воображением режиссера и сценариста, которые творчески пережили этот эпизод с Ницше. Бессловесная, она лишена событий: герои ее, отец и дочь, живут, как и лошадь, удовлетворением своих потребностей, живут в крайней бедности и нужде. Но нужда эта приобретает в фильме явно метафизическое измерение: ведь из нужды эти люди не могут выбраться не только потому, что они бедны, но потому, что они немы. У них нет более языка – того измерения, где желания могли бы появиться на свет, той двери, через которую Бог мог бы войти в их жизнь. Они обречены на вечное и безнадежное удовлетворение насущных потребностей: жажды, голода, сна. Вокруг них словно сжимается невидимое кольцо: буря отделяет их от внешнего мира, покидают дом привычные жуки-древоточцы, иссякает вода в колодце, не горит лампада, не зажигается огонь в очаге. В течение шести дней, когда происходит действие, мир становится все более беспросветным, тьма вокруг героев сгущается. Может ли и сюда, в этот беспросветный, безъязыкий мир, проникнуть благая весть? И если да, то каким путем? Какую форму она может принять? Ведь даже вернув им все, что они постепенно утрачивают, Господь не избавил бы их от метафизической нужды, на которую обрекает их отсутствие языка.
Мне представляется, что благая весть эта в фильме есть. И исходит она, словно в благодарность философу, от того самого существа, к которому он проявил сострадание, – от лошади, которой и посвящен фильм. Именно она совершает на четвертый день нечто такое, что в мире, где живут отец с дочерью, совершенно немыслимо, – она отказывается есть и пить. Это действительно немыслимо – ведь вся жизнь героев и состоит в том, чтобы цепко, упорно, настойчиво выживать: именно это делают они все время, в течение которого режиссер позволяет нам наблюдать их жизнь. Отказ от еды и питья идет вразрез с этой жизнью, он не вписывается в ее логику. А это значит, что за ним стоит иная, не известная нам причина. Конечно, физиологически за этим может скрываться просто-напросто усталость или болезнь, и этого нам, зрителям, узнать не дано, но результатом, так или иначе, является отказ от того, что составляет само содержание безъязыкого и потому бездомного бытия. Никакого положительного содержания за ним может и не стоять, но уже сам по себе, чисто формально он представляет собой отрицание этого мира, отречение от него. Иными словами, отказ от удовлетворения естественных, насущных потребностей и есть тот единственный, по сути, немой, апофатический способ, которым может явить себя в этом мире то, что лежит за его пределами. И жест этот, эта преподанная бессловесным созданием «благая весть» оказалась людьми воспринята. В заключительной сцене фильма, когда в очаге уже не горит огонь, отец ест сырую картошку, но дочь, человек физически и духовно гораздо более сильный – именно на ней держится и дом, и хозяйство, – есть не собирается. «Ешь!» – приказывает ей отец, но она уже не слушает его, императив выживания потерял для нее свою силу. И тогда, последним из трех, отказывается от еды и отец. В последнем кадре фильма они сидят за столом напротив друг друга, так что к зрителям обращен их профиль – сидят неподвижно, опустив головы, не притрагиваясь к еде. Сцена немного напоминает композиционно средневековую Тайную вечерю, хотя и с двумя участниками, но Христа во главе стола нет: Бог из этого мира изгнан. Причастие принимает здесь парадоксальную форму отказа от трапезы. Место евангельского «Приимите, ядите, сие есть тело мое…» занимает тот знак, что подает людям бессловесное существо, лошадь: «Не приимите, не ядите, ибо это не То». Если в начале фильма Ницше, отказываясь от слова, изгоняет из жизни самою тень Бога, в конце его лошадь, отказываясь от пищи и питья, а с ними, очевидно, от жизни, Бога в жизнь возвращает. Ведь, не укладываясь в логику жизни, чьим единственным содержанием является удовлетворение насущных потребностей, отказ этот уже не может быть простым фактом жизни и становится знаком, то есть указывает, намекает, на что-то, лежащее вне ее. Иными словами, он становится отречением, формой речи. С ним, отречением этим, входит в созданный жестом Ницше и воображением автора фильма бессловесный мир речь, а с нею и Бог. Если отказом от слова мы изгнали Бога из жизни, только отказ от жизни может вернуть нас к Богу – вот безглагольное благовестие, которое преподает лошадь людям.
II
Theatrum mundi
«The world’s a stage and all the men and women are merely players…» («Весь мир – подмостки, а люди, его населяющие, – всего лишь актеры…») На что жалуется здесь шекспировский Жак-меланхолик? Худо ли быть актером? Да нет – Шекспир и сам чувствовал себя в этой роли как рыба в воде, а сейчас, когда мир стал зрелищем, стать кумиром публики – поистине завидная участь. Жак имеет в виду, конечно, другое – он имеет в виду заблуждение, в котором пребывают люди, думая, что они свободны, что они следуют своим желаниям, тогда как на самом деле они «всего лишь» разыгрывают предназначенную им роль. Им кажется, что их жизнь исполнена смысла, но наступает момент, когда они понимают, что их желание – это желание другого, что они лишь подражатели, мимы, более того, что сам этот пресловутый другой – всего лишь «bubble of the earth», пустой и готовый лопнуть пузырь. Так, Макбет, чье желание режиссировалось и направлялось его женой, со смертью ее обнаруживает, что он всего лишь «a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more» («ходячая тень, бедный актер, чей звездный час на сцене отмерен заранее»); что вся его жизнь – лишь «tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing» («бессмысленный, полный шума и ярости рассказ идиота»). В момент, когда Макбет понимает, что он «всего лишь» актер, жизнь его лишается смысла, он не знает уже, кто же такой он сам. Ведь воля его жены, в свою очередь, направлялась словами ведьм, пересказанными им ей когда-то в письме, а предсказания ведьм оказались на поверку двусмысленной словесной игрой, такими же пузырями, как и они сами. Слова «signifying nothing» словно сошли здесь со страниц Лакана – если смерть жены лишила его миметического, воображаемого двойника, то с наступающим на него Бирнамским лесом ушла у него из под ног последняя почва – почва означающего, «signifier», на которое он полагался и с которым мог себя идентифицировать. Осознание себя актером равнозначно для него утрате самого себя: он больше не знает, чего он хочет и чего, собственно, добивался всю жизнь.
Иными словами, актеры мы до тех пор, пока пребываем об этом в неведении – как только мы понимаем это, нам наступает конец: «Then human voices wake us and we drown»[72]72
Человеческие голоса будят нас, и мы тонем (англ.).
[Закрыть], – пишет в «Любовной песне Пруфрока» Элиот. Макбета пробуждение обрекает на смерть, Жака – на вечные меланхолические скитания. Есть ли из этого положения выход, можем ли мы жить, не продолжая бессознательно ломать комедию, жить, не поступаясь, как пишет Лакан в семинаре об этике, собственным желанием? Но вместо того, чтобы направиться за ответом к психоаналитику – теория суха как-никак, – обратимся к тому, кто знает, надо полагать, о ремесле актера больше других, к тому, кого исстари почитали патроном и покровителем актерского ремесла, человеку, который, дойдя до вершины в своем искусстве, нашел путь, ведущий из него в жизнь, – к святому Генесию, актеру, миму, и мученику.
Фигура эта, скорее всего, историческая: жил Генесий в конце III – начале IV века. Житие его для русского читателя проще всего найти у святителя Игнатия Брянчанинова, который пересказывает его в «Слове о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу», входящему во второй том книги «Аскетических опытов». Генесий был знаменитым и популярным комическим актером, тогдашней звездой эстрады, и славился забавными импровизациями. Однажды, играя в театре в присутствии императора, он, представляясь больным, лег в постель и, пожаловавшись на здоровье, заявил, что хотел бы умереть христианином и желает принять крещение. Пришел актер, изображавший священника, и проделал над ним, пародируя их, все положенные крещальные обряды. После чего, когда его представили императору как бы для допроса, он неожиданно действительно исповедал христианскую веру и, отказавшись принести жертву идолам, был казнен.
Житие это, византийское по происхождению, приобрело необыкновенную популярность и в западном мире. Генесий стал покровителем актеров, которые видели в нем оправдание своего ремесла. В XVI и XVII веках на этот сюжет было написано известными драматургами (среди них испанец Лопе де Вега, а также французы, современники Жана Расина, Дефонтен и Ротру) несколько пьес, которым посвящена отдельная глава в вышедшей в 2013 году замечательной книге петербургского исследователя Инны Некрасовой «Религиозная драма и спектакль XVI–XVII веков». Мы обратимся подробнее к позднейшей из них, принадлежащей перу Жана Ротру, где сюжет разработан наиболее интересно и полно, но интереснейших деталей полны и две другие пьесы.
У Лопе де Веги Генесий – Хинес – прежде всего великий артист, гений искусства перевоплощения. Играет он, можно сказать, «по Станиславскому», уверяя, что может правдиво изобразить лишь то, что прошло через его сердце. Мастерство его перевоплощения заставляет партнеров забыть, что действие происходит на сцене, а не в реальной жизни: актриса, которой положено по сюжету сбежать от героя с любовником, действительно сбегает с играющим его актером. И когда император ставит перед ним задачу подражать крещеному христианину, задачу наитруднейшую, потому что персонаж этот наиболее далек от него, Хинес блестяще справляется с ней и вживается в роль настолько, что, будучи удостоен прямо на сцене видения Богоматери и Христа, действительно обращается в христианство и исповедует его прямо со сцены. «Я принял святое крещение и я вам представил это, потому что мой автор – Иисус Христос», – говорит он наблюдающим представление императорам.
Перед нами в каком-то смысле триумф актерского искусства: актер превращается в своего персонажа. Воображаемая, мнимая жизнь настолько овладевает им, что о реальной он просто забывает. В выигрыше Хинес оказывается постольку, поскольку сюжет пьесы, где он играет, заставляет его эту истину исповедать. Недаром, даже уверовав, он продолжает рассматривать себя как актера – но лишь актера иной, Христом написанной пьесы. Пьесы, где он стремится наилучшим образом сыграть свою роль. Став мучеником в реальной жизни, он остался актером – недаром пьеса носит подзаголовок «Комедия о наилучшем исполнителе». Трудно сказать, действительно ли он пробудился в действительности – если для другого испанского драматурга жизнь есть не что иное, как сон, то здесь перед нами своего рода сон потенцированный: реальность является герою, как сон, который он видит во сне: герой не пробуждается и переходит из одного сна в другой, из одной пьесы в другую, восходя, говоря фрейдовским языком, от одной сцены к другой. Иллюзия ведет его к правде, а правда окончательно запирает в театральном мире иллюзии – из лабиринта сцен чужого желания для него нет выхода. Именно поэтому и может эта пьеса восприниматься как апофеоз воображаемого, апофеоз иллюзии, апофеоз театра – театра как места, где мы встречаемся, как говорил Лакан, с реальностью в форме вымысла.
У Ротру в пьесе «Истинный святой Генесий» дело, при всем внешнем сходстве, обстоит иначе. Актер Генесий должен представить пьесу для императоров Диоклетиана и Максимина. Пьеса играется по случаю предполагаемого бракосочетания Валерии, дочери Диоклетиана, и соправителя императора Максимина. В качестве сюжета Генесий выбирает жизнь Адриана, христианского мученика, которого Максимин, жених Валерии, незадолго до этого предал казни. Конечно, оправданием сюжета служит прославление жениха, его триумфальная победа над христианами, злейшими врагами империи. Но дело еще и в том, что Генесий испытывает к христианам личную ненависть, и пьеса должна заодно послужить и личным его триумфом.
Генесий выступает не только как актер, но как автор пьесы и одновременно ее режиссер: он сам руководит всей труппой и постановкой. Однако в процессе написания пьесы и ее ре-петиций он замечает, пытаясь воссоздать мысленно внутренний мир мученика, что тот все более ему понятен и симпатичен. Что его переживания, иными словами, близки его собственным. Чем дольше он работает над его образом, тем ближе этот образ ему становится, тем очевиднее для него, что Адриан – это он сам. И когда наступает день представления – оно являет собой своего рода пьесу в пьесе и продолжается, перемежаясь с действием, целых два акта – в тот момент, когда заключенного в темнице Адриана окропляют, по сюжету, крещальной водой, исполняющий его роль Генесий начинает неожиданно говорить от своего лица. Интересно, что никто – ни актеры, ни зрители – этого сразу не понимают: актеры принимают это за блестящую импровизацию, зрители – за очередной поворот сюжета. Замешательство продолжается довольно долго и в течение всего времени ни один из персонажей, кроме самого Генесия, не знает, имеет ли он дело с вымыслом или с жизнью. И лишь после того, как Генесий решительно заявляет, что говорит с ними не Адриан, а Генесий, что перед ними не игра, но правда, что он и актер и то, что он играет, вынужден Максимин сменить свою роль зрителя на роль героя пьесы, где он тоже участвует в качестве персонажа (ведь именно он некогда казнил Адриана), и осудить Генесия на мучения и казнь, то есть отождествить его с героем представления до конца.
Главное, что происходит в пьесе, происходит в сознании ее героя. Герой, которому важно не доказать свою актерскую виртуозность, а опорочить и высмеять христианского мученика, приходит, как мы видели, к выводу, что он и его персонаж – одно. Но сам он по ходу пьесы ни в чем не меняется, да и в жизни его никаких особых событий не происходит. Меняется лишь понимание им самого себя – благодаря пьесе, которую он ставит, он познает себя, открывает, в чем состоит его подлинное желание. Но ведь пьесу сочиняет, хотя бы и по канве подлинных событий, он сам. А это значит, что желание это, в данном случае желание мученического венца, было уже заложено в нем, жило в нем изначально. И создание пьесы, призванной опорочить мученика, оказывается не чем иным, как фантазмом, конструкцией, которая должна его от этого желания защитить. Но чем детальнее он эту конструкцию прорабатывает, чем более прочную систему защиты возводит, тем ближе он становится к собственному желанию, воплощенному в образе мученика. Пытаясь укрепить свое Я и противопоставить его Адриану, своему воображаемому двойнику, он оказывается к нему во все более опасной близости. Именно такой предстоит в нашей пьесе функция искусства – оно призвано одновременно приблизить человека к желанию и послужить от него надежной оградой. Однако в чисто воображаемой плоскости слияние невозможно, сходство будет лишь усугублять соперничество. Что же соединяет человека со своим воображаемым противником-двойником, какая искра должна пробежать между ними, чтобы ясно стало, что они суть одно?
Нетрудно убедиться, что во всех версиях сюжета о святом Генесии такая искра одна – это искра Символического. В роли такого символического элемента выступает в них вода крещения – именно пародия на крещение провоцирует обращение как в ранних, так и в позднейших, театральных изводах сюжета. Оказывается, однако, что Бог поругаем не бывает. Что Символическое, в отличие от Воображаемого, нельзя спародировать, высмеять, извратить. Ибо оно связывает субъект не с другим, не с его воображаемыми любимыми или ненавистными двойниками и соперниками по жизни, а с Другим с большой буквы, тем с кем он постоянно ведет бессознательный диалог и с которым связывает его то желание, на которой его бессознательная идентификация строится. Как крест у Флоренского есть предмет, принадлежащий одновременно феноменальному и ноуменальному миру, так и акт крещения связывает субъекта не с ему подобными, не с маленькими другими, как зовет их Лакан, а с большим Другим, с миром означающих, воплощенным в житии в фигуре христианского Бога-Троицы. Только в этом акте желание героя становится уже не желанием воображаемым, подражательным, миметическим, «signifying nothing», говоря словами шекспировского героя, столь точно, терминологически, вторящими здесь лакановскому психоанализу, а желанием Другого, желанием, продиктованным означающим, а значит, «signifying» по преимуществу, сообщающим жизни смысл.
Этим двум этажам желания и соответствует очень точно композиция барочной пьесы Ротру с ее театром в театре. Герой, актер не только по профессии, но, как все мы, и по жизни, выстраивает искусственное Я с его миметическими желаниями как защиту от истинного желания, живет на им созданной сцене им же написанной жизнью, но бессознательно тем самым выстраивает постепенно для подлинного бессознательного оболочку и плоть, наращивает на него, как пророк в видении Иезекииля, кости и сухожилия, и недостает лишь символического элемента, слова, чтобы вдохнуть в это творение дух, оживотворить его, чтобы, повторяя формулу Фрейда, которую эта пьеса замечательно иллюстрирует, Оно героя могло наконец стать его Я. Это становление, пресуществление Оно в Я и есть, по сути дела, тема пьесы Ротру. Фрейдово sollen, должно, этой формулы (там, где было Оно, должен стать Я) предстает здесь как максима христианской этики, то условие, при котором субъект может сойти с театральной сцены своих фантазмов и встретить свое желание – а с ним и свою смерть – лицом к лицу.
Нам могут возразить, указав на то, что Генесий, в сущности, не выходит из театра в реальность. И в самом деле, актер, исполняющий роль Генесия, играющего Адриана, остается актером, представляющим становление актера мучеником, но сам от этого мучеником не становится. Сходя с подмостков в реальность, он вновь оказывается внутри театра. Не значит ли это, что выход в реальность немыслим, что сходя с одной сцены, мы оказываемся на другой, переходя от воображаемой игры к мнимому мученичеству? Однако это не так – реальность присутствует для автора и зрителей трагедии едва ли не столь же весомо, сколь в эпоху, к которой нас эта трагедия отсылает. Ротру пишет и представляет пьесу о святом Генесии в 1646 году, в разгар янсенистских споров, еще до начала активных гонений, но уже после выхода осуждающей янсенизм буллы папы Урбана VIII. Одним из ключевых положений для янсенистов было признание ими коренной испорченности человеческой природы и невозможности для человека преодолеть ее самостоятельно, миметическим способом, просто подражая добру, так как мотивация такого добра все равно остается отмечена печатью греха. Обращение человека возможно только с помощью особой «действенной благодати», «grâce efficace», которая сообщается исключительно избранным, предопределенным к спасению. Как предположил в свое время в своей «Истории Пор-Рояля» Сент-Бев, пьеса Ротру представляет собой скрытое исповедание янсенизма: введенный в воображаемую ткань пьесы символический акт крещения как раз и является тем особым действием, которым сообщается герою божественная grâce efficace, – заметим, кстати, что сопоставление янсенистской grâce efficace и лакановского символического регистра было бы интересной, хотя и отдельной темой. Ротру, иными словами, выступает прикровенно в роли Генесия сам, точно так же, как прикровенно воплощает свое желание сам Генесий в роли мученика Адриана. С той разницей, что сам он, в отличие от своего героя, так и не решается сойти с подмостков на сцену жизни, хотя именно такое решение поэтическая фантазия ему подсказывает. Не решается, потому что и в его время решение это могло оказаться если и не смертельным, то для карьеры драматурга небезопасным: исповедь могла легко обернуться для него исповедничеством.
Но почему желание всегда оказывается опасно или смертельно? Почему, переходя, по словам Генесия, «со сцены к алтарю», субъект оказывается на этом алтаре в роли жертвы? Прежде всего потому, что игра его смертельна с самого начала. Ведь актер играет мученика, как мы видели, постольку, поскольку сам желает им стать и в то же время этому желанию сопротивляется: «Мне нужно подражать, не становиться им, – говорит он себе, готовясь к роли. – Но с именем его (Адриана. – А. Ч.) я проникаюсь христианским чувством». Уже здесь, как видим, уподобление образное, воображаемое, миметическое – то, что арианские богословы назвали некогда, говоря от отношении Христа к Отцу, подобосущием – противостоит отождествлению по имени, соответствующему правоверному единосущию. К этому единосущию и стремится наш герой, как стремится к нему всякий, кто желает исповедовать христианство. Но как арианство – не случайно столько сил было положено ранней церковью на борьбу с ним – несовместимо с правоверием, так символическое единосущие с Богом несовместимо с воображаемым подобосущием миру. Большому Другому нельзя подражать: желание Другого, о котором говорит Лакан, это не только желание Другого как объекта, не только желание, исходящее от Другого, но и желание вечно Другого, не вечно нового, а вечно иного, желание, которое ничто Другое удовлетворить не способно. Не случайно, пытаясь найти формулу желания, Лакан букву А, означающую в его записи большого, символического Другого, перечеркивает. Это означает, поясняет он, что в Другом означающего для субъекта найти нельзя – если, разумеется, добавим мы, не считать таким означающим саму черту, тождественную, кстати сказать, по форме той единичной черте, в которой и воплощено для Лакана символическое начало. Именно оно, начало это, эта черта, ставит крест на всякой попытке низвести Символическое в плоскость мнимого. Поэтому отказ от другого наличного, от другого, которое нам любезно подбрасывают и подсовывают на каждом шагу, от моделей, которым нас приучают следовать и подражать, от зеркал, в которых нас призывают собой любоваться, от образов, с которыми нам предлагают себя идентифицировать, от богов и кумиров, которым велят поклоняться, – это единственный способ, пусть ценой своей жизни, остаться желанию Другого верным, или, как говорил Лакан, не поступиться им. Наша жизнь, как правильно понял Макбет, действительно ничего не значит, «signifies nothing», и только смерть становится тем означающим, «signifier», той заграждающей ее чертой, что, кладя на нее знамение креста, дает ей наконец смысл.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































