Текст книги "Приглашение к Реальному"
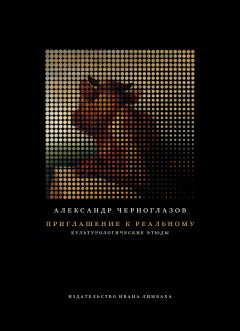
Автор книги: Александр Черноглазов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Между смертью и смертью
В испанских залах Лувра можно увидеть замечательную скульптуру, изображающую святого Франциска в молитвенной позе (вклейка I). Она бросается в глаза характерным для испанской деревянной скульптуры натурализмом. В каком-то смысле он доведен до предела: скульптура не только тщательно моделирована и раскрашена, но и улыбается настоящими человеческими зубами, извлеченными для этого из чьего-то черепа. Но интересно другое – по ближайшем рассмотрении оказывается, что она изображает не просто Франциска, а Франциска мертвого.
На деле этот иконографический тип довольно распространен, особенно в испанском искусстве XVII века. Так, полотно Сурбарана, изображающее мертвого молящегося Франциска, можно видеть в Музее изящных искусств Лиона. В основе его лежит средневековая францисканская легенда, согласно которой при открытии в 1459 году могилы святого в Ассизи он был найден в гробнице мертвым, но стоящим в молитвенной позе, а стигматы на его ногах источали кровь. Внешне как картина, так и скульптура не дают, собственно, заподозрить, что перед нами мертвец, – святой изображен живым, и трудно, не зная легенды, догадаться о сюжете картины.
Итак, молится именно тело Франциска, молится без участия души – застыв в молитвенном жесте и истекая кровью. Оно живо где-то по ту сторону своей смерти, будучи уже мертвым, «two things in one». Интересно, что именно словом at-one-ment, слившимся исторически в английском в atonement («примирение», «искупление»), назвал английский психоаналитик Уилфред Бион гипотетическую точку, где аналитик становится заодно с пациентом, откуда он может пациента интерпретировать.
Оставим, однако, покуда эту легенду и вспомним о том, что состояние это, не между жизнью и смертью, а странным образом между первой и второй смертью, между двумя смертями, человеческое воображение давно занимало. Я имею в виду не посмертную, загробную жизнь, не мытарства души после смерти. Я имею в виду фантазии, где живой человек воображает себя умершим, несуществующим, но живущим не в аду, чистилище, раю, нирване, а в некоем межеумочном пространстве, представления о котором унаследованы им от его культуры или порождены его собственным творческим воображением. Задача, на первый взгляд, невыполнимая – собственное небытие человек вообразить не способен. Быть или не быть – да, но быть и не быть… Почему же, однако, настойчиво старается воображение этой точки достичь и как оно это делает?
В поисках ответа обратимся к американскому писателю Натаниэлю Готорну, опубликовавшему в 1835 году загадочный рассказ под названием «Вейкфилд». Загадочен он не только для читателя, но и для самого автора. Готорн пересказывает и пытается разгадать сюжет, почерпнутый им якобы из старой газеты, но признается при этом, что не понимает героя и приглашает читателей самим поразмышлять над его судьбой. Загадочным представляется автору не только поступок героя, но и его собственный интерес к нему. Случай этот, по его словам, «appeals to the generous sympathies of mankind» («неизменно притягивает к себе человеческое внимание»). Мы знаем, продолжает он, каждый про себя, что ничего подобного мы не сделаем, но чувствуем при этом, что кто-то другой вполне мог бы. Другими словами, перед нами не просто не касающийся нас курьез или безумие, а нечто такое, что вызывает в каждом из нас симпатию, находит отклик, хотя мы сами не можем сказать почему. Если предмет так воздействует на нас, пишет он, время, потраченное на осмысление его, не потеряно. Думая о нем, мы в определенном смысле думаем о себе.
Сюжет несложен: герой рассказа, человек среднего возраста, обеспеченный, семейный, уходит из дому якобы по делам на несколько дней, но не возвращается, а снимает жилье поблизости и живет рядом со своими близкими двадцать лет, видя их едва ли не ежедневно, и в один прекрасный день неожиданно для них, как, впрочем, и для себя, возвращается как ни в чем не бывало под родной кров. Этот-то сюжет и пытается автор как-то себе и читателям объяснить.
Вейкфилд в рассказе – человек самый что ни на есть заурядный: автор замечает за ним разве что недостаток воображения, сильный, но бездеятельный, рассеянно-мечтательный ум, неспособный облечь свою мысль в слова, спокойное сердце и тихий, не слишком требовательный эгоизм. Автор подозревает, что в основе поступка лежит тщеславие – герою интересно узнать, как будут окружающие и семья реагировать на его отсутствие. Он понимает, однако, что объяснение это неудовлетворительно, – ведь за своим исчезновением из мира людей, за тем, как затягивается ряской забвения место, которое он некогда занимал, Вейкфилд наблюдает едва ли не с наслаждением. Он, собственно, не собирался уходить надолго и полагал через неделю вернуться, но неожиданно для него самого игра затянула его.
Что же представляла собой его новая жизнь? Да ничего – в том-то и дело, что никакой новой жизни он так и не начал и все двадцать лет занимался лишь тем, что следил… за кем? Не за семьей даже, а за собой, но собой, которого уже нет. Он, по выражению Готорна, «Outcast of the Universe» («вселенский изгнанник»), в мире ему нет места. Иначе говоря, он осуществил именно ту фантазию, о которой мы только что говорили, он увидел мир после своей смерти, мир, где его нет, – похоже, именно оно, это видение, и завораживает его.
Не напоминает ли его поступок игру ребенка с катушкой, о которой говорит Фрейд: прочь – и катушка катится под кровать; ко мне – и катушка послушно, притянутая за нить, возвращается. У Фрейда ребенок, играя в эту игру, пытается овладеть первичным объектом – матерью, но каков объект в данном случае, с чем играет герой рассказа? Парадокс в том, что объектом для него служит собственное Я, исчезающее и вновь появляющееся, умирающее и вновь воскресающее к прежней – далеко на самом деле не прежней – жизни. Об этом, собственно, говорит в одиннадцатом семинаре Лакан, утверждая, что первый объект, который предлагает субъект родительскому желанию, чей предмет ему неизвестен, – это свое собственное исчезновение. Фантазм собственной смерти, собственного исчезновения – вот первичный объект, которым субъект в своем желании оперирует. Представить себе свое исчезновение мы не можем, но оборотной стороной его является мир без нас – его то и пытается представить себе наш герой. В этом мире он есть, но со знаком минус, ничто: в этом смысле как раз и говорит Лакан о ничто как одной из форм объекта а, объекта, в который мы оказываемся в этой фантазии отчуждены.
Наше Я Лакан описывает, следуя Фрейду, как очаг – или комплекс – сопротивлений, не позволяющих истине бессознательного сказаться. Но фантазия, о которой мы говорим, это как раз фантазия исчезновения Я – не реальное его исчезновение, нет, а всего лишь фантазия о нем, но фантазия вполне естественная в динамике борьбы бессознательного желания с препятствиями, которые Я ему поставляет. Интересно, что мы имеем здесь дело с фантазмом, противоположным тому распространенному среди психоаналитиков фантазму, который Лакан неустанно разоблачал, – фантазму всемогущества Я, его творческой потенции, его способности вывести все содержание психики в свет сознания.
Эта идея всемогущества имеет глубокие корни – прежде всего в немецком идеализме и философии Фихте, а также в связанном с ней представлении о романтической иронии. По одному из определений, данному этому понятию Фридрихом Шлегелем, «bedeutet die Ironie eben nichts andres, als dieses Erstaunen des denkenden Geistes über sich selbst, was sich oft in ein leises Lächeln auflöst» («ирония означает не что иное, как изумление мыслящего духа самому себе, часто находящее выражение в тихой улыбке»). Улыбка, о которой говорит Шлегель, – это насмешка творческого Я над любым продуктом собственного творчества, насмешка бесконечного над ограниченным и конечным. Как ни странно, нечто очень напоминающее шлегелевский «leises Lächeln», – «crafty smile» («хитрая улыбка») является единственным, что выдает Вейкфилда, его отличительной, едва ли не симптоматической чертой. Ничто в нем не предвещало, хотя бы отдаленно, поступка, который он оказался способен неожиданно совершить, но в сердце жены запала улыбка – последнее, что видела она в щель, когда он закрывал за собою дверь. В сущности, лишь эта улыбка чеширского кота от него и осталась – именно благодаря ей, пишет Готорн, жена сомневалась порою, что осталась вдовой, когда все прочие давно поверили, что муж ее мертв. Впоследствии она не могла представить себе мужа без этой улыбки – даже когда она воображала его лежащим в гробу или обитателем рая, улыбка эта не сходила с его лица. С ней, улыбкой этой, он, спустя двадцать лет и входит в свой дом. При всех метаморфозах Вейкфилда во всех возможных мирах только она, улыбка эта, остается без изменения. Не значит ли это, что именно она и реальна, что все остальные формы относятся к ней, как акциденции к сущности, что в каком-то смысле он эта улыбка и есть?
Смысл ее, однако, прямо противоположен шлегелевскому смеху: ведь Я героя ушло из мира, оно мертво – у мертвых, пишет автор, не больше шансов вернуться в мир, чем у Вейкфилда. Сознание героя словно заторможено – «каждый свой шаг он предпринимает, сознавая, что идет к некой цели, но определить эту цель достаточно ясно, чтобы увидеть ее, он не может». В отличие от романтической иронии, где сознание, творческое Я, свободно играет конечными объектами и самим собой, само Я героя становится здесь игрушкой, само Я оказывается объектом бессознательного, заявляющего о себе в коварной улыбке готорновского героя. Улыбка эта – это смех конечного над бесконечным, разоблачение бесконечного Я как жалкой игрушки и марионетки. Я, которым мы так гордимся, – предметно и конечно, оно не более чем катушка, которую можно отбросить, если оно мешает, и вернуть вновь, если в нем настанет нужда: вот фантазм, который разыгрывает на сцене жизни воображение Вейкфилда.
Герой Готорна в литературе не одинок. Автор был прав – сюжет этот оказался неотразимо привлекателен для человеческого воображения. В 2008 году в январском номере «Нью-Йоркера», известный американский писатель Доктороу опубликовал рассказ под названием «Вейкфилд», своего рода ремейк, где сюжет Готорна проигрывается уже в наши дни. Герой Доктороу, преуспевающий адвокат средних лет, женатый, имеющий двух детей, не возвращается домой после работы. Происходит это в день, когда в городе погас свет, и мир, к которому принадлежало его Я, привычный окружающий мир, потерял для него внезапно свою очевидность. Встретив у порога своего сарая, стоявшего на участке отдельно от дома, енота, он прогоняет его, заходит в сарай и… остается там до утра, а потом и дольше, откладывая возвращение со дня на день, с месяца на месяц, втягиваясь в жизнь мира совершенно иного – мира, населенного енотами, бомжами и детьми-аутистами из приюта, организованного соседом-доктором. Мотивы героя неясны, и жизнь его проходит, как и у его прототипа, в некоем затмении. Женился он на женщине, которой увлекся потому, что увлекался ей его друг, и с исчезновением его брак их, вполне счастливый, желанием другого уже не поддерживался. Пытаясь свое желание сохранить, Вейкфилд ревнует жену по малейшим поводам и потому уговаривает себя за ней тайно понаблюдать, «не жить с ней, но наблюдать за ней». Очень быстро он понимает, что «оставил не дом, а систему». Он понимает, что не был самим собой, что само желание его было чужим: среди людей ему неуютно; жить под поблескивающим взглядом хищного енота, говорит он, – вот что ему нужно. «Никогда я не чувствовал себя так уверенно – словно несколько моих призрачных образов разрешились наконец в окончательную форму – в того Вейкфилда, которым я призван был твердо и решительно стать». Отбросив «призрачные образы», расставшись со своим воображаемым Я, он надеется прикоснуться к себе-реальному, обратившись в животное, спустившись на уровень инстинктивной, бессловесной жизни. Понятно, что попытка эта не удается: не прошло и года, как с появлением в доме бывшего ухажера своей жены желание другого воскрешает в нем двойника-соперника, и он, в прежнем облике, возвращается, чтобы предъявить права на жену. Его Я, таким образом, оказывается продуктом, марионеткой чужого желания: с уходом его, с ослаблением мертвой хватки, которой держит героя мир, и выходит как раз на поверхность фантазм мира, где его, этого Я, больше не существует.
Можно вспомнить и русский сюжет – «Живой труп» Толстого, где герой, симулировав самоубийство, не начинает новую жизнь с влюбленной подругой-цыганкой, не выстраивает новое Я, а предпочитает жить так, как если бы его не было, где-то рядом со своим прежним миром. История его отдаленно напоминает историю второго Вейкфилда, есть здесь и другой-соперник, но герой успел эмансипироваться от своего Я настолько, что ревности уже не чувствует и желание другого теряет над ним свою власть, – оттого и не пробует он свое Я возвратить, предпочитая остаться вне человечества, рядом с миром, где его нет, живым трупом. По отношению к этому Я он испытывает чувство стыда – ему стыдно жить, как живут все, служить, зарабатывать деньги, сидеть в консистории, – он, как и адвокат Вейкфилд, чувствует, что это не он сам, и потому стыдится: ведь стыд, как писал современник Толстого, философ Владимир Соловьев, возникает по отношению к тому, что нам чуждо, что не должно владеть нами, от нас отслаивается. Именно стыд перед своим Я, порожденный ощущением его как чего-то чужого, чуждого, и заставляет его предпочесть мир, где этого Я нет, вызывая к жизни фантазм, который нам с вами уже знаком.
Вернемся теперь к святому Франциску. Похоже, что и здесь перед нами тот же самый фантазм, но уже не в реалистическом, а в чудесном и оттого радикальном облике. Мертвое тело Франциска – это и есть его Я, его образ, каким люди его знают и помнят. Оно мертво теперь – его больше не существует. Что же осталось после его смерти, что́ молится там, где самого Франциска как личности больше нет? Вспомним Вейкфилда: мы уже говорили, что самое реальное в Вейкфилде – это его улыбка: именно в ней, и в ней одной субъект бессознательного, тот, кому его Я служит марионеткой, обнаруживает себя зримо. Но что он, этот субъект, собой представляет? Похоже, как это ни удивительно, что наш анонимный скульптор дает ответ на этот вопрос. Изваяние не более чем образ Франциска, его Я, его воображаемая форма, но в форму эту скульптор, и не случайно, вводит нечто реальное – его зубы. Именно он, оскал этих зубов, реален в нем так же, как реальна улыбка Вейкфилда, именно он пережил его смерть, как пережила смерть Вейкфилдова ухмылка в воображении его жены. По сравнению с деревянной фигурой степень реальности зубов иная. Вставляя скульптуре настоящие зубы, художник дает понять, что они-то и есть самое реальное во Франциске – то, что пережило его после смерти Я, и то, чему суждено воскреснуть к блаженной жизни: его плоть. Голос субъекта, иными словами, голос бессознательного, звучащий, когда сознание уже умерло – это безъязыкая речь самой плоти, отверстая рана рта. Я не случайно заговорил о ране – вспомним вторую деталь, обнаруженную папой Николаем V на теле Франциска и показанную нам скульптором: стигмат, открытую, кровоточащую на ноге рану. Реальное языка не знает, его язык – вопль: это и есть та тварь, которая, говоря словами апостола, «страдает и мучается доныне». Но страдание это – а оно и есть то страдание, с которым психоанализ в симптоме имеет дело, – это страдание вольное, страдание, слитое с наслаждением. В данном случае это стигмат – рана от гвоздя, которая появилась на теле Франциска, удостоверяя его, что желание его исполнено, что Бог умер за него, а следовательно, его любит. Именно поэтому он ни за что не согласится избавиться от него, как не хочет больной избавления от сво-его симптома. Ибо симптом и есть не что иное, как такой вот стигмат – травма, рана, нанесенная плоти словом и дарующая наслаждение посредством страдания: неслиянные, они в ней тем не менее нераздельны. Сама плоть соделалась в такой ране словом. Именно в ней, в этой «стигматической» ране, человек заодно со Словом, at one с Ним, что, собственно, и иллюстрирует идея стигмата – раны, которую получивший ее разделяет с распятым Христом: это не «похожая» рана, а рана нумерически одна и та же. Поэтому именно в ней ищет он atonement – именно она, вопреки немоте заявляющего в ней о себе страдания, делает его существом словесным. И происходит это не на уровне Я, а как раз в этом несуществующем, фантазматическом пространстве между смертью и смертью, где Я уже нет, а раненная словом плоть получает свободу голоса, – пространстве, которое писатели и художники, как мы видим, давно исследовали. Именно в этом пространстве находится то Реальное, которое аналитик ищет и at-one-ment с которым ему так нужен, – в этом залог и условие любого atonement, которое он может своему пациенту дать.
Субъект в потоке сознания
Поток сознания – известный, расхожий даже, литературоведческий и литературный термин. Как и многие другие, он берет начало в метафоре. Заимствована она, как узнает любой, кто даст себе труд заглянуть в Википедию, у известного психолога и философа Уильяма Джеймса, воспользовавшегося ею в 1890 году в работе «Основания психологии», где он сравнивает сознание с непрерывным потоком. У самого Джеймса этот поток еще не связан ни с какими художественными практиками. К тому же первые образцы того, что мы называем потоком сознания в литературе, появились значительно раньше. Так, сам Джойс называл в числе своих предшественников французского критика и писателя Эдуарда Дюжардена, чей роман «Срезанный лавр» был опубликован в 1887 году. Мне кажется, однако, что у метафоры этой есть иной, непосредственный и несколько более ранний источник. Я имею в виду опубликованную в 1867 году книгу английского писателя, искусствоведа, эссеиста Уолтера Пэйтера под заглавием «Ренессанс». Малоизвестный у нас на родине, он вспоминается в основном в связи с концепцией «искусства для искусства», которой наряду с парнасской школой французов мы во многом обязаны именно ему, как ему обязаны мы и его верным учеником Оскаром Уайльдом. Книга эта, при прочих достоинствах довольно специальная, действительно посвящена итальянскому Ренессансу, но завершает ее замечательное эссе, своего рода маленькая поэма в прозе. Писатель формулирует в ней свое эстетическое и жизненное кредо, в том числе и пресловутую теорию «искусства для искусства». Но не только ее. Говоря о современном искусстве, он указывает на то, как изменились наши представления о жизни, – она подобна теперь не коллекции предметов, что изображали на своих полотнах художники-академисты его времени, а непрерывному потоку явлений, в котором едва ли можно выделить отдельные элементы. Причем поток этот, во внешнем мире относительно медленный, отчего иллюзии отдельных предметов и возникают, становится во внутреннем мире стремниной, в которой разрозненные элементы настолько эфемерны и скоротечны, что их вообще едва ли удается обособить и выделить. Человек призван пережить каждый момент своей жизни с максимальной интенсивностью, а искусство как раз и служит тем средством, которое позволяет ему это сделать, не ставя перед ним никаких посторонних задач и сводя его жизнь к чистому и интенсивному переживанию. Однако помехой этому в литературе становится сам ее материал – слова: именно они членят, прерывают этот поток, превращая его в то, что мы называем предметным миром. Перед литературой ставится, таким образом, парадоксальная задача: чтобы отразить новое понимание мира, она должна идти против собственного материала, преодолевая рождаемый словами эффект означивания. Одной из попыток эту задачу решить и стала появившаяся в английской и французской литературе техника потока сознания.
Говоря о потоке сознания как технике письма, вспоминают обыкновенно по крайней мере два имени: Джеймс Джойс и Вирджиния Вулф. Речь идет о технике, призванной описать работу сознания героя изнутри, регистрируя возможно детальнее работу его мысли, воспроизводя, по возможности, его внутреннюю речь. Перед нами оказывается картина именно сознания, того, что у Фрейда именуется Ich, а у Лакана moi: собственного Я, инстанции сознания как такового. Инстанция эта предстает у Лакана источником сопротивления: она принципиально лжива: в этом ее raison d’etre. Каким образом может в этой картине субъект бессознательного получить голос? Лакан, как известно, описывал сознание как лишенное глубины: бессознательное для него, иными словами, это не что-то подспудное и скрытое – оно, напротив, всегда лежит некоторым образом на поверхности, а значит, должно быть в пресловутом потоке всегда так или иначе заметно, явлено. Другими словами, оно должно в поток этот войти. Попробуем же посмотреть, каким образом это происходит.
Начнем с Вирджинии Вулф, обратившись к известному ее рассказу «Mark on the Wall» («Пятно на стене»). По-английски mark – очень емкое слово, это «печать, знак, символ, метка», а также «цель, мишень»: одним словом, пятно, знаковый статус которого остается неопределенным. Более того, оно одновременно может указывать на предмет внимания (глагол to mark и значит, собственно, «обращать внимание», «замечать»). Завязка сюжета очень проста. Зимний вечер, гостиная. Героиня рассказа дремлет у камина в кресле, глядя на вспыхивающие языки пламени. В воображении ее полощется на ветру красный стяг на замковой башне, а по ведущей к замку тропе медленно поднимается кавалькада рыцарей. Фантазия эта возникает у нее непроизвольно, «автоматически», она знакома ей с детства, и героиня рада, когда внимание ее привлекает небольшое, странной формы пятно на стене напротив, повыше каминной полки.
Такова, собственно, рамка потока, его берег. Начиная с этого момента мы вступаем в сознание героини, в поток мыслей, вызванных в ее воображении столкновением с тем, чему не знает она объяснения. В ее голове роятся предположения, она принимает было пятно за след от гвоздя, nail, на котором висела картина, принадлежавшая предыдущим хозяевам дома, след другой жизни, с которой разлучил их поток времени, как поезд, тронувшись, разлучает нас со сценами, что наблюдали мы из окошка купе на привокзальной станции.
В воображении героини возникает образ потока времени, эфемерности знания, невозможного в отношении вещей, проносящихся мимо и уносимых потоком времени, – здесь невольно приходят на память читателю строки Уолтера Пэйтера из послесловия к «Ренессансу», где возникает впервые образ сознания как потока и нового искусства, способного регистрировать его, успевать за ним. Текст рассказа напоминает здесь странным образом описание футуристического полотна, скажем, Уиндхэма Льюиса: мелькают в быстрой смене образы метро, поезда, развевающихся волос и даже пневматической почты.
Однако образ потока мгновенно сменяется мечтой о будущей жизни, в которую родимся мы после смерти, где вещи не будут иметь имен и названий, где будут царить живые, мерцающие, не заключенные еще словами в оболочку вещей ритмы света и тьмы, о мире, прообразом которого неожиданно и становится безымянное темное пятно на каминной полке. Из футуристического полотна мы попадаем в царство чистых форм, в полотно раннего Кандинского.
Героиня понимает, конечно, что загадка пятна чисто мнимая, что достаточно подняться с кресла и подойти к стене, чтобы фантазии ее рассеялись, но этого-то как раз она и не хочет делать. Она понимает, что, фантазируя, создает свой собственный мир – мир, где она вольна отдаться грезам, мир, скроенный по ее мерке, мир, где она может ненавязчиво и незаметно для себя, пользуясь глазами чужого, любоваться собой, мир тонкого нарциссизма, волшебного зеркала, показывающего окружающее в лестном для нее свете. Этот мир, рассуждает она, и является подлинной действительностью, предметом, достойным искусства. Это мир «незаконной свободы», который предстает в ее воображении как некое женское царство, противостоящее мужской действительности, где царят язык и рождаемая им иерархия, где царят слова и табель о рангах, действительности, которая окажется рано или поздно, верит она, разоблачена и осмеяна.
Фантазии, рожденные пятном, приобретают окраску все более мрачную, все явственнее звучат в них ноты тревоги, все навязчивее мотивы смерти. Но именно они и нужны ей, именно они и составляют для нее ценность. Она понимает, что отказ от действия столкнет ее рано или поздно с действительностью, что именно действие может положить конец болезненным и тревожным мыслям, но именно поэтому и достойно оно презрения. Только пятно дает реальную точку опоры, только оно дает чувство реальности, превращающее выстроенную мужчинами словесную иерархию в бесплотные тени. В фантазиях, овладевающих героиней, она становится деревом, рекой, полем, дыханием самой материи. Именно здесь поток сознания ее более всего напоминает Джойса, последний монолог Марион из «Улисса».
Явление мужа кладет монологу конец. Собираясь купить газету, тот жалуется на отсутствие новостей, на то, что ничего не происходит, и недоумевает, откуда на стене могла появиться улитка, snail. Загадка разгадана. Поток иссякает. Рассказ окончен.
Как видим, поток сознания запускается здесь оставленным на стене следом или пятном, прекращаясь с его исчезновением. Субъект повествования до появления пятна – это субъект знания. Для всего, что в поле его знания попадает, у него есть наготове имена. Сами фантазии его стереотипны и «автоматичны». Перед нами «automaton» Лакана – то, что называет героиня мужским миром, миром, который выстроен означающим. Субъект исключен из этого мира, он «минус единица», он тождественен самому полю восприятия, рамке, в которой воспринимаемые предметы размещены. Появление пятна – лакановское тюхе, судьба, вторжение Реального – меняет положение дел: в поле восприятия обнаруживается неизвестный предмет. Но дело, конечно, не в этом, а в том, что героиня отказывается от попыток этот предмет познать, дать ему имя, ввести его в мир. Предмет этот становится поводом, отправной точкой ее фантазий, краеугольным камнем иного мира, подчиненного принципу вожделения, наслаждения. Именно он, таким образом, освободил в поле сознания, поле Другого, говоря языком Лакана, место для самого субъекта. Ведь субъект бессознательного у Лакана – это собственно и есть субъект наслаждения, того избыточного наслаждения, которое в мир Другого, мир означающего, не вписано. Теперь в результате отказа от познания у наслаждения этого появилось в сознании, в потоке сознания, свое место. Вмешательство Другого в лице мужа героини вновь закрывает этот просвет, вновь выводит наслаждение из мира и тем самым опустошает, обессмысливает его, откуда и завершающий рассказ мотив скуки, возвращения к прежнему, монотонному и лишенному смысла существованию. Просвет в бытие субъекта оказывается закрыт. Жизненный сюжет, на минуту прерванный, продолжается.
Но, как мы видели, отказ от действия, от познания, ведет в рассказе к появлению, обнаружению нового знания, знания о субъекте. Ведь фантазии, открытые появлением пятна, суть не что иное, как проекции ее опасений, страхов, желаний. Более того, именно этот род знания оказывается социально, общественно плодотворным – ведь именно здесь рождается на наших глазах, словно на ощупь, теория нового искусства, одним из пионеров которого и стала впоследствии автор рассказа, рождаются мысли, которые легли впоследствии в основу современного феминизма, у истоков которого стояло, в частности, ее творчество (эссе Вулф «A Room of My Own», было одним из знаковых текстов феминистической литературы), рождается интуитивное противопоставление мужского и женского желания, концептуальное оформление которого стало десятилетия спустя заслугой Лакана.
Важна оказывается не только воображаемая, но и символическая составляющая пятна. Поле на месте пятна можно условно обозначить знаком вопроса – что это такое? Отказываясь на этот вопрос отвечать, оставляя вопросительный знак на месте, мы наделяем вопрос другим смыслом. Вопрос становится совсем иным – что, собственно, отказывается героиня видеть? Уловка рассказа, его conceit, состоит, на первый взгляд, в своего рода эпифании, совпадении Реального и Символического: реальность сама подсказывает героине ответ. Улитка, закрывающая место субъекта в качестве интерпретации, является традиционным символом луны, то есть женского начала по преимуществу, лени, то есть отказа от действия, лабиринта, то есть нескончаемого круга вопросов и поисков, и, наконец, беременности, которую напрасно – «ничего не происходит» – может ожидать героиня.
Однако на самом деле происходит, скорее всего, прямо обратное. Героиня, с самого начала догадываясь, что перед нею улитка, snail, вытесняет первую букву, s, вычеркивает ее, получая nail, гвоздь: как раз это слово и приходит поначалу ей в голову. Именно символическое содержание, которым нагружена для героини реальность, будучи неприемлемо для нее, и заставляет ее эту реальность вытеснить. И здесь перед нами уже действительно счастливое совпадение, эпифания, как называл его Джойс: ведь именно перечеркнутое s (s/), является у Лакана знаком раздвоенного субъекта. Слово s/nail и представляет собой краткую формулу рассказа. Когда героиня узнаёт, что перед нею улитка, s всплывает на поверхность и субъект, этот просвет бытия, захлопывается. Цель поражена. Жизнь продолжается своим чередом.
Субъект сознания, таким образом, возникает у Вулф в потоке сознания там, где происходит отказ от символизации, где замкнутый мир Другого размыкается, позволяя наслаждению проникнуть в образовавшуюся таким способом щель и дать жизнь противостоящим этому миру и не укладывающимся в его схемы фантазиям.
Совсем иначе входит субъект в поток сознания у второго нашего автора, Джеймса Джойса. Посмотрим на характерный отрывок из первого эпизода «Улисса», где мы застаем молодого героя романа Стивена размышляющим в одиночестве на берегу моря. Любуясь приливом в открывающейся ему морской заводи Cock lake, он описывает это зрелище роскошной, ритмичной, поэтической прозой: «In long lassoes from the Cock lake the water flowed full, covering greengoldenly lagoons of sand, rising, flowing. My ashplant will float away. I shall wait. No, they will pass on, passing chafing along the low rocks, swirling, passing. Better get this job over quick. Listen: a fourworded wavespeech: seesoo, hrss, rsseeiss, ooos. Vehement breath of waters amid seasnakes, rearing horses, rocks. In cups of rocks it slops: flop, slop, slap: bounded in barrels. And, spent, its speech ceases. It flows purling, widely flowing, floating foampool, flower unfurling»[74]74
Длинными упругими петлями струился поток из озера Кок, зелено-золотистым заполняя песчаные лагуны, набирая силу, струясь. Этак тросточка моя уплывет. Подожду. Нет, минует, ударяясь в низкие скалы, завиваясь в воронки, минуя. Давай лучше побыстрей с этим делом. Слушай: четырехсловная речь волн – сиссс суссс пыссс фсс. Ярое дыхание вод средь морских змеев, вздыбленных коней, скал. Они плещутся в чашах скал: плеск – плям – плен: пленены в бочках. И, иссякая, речь их стихает. Они льются, журча, широко разливаясь, неся гроздья пены, распускающиеся цветы (англ.). Перевод С. Хоружего и В. Хинкиса.
[Закрыть]. Однако по отрывочным мыслям (вроде «Давай лучше побыстрей с этим делом») читатель может заподозрить, что одновременно происходит что-то еще. Что именно, подсказывает ему название лагуны, означающее в английском просторечии пенис. Не исключено, что Стивен мочится, а описание прилива относится не к прибывающей в лагуне воде, а к луже, которую наш герой только что сделал сам. Беда в том, однако, что иначе нежели через речь Стивена доступа к происходящему у нас нет. Как понять эту маленькую поэму в прозе? Дело ведь действительно происходит, как явствует из контекста, на берегу упомянутой лагуны во время прилива, так что описание может относиться и к нему. Мы знаем одно – в тексте налицо отрывок, способный направить воображение читателя по нескольким путям сразу. Мы можем представить себе прилив, или справляющего малую нужду Стивена, или, наконец, то и другое вместе, происходящими одновременно. Что мы не можем себе представить, так это что именно думал Стивен, так как в трех случаях этих состояние его предстает нам в совершенно различном свете. Серьезный в первом случае, ироничный во втором, в третьем Стивен скорее становится альтер-эго самого автора, виртуозным художником слова. Так или иначе, отрывок этот, взятый из потока сознания, приобретает неожиданную непрозрачность, он не столько демонстрирует сознание героя, сколько скрывает его. Чем внимательнее мы текст читаем, чем больше смыслов способны мы в нем расслышать, тем меньше, в сущности, герой его нам понятен. Создается впечатление, что первичным в данном случае является не впечатление, отраженное во внутренней речи, а, напротив, речь, порождающая одновременно две разные, хотя и совместимые в данном случае картины реальности. Здесь-то и возникает в пресловутом потоке тот водоворот, тот вопросительный знак, то темное пятно, за которым скрывается наш субъект. Наслаждение находит себе в данном случае иной путь. Для того чтобы заявить о себе, субъект не берет уже повод в реальности, не ищет в ней темных пятен. Таким пятном становится здесь само описание, витающее между двумя предметами, двумя различными референтами, и зависающее между ними как безответственный и непрозрачный момент чистого наслаждения, как purple patch, пурпурная заплатка на ткани повествования.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































