Текст книги "Приглашение к Реальному"
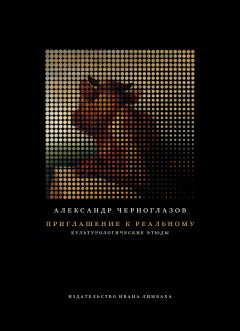
Автор книги: Александр Черноглазов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Фигура Стивена во многом автобиографическая и проходит через многие произведения Джойса. Не удивительно, что и в данном случае сознание Стивена оказывается верным слепком сознания самого автора. В романе «Портрет художника в юности» герой-автор, рассказывая о переживаниях, связанных с выбором жизненного пути, вспоминает бессмысленную вне контекста строку из кардинала Ньюмена (недаром говорит он о ней на языке музыки, называя каденцией), в которой сконденсирована оказалась «бесконечная и бесформенная прелюдия», «музыка эльфов», звучавшая в его воображении: «Whose feet are as the feet of harts and underneath the everlasting arms»[75]75
Чьи ноги подобны ногам оленя, и вечные длани простерты под ними (англ.). Перевод С. Хоружего.
[Закрыть]. Фантазия Стивена-Джойса – это именно словесная фантазия: это она первична, это из нее рождаются образы. Недаром целые параграфы текста переходили из одного произведения Джойса в другое, сохраняя неизменную словесную форму, но совершено меняя смысл. Так, отрывок из «Джакомо Джойса»: «Она откинулась на подушки у стены, похожая на одалиску в роскошно-чувственном полумраке. Ее глаза впитывали мои мысли, и во влажный, теплый, манящий и податливый полумрак ее женственности душа моя, растворяясь, излила поток жидкого и изобильного семени. Пусть берет ее теперь, кто хочет!» – трудно истолковать в этом фрагменте иначе как описание любовного акта. Но есть оно, почти буквально повторенное, и в «Портрете», где излияние это оказывается не чем иным, как сочиненным юношей любовным стихотворением: «в девической утробе воображения слова становились плотью». Семя оказывается здесь словом, семенным логосом стоиков и вслед за ними христианских богословов Востока. Имеет ли смысл спрашивать, что означает этот отрывок на самом деле? Разумеется, нет. Ибо именно он первичен по отношению к представлению, именно его темнота и позволяет воображению вплетать один и тот же отрывок в самую различную ткань. Тот же смысл имеет и известный анекдот из жизни самого Джойса, гласящий, что он заказал для своего кабинета пейзаж города Cork, сделанный из пробкового дерева (cork), так что на вопрос посетителя: «Что это?» – он мог ответить со спокойной совестью: «Cork», даже не спрашивая гостя, что тот, собственно, имеет в виду, – чтобы акт коммуникации состоялся, в понимании здесь нужды нет, как нет нужды в понимании и в психоаналитическом акте.
Подлежа каждый раз интерпретации, темные места эти, эти сгустки наслаждения, не имеющие определенного референта, на самом деле, конечно, интерпретации не допускают. Перед нами скорее то, что Лакан называл «означающим перечеркнутого А», место «наслаждения, непрозрачного в силу исключения смысла»[76]76
Lacan J. Joyce le Symptôme II // Joyce avec Lacan. Paris, 1987. P. 36.
[Закрыть]. Этот тип письма, утверждал Лакан, представляет собой в литературе переломный момент, «литература не может больше после него (Джойса. – А. Ч.) оставаться такой, какой была она прежде»[77]77
Lacan J. Joyce le Symptôme I // Ibid. P. 27.
[Закрыть], так как он «взял мечту за горло»[78]78
Lacan J. Joyce le Symptôme II // Ibid. P. 36.
[Закрыть], – не текст у него служит воображению, а, напротив, воображение становится служанкой текста. В полной мере это проявляется, конечно, в «Поминках по Финнегану», где письмо автора опирается, как отмечает Лакан, на «нечто, для системы языка несущественное, на то, что вплетается в него исторической случайностью»[79]79
Lacan J. Joyce le Symptôme I // Ibid. P. 26.
[Закрыть], то есть на орфографию, на букву, на самое тело письма. Джойс не описывает картину, предносящуюся в его воображении, мечте, сновидении наяву, в котором мы затем ищем оговорки, двусмысленности и другие симптоматические элементы, требующие интерпретации и позволяющие высказать суждение о скрытой в них бессознательной речи. У него элементы эти первичны – он не автор повествования, а автор симптома, из которого уже наше воображение это повествование развертывает. «Если это и значит что-то, – говорит Лакан о текстах Джойса в Семинаре XX, – то лишь в качестве ляпсуса, оговорки: потому и можно их прочитать тысячью разных способов»[80]80
Лакан Ж. Семинары. Книга 20. М., 2011. С. 46.
[Закрыть]. Это и дало Лакану основания говорить о Джойсе как симптоме, о том, что Эго Джойса и было, собственно, его симптомом. Именно поэтому Джойса невозможно анализировать. Имени Отца, того, что Лакан называет точкой пристежки, авторитетной позиции, позволяющей выбирать между интерпретациями, к которым его тексты подают повод, в них нет. Стержнем личности автора является не символическая система, а наслаждение симптоматического письма. «Писать после Джойса значит отдавать себе в этом отчет. Только это наслаждение и приносит нам пробуждение»[81]81
Lacan J. Joyce le Symptôme II // Joyce avec Lacan. P. 36.
[Закрыть]. Если анализ, пытаясь своими интерпретациями достичь такого же результата, прибегает к уловкам, связанным с отцовским мифом, то Джойс прекрасно обходится без него. В процессе письма его Я как раз и оказывается, согласно завету Фрейда, там, где было Оно, на месте симптома. Непрозрачное письмо становится привилегированным местом самого субъекта.
В заключение хочется обратиться к еще одному автору, о котором можно с полным правом сказать, что он писал после Джойса – не просто хронологически, но в той новой ситуации, сложившейся после него в литературе. Я говорю о Сэмюэле Беккете, который был связан с Джойсом как личной дружбой, так и узами литературного ученичества и сотрудничества – ему принадлежит авторство некоторых отрывков из «Поминок по Финнегану», а также первая попытка частичного перевода этого текста на французский язык. Среди последних опубликованных Беккетом прозаических текстов есть французский отрывок, известный под названием «Bing», переведенный автором на английский как «Ping». Отрывок этот (наряду с окончательным текстом было опубликовано десять черновых его вариантов) представляет собой внутренний монолог, своего рода поток сознания, неподвижного и немого, с зашитым ртом, бледного, теряющего ногти и волосы существа, заточенного в соответствующий его росту белый куб. Фразы монолога состоят из не связанных между собой, синтаксически отрывочных слов, а длина их определяется лишь ритмом дыхания. Предложения назывные, глаголы в них полностью отсутствуют. Существо бесстрастно перечисляет и называет все, что видит вокруг, что регистрирует его сознание. Порой, однако, по неизвестно откуда звучащей команде «оп» («hop»), положение его меняется, хотя окружающая картина, в силу однородности пространства, в которое он заключен, остается прежней, так что он, собственно, и не знает, действительно ли изменение произошло. Сознание существа регистрирует на стенах следы, разрозненные, в виде пятен, «как от раздавленного яйца», или лакун-пробелов («white»). Пятна эти «ничего не значат», «без смысла». Во всем, что оно слышит и наблюдает, ему чудится «может быть, смысл» или «может быть, голос», «может быть, естество», чудится, что он «может быть, не один», «может быть, выход». Время от времени в текст врывается другое загадочное слово, «динь» («ping»), имитирующее звонок или иной похожий на него механический звук. За словом этим в сознании существа как раз и появляются своего рода галлюцинации, но такие краткие, что в действительности их он не может удостовериться, – шепоты и, дважды, видение глаза, с длинными ресницами, умоляющего, но в то же время тусклого, мутного. Всплывает и слово «память», намекающее, что все это может возникать не в действительности, которая ему «вся известна», а в памяти, скрывающей в себе страдания, шрамы от которых, зарубцевавшиеся и почти незаметные, «белое на белом», отмечает он у себя на теле. Вспышки эти со временем становятся все короче, и к концу рассказа воцаряется тишина: «динь молчание оп кончено» («bing silence hop achevé»).
Загадкой рассказа, его интригой является, разумеется, вторгающееся в повествование, прерывающее его «динь» – в английском переводе оно вытесняет «оп» и остается одно. В первых, черновых версиях, описание существа и места ведется от первого лица. Это, по сути дела, еще не поток сознания, это типичная для позднего Беккета небольшая пьеса, где персонажи немы, а текст представляет собой развернутую авторскую ремарку. «Динь» появляется только в четвертой версии. В первой наряду со статичным описанием фигурируют два движения: быстрые и внезапные перемещения (о которых в дальнейшем сигнализировал «оп») – скажем, из одной пустой ниши в другую, от нее неотличимую, так что факт перемещения весьма сомнителен, и спонтанные слабые эрекции – они-то, исчезнув из дальнейших версий, и были замещены вспышками видений-воспоминаний, связанных с «динь». Постепенно, от версии к версии позиция повествователя сдвигается от внешней к внутренней, превращаясь наконец во внутренний монолог, хотя четких границ провести нельзя, так как личные местоимения в тексте отсутствуют. Что касается «динь», то оно как раз зависает в неопределенности между миром автора и сознанием героя – были даже критики, считавшие его звуком каретки пишущей машинки Беккета, автоматически им регистрировавшимся на письме – каждый откат каретки странным образом отзывается во внутреннем мире героя, хотя никак не принадлежит к нему, оставаясь ему целиком трансцендентным. Если же слово это действительно, как мы предположили, заменило в позднейших редакциях упоминание об эрекции, то перед нами своего рода фаллическое означающее, означающее желания субъекта, остающееся для него бессмысленным. Но именно его появление провоцирует героя на поиски Другого, который один может дать ему то, что он взыскует, наделить происходящее смыслом. Герой Беккета, реагирующий на пятна и звуки, никак не реагирует на «динь» и «оп» сами по себе, как если бы они не принадлежали внешнему миру, а исходили непроизвольно – спонтанно, как эрекция в первой версии, – от него самого. Как бы то ни было, но загадка эта, это пятно бессмыслицы, как раз и оказывается тем местом, где возникают фантазии героя, где реальность его мира колеблется, где рождается у него тень надежды. Более того, принадлежа, как мы сказали, не только миру героя, но и, возможно, миру самого автора, она становится для Беккета своего рода точкой пристежки – точкой, где мир его фантазии, мир рассказа и его персонажа, скрепляется с миром его собственным, с физическим процессом письма. Начав описывать мир от своего лица, автор постепенно ушел из него, оставив там, однако, своего вполне реального представителя, то ядро, ту свалившуюся с неба Каабу, вокруг которого субъективность героя оказывается кристаллизована. В потоке сознания лежит камень из совсем иного, трансцендентного мира, чисто физический, не несущий в себе ни малейшего смысла звук, но именно он становится в мире текста тем, вокруг чего образуется водоворот возможного смысла, фиговым листом, скрывающим за собой фаллическое означающее. В реальном мире такая ситуация, разумеется, невозможна – если не допустить, конечно, существования мира иного, нам полностью трансцендентного. Именно с такой возможностью и играет здесь, впрочем, как всегда, Беккет, чьи тексты всегда полны религиозных аллюзий, хотя иллюзий, напротив, полностью лишены.
У всех трех авторов, где сюжет совпадает с потоком сознания, субъект, как видим, так или иначе вторгается в него, его прерывает. Вторгается в виде построенной на вытеснении фантазма, как у Вулф; непрозрачного симптоматического пятна, у Джойса; трансцендентного и чужеродного психической реальности явления, связывающего мир героя с авторским миром, у Беккета. Напрашивается тем самым мысль о возможности распределить эпифанию субъекта в потоке сознания по трем регистрам, которые симптом, согласно Лакану, друг с другом связывает: Воображаемому (у Вулф), Символическому (у Джойса) и Реальному (у Беккета) – памятуя при этом, что Реальное для Лакана это, конечно же, невозможное, хотя невозможное в жизни вполне, как мы убедились, возможно в тексте.
Несколько слов о прощении в лакановской перспективе
Жак Лакан не говорит о прощении, пожалуй, ни разу. И не случайно. Дело в том, что заповедь любви к ближнему как к самому себе он, вслед за Фрейдом, почитал заведомо невыполнимой. Невыполнимой хотя бы уже потому, что невозможна, в его понимании, любовь к себе. Невозможна, так как отношения человека к себе, как и к ближнему, изначально построены на агрессии. Агрессия эта в системе отношений, называемых им дуальными и принадлежащих к регистру Воображаемого, неизбывна и преодолевается лишь с введением в отношения между людьми третьей, символической инстанции. Собственно, лишь с появлением этой последней и возникает коррелятивный ей человеческий субъект, субъект бессознательного. Прощение, конечно, представляет собой символический акт, оно предполагает наличие символической системы, закона в той или иной форме. Как таковое оно тоже регулирует отношения человека к ближнему. Но если мы вслед за о. Василиосом Термосом[82]82
См.: О. Василиос Термос Кризис желания. Размышления о точках пересечения психоанализа Жака Лакана со святоотеческим Богословием // Московский психотерапевтический журнал. 2002. № 4. См. также выше эссе «Граф желания».
[Закрыть] говорим об онтологии прощения, то это значит, что этой регулирующей функцией значение прощения не исчерпывается, что оно влечет за собой принципиальную перестройку отношений субъекта не только с тем, что Лакан обозначает строчной буквой а, то есть с миром себе подобных, но и с тем, что обозначает он А заглавным, с местом закона, с регистром Символического. И уже она, эта структурная перестройка, влечет за собой и сдвиги на ином, воображаемом уровне. Чтобы проследить, как это происходит, я предлагаю обратиться к литературному эпизоду, русскому читателю хорошо известному, – эпизоду из последней части «Войны и мира».
Идя в колонне пленных, Пьер обращает внимание на солдата по имени Платон Каратаев, личность которого произвела на него необыкновенное впечатление. Однажды, на ночном привале, приблизившись к костру, он застал там Платона, который рассказывал солдатам «знакомую Пьеру историю». Историю эту он слышал уже не впервые: «Каратаев шесть раз ему одному рассказывал эту историю и всегда с особенным радостным чувством». Очевидно, он многократно рассказывал ее и другим, испытывая каждый раз радостное, восторженное чувство. Более того, «тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру». История эта, объясняет Толстой, «была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившим с семьей и поехавшим однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью. Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож был найден под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом и, выдернув ноздри <…> сослали в каторгу». Лет десять спустя каторжные разговорились у костра и «зашел у них разговор, кто за что страдает, в чем Богу виноват. Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? – Я, братцы мои миленькие, за свои, да за людские грехи страдаю. <…> И рассказал им, значит, как все было дело по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, Бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так-то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, что купца убил. <…> Заболело у него сердце. Подходит таким манером старичку – хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. <…> Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа. <…> Старичок и говорит: Бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, Богу грешны. Я за свои грехи страдаю». В этом месте рассказа Каратаев начинает говорить «все светлее и светлее, сияя восторженной улыбкой, <…> как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа». Убийца винится по начальству, посылают бумагу, дело доходит до Государя. «Пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награжденья, стали старичка разыскивать. <…> А его уж Бог простил – помер. <…> – закончил Каратаев и долго, молча, улыбаясь, смотрел перед собой».
История эта не из веселых, но рассказчик буквально одержим ею и испытывает, рассказывая ее, глубокую радость. Более того, «не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера». Именно с этой истории началась в душе Пьера бессознательная («ему казалось, что он ни о чем не думает»), но радикальная внутренняя перестройка («но далеко и глубоко где-то что-то важное думала его душа. Это что-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым»). Перестройка, освободившая его для новой любви – любви к Наташе Ростовой. Не случайно в одной из первых же своих бесед с ней он пересказывает ей историю Каратаева, видя «как будто новое значение во всем том, что он пережил» и испытывая при этом «редкое наслаждение».
Что движет Каратаевым, когда он без конца, сам не зная, зачем, рассказывает эту историю тем же собеседникам вновь и вновь? Почему доставляет она такую радость? Почему радость эта передается Пьеру, хотя смысл истории ему непонятен, – передается вместе со стремлением эту историю пересказывать, стремлением, не чужд которому оказался и сам донесший до нас ее автор, не говоря уже об авторе этой статьи, с трудом удержавшемся от желания привести ее полностью? Почему рассказ о гибели хорошего человека, безвинно теряющего жизнь, имя, семью и сгинувшего на каторге без следа наполняет рассказчиков и слушателей такой радостью – вспомним, что именно в конце его, при упоминании гибели старика, испытывает Каратаев особое просветление и восторг.
Перед нами история о прощении – именно в нем главное ее содержание. Чем это прощение мотивировано? Дело не в особенной любви купца к убийце – прощает он потому, что считает себя в долгу перед Богом и страдает за свои собственные грехи. Говоря, что руками убийцы его «сыскал Бог» – нашел, как находит преступника полицейский сыщик, – купец переводит свои отношения из регистра Воображаемого в регистр Символического. Посредником между людьми, организующим их взаимоотношения, выступает в самом широком смысле Закон, представляющий собой регистр Символического. Но отношения, которые он регулирует, суть отношения между себе подобными, маленькими а, связанными между собой воображаемой, зеркальной зависимостью. Сколь бы глубоко вмешательство Закона в эти отношения ни было, они остаются отношениями воображаемыми, в них сохраняется неустранимый, обусловленный нарциссической подоплекой, источник агрессии. Запишем условно схему таких отношений как а – (А) – а’. А не играет в таких отношениях самостоятельной роли, это всего лишь посредник, и притом посредник безличный, мертвый, несмотря на вполне реальное воплощение свое в сонме фигур, олицетворяющих в обществе правосудие. Что касается субъекта, то ему и вовсе в этой схеме нет места – он мертв в ней, как мертв в ней закон. В чем состоит акт прощения? Купец, испытывающий чувство вины, то есть, говоря языком христианства, знающий свою греховность, не проявляет по отношению к ближнему агрессии, не требует расплаты в воображаемом плане, а использует долги ближнего перед ним как вексель в уплате собственного символического долга Другому. Это именно символический акт, ибо дает он то, чего у него нет, чего он фактически уже лишился. Заметим, что делая это, он следует притче, которую находим мы в 16-й главе Евангелия от Луки: «Один человек был богат и имел управителя, на которого ему донесено было, что расточает имение его; и призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем. Ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: знаю, что сделать. Чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. Он сказал: возьми твою расписку и садись, скорее напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми свою расписку и напиши: восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». С уменьшением долга должников перед ним как перед управителем уменьшается и долг управителя перед господином. Прощая грабителю преступление, купец принимает его последствия как уплату собственного символического долга. Разрушенная жизнь, разорение, каторга, дети, оставшиеся сиротами, безутешная жена – все это благодаря прощению стало из повода для отчаяния источником радости, символической ценой, уплаченной за примирение с Другим, выступающим уже не как мертвый Закон, а как личное, живое начало. Другой из посредника становится собеседником, символическим партнером, а посредником, наоборот, выступает располагающийся в регистре воображаемого убийца, а’. Это будет соответствовать перестановке на нашей схеме: а – (а’) – А. Воображаемый партнер выступает в ней как посредник в отношениях с партнером символическим. Но это уже не безличное и мертвое место закона, не бог философов и ученых, а живой Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Именно к Нему обращается купец и отношения его к ближнему, в данном случае к убийце его товарища, служат символическому урегулированию их отношений. Другими словами, схему можно было бы переписать в виде S/ – (а – а’) – А, где отношения между людьми возводятся в символическое достоинство, служат установлению символических отношений субъекта с Другим. Что вполне соответствует духу евангельских текстов, где поступки, совершенные по отношению к ближнему, ставят человека в прямые отношения с Богом. И дело здесь не в каком-то мистическом присутствии Бога в ближнем, и в том как раз, что отношения к ближнему символически соотносят нас с Ним, – не случайно просим мы о прощение и даем его «ради Христа».
Но остается другой вопрос, не менее интересный, вопрос о впечатлении, которое рассказ этот производит на слушателя и самого рассказчика. Вспомним, что «главная прелесть и значение рассказа» заключалась для Каратаева в его окончании – в моменте, когда уже восторжествовавшая было справедливость старика-купца просто-напросто не находит. Кульминация радости связана не с торжеством справедливости, а, напротив, с моментом, когда она попрана, когда она оказывается бессильна и, собственно говоря, не нужна. Если мы будем рассматривать эту навязчиво повторяемую историю как своего рода сновидение, как осуществление бессознательного желания рассказчика, то в чем это желание состоит, почему для осуществления его необходима гибель главного персонажа, его исчезновение? Потому, очевидно, что в этом случае, в случае, когда символическая жертва носит радикальный характер и обнимает собой самою жизнь персонажа, наслаждение, которое мы испытываем, не будет замаскирована, смешана с радостью сочувствия ему как человека, как а, как нам подобному. Такое сочувствие мы, безусловно, испытываем, но радость, о которой идет речь, существует вопреки ему, затмевая его и обнаруживая, особенно здесь, с рассказом о гибели героя истории, некое откровенное, несдержанное бесстыдство. Возникает парадоксальная ситуация, когда горе ближнего вызывает у нас не сочувствие, а нескрываемое наслаждение. Это и есть, собственно, то самое, что называет Лакан plus-de-jouir, наслаждением одновременно избыточным и избытым, отвергнутым, определяя его, скажем, в Семинаре X как «функцию отказа от jouissance». «В симптоме, – говорит он далее (а перед нами здесь явно симптоматическое образование), – мы имеем дело с движением субъекта вокруг того, что мы называем прибавочным наслаждением, но что сам он назвать не способен»[83]83
Lacan J. Le Séminaire, livre XVI. Paris, 2006. P. 21.
[Закрыть]. Но проявляется оно отнюдь не в плане истории как таковой, не в плане повествования, в том, что Лакан называет énoncé, а в акте ее воспроизведения и выслушивания, énonciation. Прощение, данное стариком-купцом, не получающим в рассказе никакой видимой награды, а, напротив, уходящим из жизни, доставляет прибавочное наслаждение нам, воспроизводящим бессознательно совершенную им работу отказа, работу символизации, труд символического богообщения, символической жертвы. Невидимое в плане повествования становится видимым в плане акта высказывания, приносит свой плод в рассказчиках и слушателях. Наша реакция на рассказ, испытываемая нами радость и проливает свет на то, что в рассказе скрыто. В ней-то, а вовсе не в самой истории и заключается отсутствующий в рассказе Каратаева счастливый конец. Счастливый, в частности, для героев романа – для самого Каратаева, сумевшего смиренно принять неминуемую для него смерть, и для Пьера, избавившегося от груза ложного Я с его бременем целевых установок и освободившего свое желание для новой любви. Но счастье не венчает подвиг, оно предшествует ему, и подвиг Пьера, насколько знаем мы о замыслах Толстого, ждет его впереди.
Прощение, таким образом, выступает в нашей истории как символический акт, устанавливающий, ценой отказа от обладания/наслаждения, символические отношения с Другим. Субъект, чье желание составляет внутреннюю пружину отказа, остается скрытым, выступая на поверхность лишь вне события, в повествовании о нем, в виде того, что описывает Лакан как «провалы, превращающиеся у меня в (а), читай: объект маленькое а, а точнее: то, что отброшено, что окажется высказано лишь когда я умру, когда меня наконец услышат, а еще точнее: первопричин(а) его желания»[84]84
Lacan J. …ou pire. Scilicet. № 5. P. 8.
[Закрыть]. Радость, которую испытываем мы при слушании и рассказе оказывается отражением, откликом – а тем самым и живым свидетельством – совершаемого в акте прощения ближнему примирения с Богом.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































