Текст книги "Приглашение к Реальному"
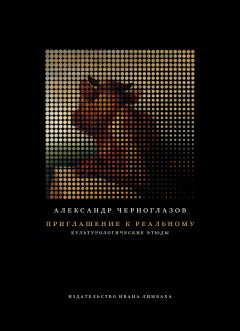
Автор книги: Александр Черноглазов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Кровь и дыхание
«Жизнь, – пишет старец Иосиф своей духовной дочери, – не такова, как в древние времена». Почему? Да потому, объясняет он, что нет в людях «попечения о внутренней части души, где соединяется вещественное с невещественным, человек с Богом».
Но дело это не простое, предупреждает старец. И не просто трудное, но страшное: «Ум человеческий сильно ужасается, лишь только услышит об этом».
И далее, объясняя, почему дело это так страшно, он пишет, что в подвиге этом «тело должно источить кровь»[56]56
Старец Иосиф. Выражение монашеского опыта. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006. С. 204. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием номера страницы в скобках.
[Закрыть].
Поначалу это кажется риторической фигурой: о всяком трудном деле мы говорим, что в нем должно быть пролито немало крови и пота. Но тут же выясняется, что старец куда более конкретен, что он имеет в виду нечто куда более определенное и действительно страшное: в подвиге поста и бдения у тела «отнимается материнская кровь».
И это не случайная оговорка и не образное выражение: ведь в этом послании он повторяет его несколько раз. «Нужен строжайший пост, чтобы ушла материнская кровь, чтобы очистилась слизь – эта нечистота», – пишет он (205) и говорит дальше о борьбе с бесом блуда, этой «естественной страсти».
Вот чему ужасается человеческий ум: ведь кровь – это мы сами: синоним жизни как таковой. Источить кровь – значит источить саму жизнь. Важно, однако, что для старца это именно материнская кровь и победа над страстями возможна лишь ценою ее изгнания. Необходимо «обновить смешение» (205), по выражению старца. Отнесемся к этому выражению серьезно: старец не ритор, и все, что он говорит, имеет прямой и конкретный смысл. Кровосмешение понимается им не как плотский грех, совершенный с матерью: кровосмешением является сама наша жизнь, поскольку в жилах наших течет материнская кровь: грех и преступление у нас в крови. Невольно вспоминаются слова из знаменитой проповеди «Поединок со смертью» английского поэта и священника Джона Донна: «В материнской утробе, лишенные света, приучены мы к делам тьмы, и там, в утробе, научены мы жестокости, питаясь кровью, и осуждены проклятию, еще не родившись»[57]57
См. с. 31 наст. изд.
[Закрыть].
Тема кровосмешения наводит нас, разумеется, на столь популярную в XX веке тему Эдипа. Лакан, в своих семинарах серьезно ее исследовавший, пришел к парадоксальной формуле: нет сексуальных отношений – помимо инцеста. Иными словами, любая сексуальность так или иначе инцестуальна. Объяснял он это, в частности, ссылаясь на то, что мы никогда не оказываемся полностью отделены от матери, что отдельные «элементы» ее так и остаются с нами – они наши и в то же время не наши, они не входят в наш «образ я» и потому, по его выражению, «не отражаются в зеркале», оставаясь при этом едва ли не самым интимным нашим достоянием. Эти элементы, или объекты, он называл «экстимными», или еще «объектами а». К ним он причислял материнскую грудь, голос, взгляд, экскременты. Именно их бессознательно человек и желает: они становятся своего рода каналами или, обыгрывая выражение Канта, «трансцендентальными схемами» его желания. Поскольку сами они утрачены, Лакан настаивал на том, что они являются не предметами желания, а его причинами: мы желаем не их, но без образованной их исчезновением пустоты желание невозможно.
Как раз таким «экстимным» объектом и является, похоже, для старца материнская кровь. Выступая причиной тех блудных помыслов, с которыми он ведет брань, она неизбежно сообщает им инцестуальный характер. Как и у Лакана, родительный падеж в выражении «желание матери» получает одновременно объектный и субъектный смысл: он желает матери, но и мать одновременно желает в нем: не только свое, но и ее желание предстоит ему очистить и побороть.
Но там, где заходит речь о победе над желанием матери, неизбежно встает и другая тема – тема примирения с отцом. И она, действительно, у старца сразу же возникает. Если мать находится у него в крови, то связь с отцом воплощена в дыхании. Старец часто возвращается к теме творения человека: «Как совершилось создание человека? Взял Он землю – самое смиренное вещество: нет ничего смиренней земли. Устроил глиняный домик и, дунув в него, создал человеческую душу… Итак, как в четыре стены из брения, вложил Бог божественное дуновение, вложил Свое Дыхание». Дыхание это, пишет он далее в том же послании, «затворено в четырех стенах, как в четырех стихиях… И лишь только разрушатся и упадут стены, голубь сразу летит к Отцу, от Которого произошел» (266–267).
Итак, как в жилах наших течет материнская кровь, так в легких наших заключено Отчее, божественное дыхание. Замкнутому, подспудному, темному, уединяющему нас в эгоистичном желании циклу крови противостоит открытый, единящий нас со всем миром ритм нашего дыхания. Им, этим мостом, соединяющим нас с Отцом, этой «религией», связью по преимуществу, и должны мы воспользоваться, соединив с ритмом дыхания нашу молитву. Подвиг, иными словами, как рисует его здесь старец, состоит в том, чтобы, очищая, изгоняя постом и бдением материнскую кровь, искать духовного, в самом буквальном смысле «несомого дыханием», молитвенного примирения с Отцом. Но если молитва соединена с дыханием, если она и дыхание – одно, то она не может не быть непрерывной. «Как умирает человек, если прервется дыхание, так умирает и душа без непрестанной и всегдашней молитвы, – пишет старец. – Как задыхается младенец, зачинаемый в утробе матери, если она прекратит дышать, подобным образом и в зачатии духовном, если прекратится умное делание» (205).
Интересно, что в этом отрывке сам человек выступает в роли матери по отношению к своей душе, и как мать по плоти питает младенца своей кровью, передавая ему в наследство свое желание, так он питает свою душу, насыщает свое дыхание «умным деланием».
Иными словами, непрерывная молитва для старца – это не «метод» и не «молитвенная техника», о которой так многие любят теперь рассуждать. Другой молитвы просто-напросто нет. Как нельзя дышать от случая к случаю, так нельзя молиться время от времени. Как без непрерывного дыхания невозможна жизнь тела, так без непрерывной молитвы умирает душа. Понятна в этом случае та настойчивость, с которой понуждал старец своих учеников к ежедневным бдениям, спасая их от неминуемой смерти, имя которой – духовная асфиксия.
Казалось бы, фигура матери, связанная воображением с материнской кровью, противостоит у старца фигуре Отца, воплощенного в молитвенном дыхании, как некий темный, первобытный, греховный полюс. На самом деле, однако, это не так. Кровосмешение, казалось бы, неизбывное, оказывается преодолено – преодолено неожиданным для фрейдистов образом. С пресловутым «отъятием», «отведением» материнской крови, о котором говорит старец, мать уже не выступает в роли пресловутого «экстимного» лакановского объекта – она может быть от субъекта отделена. При этом она оказывается уже не предметом инцестуального желания, ушедшего вместе с кровью, а объектом молитвенного поклонения и почитания. В письме семьдесят втором, посвященном постоянной и непрестанной умной молитве, «высшую пристань» этой молитвы, венец ее, старец описывает так: «Заключи в свои объятия икону Пресвятой – как если бы это была живая Пресвятая – как твою мамочку, когда ты была маленькой (курсив мой. – А. Ч.). Говори ей обо всей своей боли, орошая ее своими святыми и чисты-ми слезами, и будешь черпать всегдашнее утешение» (294). «Обнимаешь икону, как живую, и со слезами горячо ее целуешь», – пишет он и в другом, тридцать четвертом письме (161). Икона Пресвятой, продолжает он, «как магнит притягивает меня к себе. И нужно, чтобы я был один. Потому что я хочу часами ее целовать. И какое-то живое дыхание наполняет изнутри мою душу» (161–162).
Итак, как в молитвенном дыхании, этом «вышеестественном действии», человек «не может отделить себя самого, ибо весь соединяется с Богом» (205), так и образ собственной матери сливается для него с образом Пресвятой Богородицы: поцелуй матери сливается для него с лобызанием святыни, а любовь соединяется нераздельно с поклонением и служением. Аскетический подвиг, представляющийся поначалу унижением матери, ее изгнанием, оборачивается на деле ее прославлением – единственным способом преодоления того инцестуального желания, о котором пишет Лакан и которое человек, лишенный духовной жизни, избыть не в силах. А богородичная икона становится образом того идеального материнства, в котором греховное, инцестуальное желание оказывается преодолено.
Червь и жемчужина
Одна из самых известных попыток осмыслить место войны в истории принадлежит Александру Кожеву. Борьба за признание является для него антропогенным фактором – условием, порождающим человека как такового. Человеком в полной мере является тот, кто, по выражению Кожева, «желает желание»[58]58
См. примеч. на с. 59 наст. изд.
[Закрыть], то есть желает не просто того, что удовлетворяет его физиологические потребности, а желает быть желанным, признанным, любимым другим. Он, по другому выражению Кожева, «„питается“ желаниями»[59]59
Кожев А. Очерк феноменологии права // Кожев А. Атеизм. М., 2006. С. 297.
[Закрыть]. «Человек есть действие, – пишет Кожев, – посредством которого он удовлетворяет свое желание желания, и потому как человеческое существо он существует лишь в той мере, в какой он признан: признание одного человека другим составляет само его бытие (как говорил Гегель: „Der Mensch ist Anerkennen“[60]60
Человек есть признание (нем.).
[Закрыть])»[61]61
Кожев А. Очерк феноменологии права. С. 299.
[Закрыть]. «Желание желания может реализоваться лишь в смертельной борьбе во имя признания»[62]62
Там же. С. 300.
[Закрыть]. В борьбе за это признание человек, поскольку он именно человек, способен рискнуть ради него своей биологической жизнью. Этим риском, собственно, и только им, он свою человечность и обнаруживает. Рискнувший, получая признание, становится, в условной терминологии Гегеля, Господином, не способный рискнуть – Рабом[63]63
См.: Феноменология духа, глава «Самостоятельность и несамостоятельность самосознания; господство и рабство».
[Закрыть]. Диалектика взаимоотношений Господина и Раба приводит со временем, полагает Кожев, к формированию Гражданина, субъекта гражданского общества, который является отчасти рабом, отчасти же господином, отчасти тружеником и отчасти воином. С надеждой на становление в истории Гражданина и связан оптимизм Кожева, его вера в конец истории. Но оптимизм этот умеренный и весьма сомнительный: конец истории может оказаться концом человека как такового – ведь с исчезновением борьбы за признание антропогенный фактор перестает действовать. Не случайно называл Кожев эту чисто гипотетическую, постисторическую эпоху «животным царством».
Весьма сходный пессимистический взгляд на будущее находим мы, кстати говоря, и у Фрейда. «С незапамятных времен, – пишет он в известном письме Альберту Эйнштейну, – человечество включилось в процесс культурного развития. (Я знаю, что многие предпочитают слово „цивилизация“.) Этому процессу мы обязаны всем лучшим, что мы создали, равно как и заметной частью того, от чего мы страдаем. Поводы и истоки этого процесса скрыты в темноте, его исход неизвестен, отдельные его черты легко опознаваемы. Возможно, он приведет к угасанию человеческого рода»[64]64
Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. С. 325–337.
[Закрыть].
Лакан, ученик Кожева, располагая Фрейдовой оптикой бессознательного, увидел недостаточность его дуальной схемы: соперничающие между собой индивиды оказываются у Лакана всего лишь марионетками, посредниками в отношениях между субъектом бессознательного и бессознательным же Другим, к которому субъект обращается, с которым он строит определенные отношения. Эти-то отношения, предпосылкой которых является функционирование языка, поскольку само бессознательное без языка невозможно, и являются для Лакана антропогенным фактором. Иными словами, чтобы стать человеком, субъекту нужно не признание со стороны соперника, себе подобного, а признание со стороны большого Другого. Именно на выстраивание этих, других отношений и переносится в психоанализе центр тяжести. Проясняя их, мы обнаруживаем иллюзорность воображаемого соперничества: признание другого с маленькой буквы, нашего ближнего, теряет для нас свою ценность. В результате ценностные акценты в культуре смещаются, соперничество перестает быть культурообразующим фактором.
Как выстраиваются отношения с большим Другим, если этот Другой бессознателен? Как показать ему и доказать себе самому, что именно Его признания я добиваюсь? Только негативным способом, способом от противного – уйти от признания со стороны своих ближних. Только бегство от признания станет для меня самого достаточным доказательством чисто-ты мотива, того «purification of the motive in the ground of our beseeching»[65]65
Очищения мотива, лежащего в основе нашей мольбы (англ.).
[Закрыть], о котором говорит Элиот в одном из своих «Квартетов»[66]66
Little Gidding, III.
[Закрыть]. И в нашей культуре этот тип поведения, конечно же, хорошо известен. Более того, в христианской традиции именно он всегда являлся ценностно господствующим и единственно оправданным. Примеров можно привести множество – возьмем хотя бы классический (его использует, скажем, в одной из своих книг, «La fable mystique»[67]67
Certeau М. de La Fable Mystique: XVIe et XVIIe siècle. Paris, 1982 (Vol. 1), 2013 (Vol. 2).
[Закрыть], католический историк, социолог и, кстати, слушатель Лакана Мишель де Серто) рассказ из «Лавсаика» Палладия о безымянной девушке, прикидывавшейся дурочкой, одержимой и подвергавшейся в монастыре, где она жила, насмешкам и издевательствам. После того как святость ее чудом была обнаружена, она ушла, и «где скрылась и как скончалась жизнь, никто не знал». Нетрудно найти примеры и в русской литературе: точно так же пропадает, теряя все, вплоть до имени, толстовский отец Сергий. Подобные люди неизменно окружаются в христианской традиции ореолом святости: святой, пишет Лакан, вкладывая в это слово несколько иной смысл, но не случайно выбирая для характеристики идеального аналитика именно его, – не делает ничего на потребу, он становится отребьем, он непотребствует[68]68
Лакан Ж. Телевидение. М., 2000. С. 28.
[Закрыть].
Именно такое поведение и является, таким образом, в лакановской перспективе собственно человеческим, антропогенным. Но можно ли строить человеческое сообщество на этих пустотах, на этих образованных уходом полостях и провалах, на этих зияющих в культурном космосе черных дырах? Разумеется, если существует мировоззрение, в рамках которого именно они получают ценность. Таким мировоззрением – и ничем иным – как раз и является собственно христианство. Культура как раз и строится здесь на выслеживании, нахождении, преследовании этих черных дыр – именно на их сверхплотном фундаменте и возводится культурное здание.
Один из самых ярких примеров можно найти в житии Симеона Столпника, сирийского подвижника, простоявшего много лет на специально выстроенном столпе. Интересно, что он вовсе не становится на пресловутый столп по собственной воле, – житие начинается, наоборот, с того, что он, уходя от людей все дальше, прячется наконец в глубокую яму, в кишащий аспидами колодец. Люди сами, почувствовав исходящий из колодца невыносимый смрад, достали его и водрузили впоследствии как некое чудо на столп, надстраивая это подножие, по мере того как приходило к нему больше народа, все выше и выше. Сирийские иконы, изображающие святого столпника (их было несколько), и до сих пор являют картину созидающегося вокруг него города, культурного мира – да и мира как такового, ибо конфессиональные различия вокруг него теряют значение: поклониться столпнику приходят и византийский император и сарацинские князья. Оба движения в этим житии налицо: здесь и уход от мира в поисках признания Другого, и то культурное, символическое строительство, которое на этом фундаменте имеет место. Есть в житии деталь, которая являет этот контраст особенно ярко: червь из гниющей плоти святого падает на пришедшего поклониться ему сарацинского князя: когда тот, лобызая его, принимает как драгоценный дар, червь превращается у него на ладони в жемчужину. Нечто омерзительное, зримое воплощение разложения, распада, дезинтеграции, превращается для князя в высшую ценность – ценность, символизирующую собой ту евангельскую жемчужину, которая стоит целого мира. Перед нами зримая картина, притча, свидетельствующая о произошедшей в этот момент в культуре переоценке ценностей.
Вернемся на минуту на психоаналитическую точку зрения: чтобы эта переоценка произошла, мы должны ответить субъекту не забвением и презрением, которого он хочет от нас, а тем признанием, которого ищет он у бессознательного Другого. В определенном смысле мы сами и должны его, этого Другого, в себе воплотить. Я приведу пример, где наглядно показано, что именно я имею в виду. Это глава из хорошо всем известных «Цветочков» святого Франциска – глава о том, как Франциск учил брата Льва служить утреню. Оказался брат Франциск с братом Львом в месте, где не было богослужебных книг, и, когда пришло время утрени, святой Франциск сказал брату Льву: у нас нет требника, давай, я сам буду говорить, а ты будешь отвечать, как я тебя научу. Я скажу так: «О, брат Франциск, ты сотворил миру столько зла, что достоин самых недр ада», а ты, брат Лев, ответишь: «Истинно так, ты достоин самых недр ада». «Охотно, – ответил ему брат Лев, – начинай во имя Бога». Тогда Франциск начал говорить: «О, брат Франциск, ты сотворил столько грехов, что достоин ада». А брат Лев отвечал: «Через тебя Бог сотворил столько добра, что ты пойдешь в рай». «Не говори так, брат Лев, – отвечал Франциск, – но когда я скажу: о, брат Франциск, ты совершил столько несправедливостей, что достоин проклятия, ты ответишь так: воистину ты достоин быть между проклятых». «Охотно», – согласился опять брат Лев, но, когда Франциск со слезами возгласил: «Я совершил столько грехов, что достоин быть проклятым вовеки», ответил: «Бог сделает тебя среди благословенных особенно благословенным». В таком смиренном споре, пишет автор «Цветочков», с обильными слезами и в великом духовном утешении провели они время до самого света. «Богу ведомо, – оправдывается затем брат Лев, – что всякий раз я намеревался в сердце своем отвечать, как ты приказал, но Бог заставляет меня говорить, как ему угодно». Брат Лев отвечает Франциску не от своего имени, но от имени Бога, к которому и обращаются они оба, служа свою утреню. Именно с Ним говорят они оба, беседуя, по видимости, друг с другом, именно с Ним достигают согласия в неразрешимом взаимном споре.
Да, но Бог давно умер – захотят возразить иные, большого Другого просто не существует. Сам Лакан верующим отнюдь не был, но дело, с его точки зрения, вовсе не в сознательной вере или неверии. Другой, возможно, не существует, говорит Лакан, но он есть: именно оттого, что Бог умер, он «бессознателен» и потому вечен. Движение, которое совершает культура, прославляя святого, аналогично тому, что делает аналитик, когда, отказываясь вступить с пациентом в отношения соперничества, любви, ненависти, которые тот ему пытается навязать, отвечает ему с позиции большого Другого – того единственного, хотя и не существующего, в чьей любви пациент нуждается и чьего признания ищет. Причем отвечает, не диктуя ему свою волю, а лишь предъявляя ему объект, порожденный его желанием признания, – превращая червя, который падает из него, в жемчужину. Психоанализ является, таким образом, миниатюрной, кабинетной моделью культуры, в которой отношения соперничества уступают место отношениям иного рода: убегания и погони, кеносиса и прославления. Более того, он является светской моделью такой культуры. Он дает понять, одним словом, что независимо от наших верований и степени нашего апокалипсического оптимизма отношения между людьми основаны, по сути дела, не на борьбе за взаимное признание, что в глубине наших действий лежат иные мотивы. Осознание этих мотивов и соответствующая переоценка ценностей позволили бы, возможно, создать иную культуру – культуру, не выстроенную на войне всех против всех.
Легко видеть, что эта точка зрения резко противостоит гуманитарной перспективе, где ценностью наделяются, скажем, интересы угнетенных народов, меньшинств и т. д. – групп, которые борются внутри общества за свои интересы. Здесь, напротив, ценностью является то единственное, что делает человека человеком, – его уход, его отказ от признания и всех связанных с ним общественных выгод. Те, кто отстаивает свои интересы в гражданском обществе, уже получают награду свою: добившись права стать полноправными гражданами, они платят за это подчас дорогой ценой: они теряют свой шанс быть людьми.
Очень похожие мысли высказывает в книге «Укоренение», Симона Вейль. Главным препятствием, не позволяющим нам выстроить действительно человеческую цивилизацию, считает она «ложное понимание того, что такое величие»[69]69
Weil S. L’Enracinement: Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain. Paris, 1949. P. 145.
[Закрыть], неверное представление о человеческом совершенстве, прославление тех, кто добился в истории признания и победы. Преодолеть в себе это понимание, считает она, «задача нелегкая, так как для этого нужно превозмочь сопротивление со стороны общества, тяжелое и обволакивающее нас как атмосфера земли. Чтобы достичь этого, необходимо духовно себя из общества исключить»[70]70
Ibid. P. 150.
[Закрыть].
Люди, сумевшие это сделать тоже, однако, образуют сообщество, сообщество парадоксальное. Оно одновременно невидимо – ибо члены его стремятся к незримости, анонимности – и видимо, ибо строится на ее, этой незримости, символическом прославлении, на признании ее высшей, антропогенной ценности. Моделей такого сообщества можно выстроить себе много: одну из них представляет собой и наша историческая, христианская церковь. Именно в этом свете можно понимать ту высказанную Достоевским в «Братьях Карамазовых» устами отца Паисия мысль, что Государство – то есть, кожевское Гражданское общество, выстроенное по оси соперничества в борьбе за признание, войны всех против всех – должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь Церковью и ничем иным более – обществом, выстроенным по оси направленного к Другому бессознательного желания. Война подобна симптому: избавиться от него можно тогда, когда желание это будет осознано, когда черви станут в ладонях наших обращаться в жемчужины.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































