Текст книги "Приглашение к Реальному"
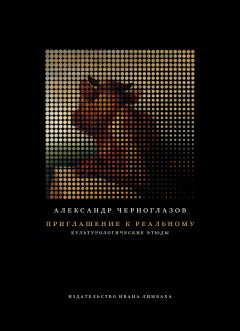
Автор книги: Александр Черноглазов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Итак, чтобы свое желание осуществить, чтобы заменить собою ценность, которую желает чужое желание, Алексию в первую очередь нужно именно то, что он с самого начала и сделал, – исчезнуть, лишившись всякой значимой символической ценности. Именно за это – за получение из милости того, что принадлежало ему по праву и достоинству, – благодарит он Бога, принимая милостыню от слуг своего отца. Дальнейшее делает для него Бог – точнее, Церковь, принявшая на смертном одре его исповедь. Прославляя его мощи как нетленные и почитая их как источник благовонного мирра, она как раз и заменяет ими тот фантазматический, нетленный, бесконечно ценный и источающий наслаждение объект, которого бессознательно, в нем как личности, желает Желание его близких, превращая его в предмет почитания и культа.
Очень похожий сюжетный ход обнаруживаем мы и в житии святого мученика Вонифатия – того самого святого, в храме которого Алексий был погребен. Юноша Вонифатий, служа домоправителем в доме знатной римской дамы, становится ее любовником. Оба они, однако, будучи христианами, тяжело переживают свое падение и решают на время расстаться: дама посылает возлюбленного в Киликию на поклон мощам святых мучеников, от которых оба они ждут заступничества. Прибыв в Киликию, юноша становится свидетелем расправы над христианами и, присоединившись к ним, сам претерпевает славную мученическую кончину. Останки его доставляются в Рим и прославляются Церковью как святые мощи, возле которых возлюбленная его, приняв монашеский постриг, оканчивает свои дни. Роль святыни как объекта, возмещающего невозможность, недостаточность сексуальных отношений, как предмета, в который превращается любимый, чтобы соединиться с любящей в качестве желанного, выступает в этом повествовании, в этом житийном романе особенно ясно.
Не случайно в Семинаре VIII выбирает Лакан для обозначения объекта а греческое слово а́галма (от глагола agallein – «прославлять, чтить, украшать, гордиться»), часто означающее в греческом статую, предмет культа. Более того, агалма является для Лакана предметом культа по преимуществу, единственно возможным. «Античные боги, – пишет он, – знали, что не могут открыться людям иначе нежели в камне преткновения, в агалме чего-то такого, что идет против всех правил, будучи чистым проявлением сущности, которая сама по себе оставалась скрытой – проявлением, загадку которого нужно искать за ним. Отсюда и демоническое воплощение их скандальных подвигов»[40]40
Lacan J. Le Séminaire, livre VIII. P. 193.
[Закрыть].
Но обратимся к культу христианскому. «Что желаем мы в Боге, – говорит Лакан, – если не желанного (читай: объекта а. – А. Ч.)? Выходит – уже не Бога? Оказалось, что стоило людям приписать Богу абсолютную ценность, как у них случилось головокружение, делавшее спасение верховного предмета делом весьма трудным»[41]41
Ibid.
[Закрыть]. В этом-то задача Иисуса, полагал Лакан, и заключалась. «История Христа, – говорит он, – послужила не спасению людей, а спасению Бога»[42]42
Lacan J. Le Séminaire, livre XX. Paris, 1975. P. 98.
[Закрыть]. Именно Иисус спас Отца, заняв место объекта желания, место «блудного сына», став центром христианского культа – культа, где постыдного не стыдятся, где камень преткновения (по-гречески – ска́ндалон), «камень его же небрегоша зиждущии», становится во главу угла, где место закона, Имени Отца, неспособного победить грех, занимает благодать, агалма, «возводящая объект [„объект, чья позитивная телесность является ничем иным как позитивацией, воплощением Ничто“[43]43
Žižek S. Ils ne savent pas ce qu’ils font. P. 168.
[Закрыть] ] в достоинство Вещи»[44]44
Лакан Ж. Семинар. Книга 7. М., 2006. С. 147.
[Закрыть]. Именно оксюморон христианского культа и становится тем языком, тем дискурсом, внутри которого отречение святого Алексия, его отказ от признания, его добровольное самоуничижение, ке́носис, как раз и делает его достойным прославления, являя его людям в качестве агалмы – «чистой манифестации» вожделенной и недоступной Вещи.
То, о чем идет речь, наглядно предстает в римской храме, посвященном памяти мучеников Вонифатия и Алексия. Храм, по преданию, построен на месте дома родителей Алексия и сохраняет в себе пролет деревянной лестницы, под которой святой прожил в облике нищего последние годы и был найден умершим, – факт, впрочем, даже правдоподобный, если вспомнить прекрасно сохранившиеся деревянные резные врата V века расположенной рядом базилики Санта-Сабина. Под лестницей, там, где невидимо пребывал святой Алексий, возвышается сейчас изображающая его роскошная мраморная статуя работы Бернини: именно к ней сходятся доныне путешественники и паломники со всех краев света. «Камень преткновения», живая некогда плоть святого, «скандально» сокрытая под нищенскими лохмотьями, обернулась здесь драгоценным мрамором, увековечившим эту смертную плоть, обратившим его, как море – утопленника в шекспировской «Буре», «into something rich and strange»: в выставленную для молитвы и поклонения агалму.
Завершается житие оплакиванием героя. Мы уже говорили, что оно занимает до одной четверти всего текста. И недаром. В сущности, оно вовсе не кончилось, продолжаясь в христианских храмах до сего дня. Выражение «faire le deuil» буквально означающее «совершать оплакивание», приобрело во французском другое, противоположное значение – «оставлять, забывать». В неопубликованном семинаре, посвященном Имени Отца, Лакан говорит, что анализант (пациент аналитика) должен в конечном счете «faire le deuil de l’objet а» («отказаться от объекта а»)[45]45
Lacan J. Le Séminaire, livre VII. P. 133.
[Закрыть]. В данном случае результат, формулируясь теми же словами, прямо противоположен. Объект скорби (deuil, dolor; см. эпиграф) увековечивается, становясь источником радостнотворного плача для поколений и поколений.
Роман подошел к концу. Видя несоответствие свое Идеалу Я Алексий идет на сознательный разрыв со своей семьей, бессознательно стремясь заменить собой как субъектом желания утраченный объект желания близких, то есть обратиться в «предмет а, а точнее в помёт, то, что выскажется, когда я уже буду мертв, время, когда меня наконец услышат, перв(а) – причину его желания»[46]46
Lacan J. … ou pire // Scilicet. V. 5. 1975. P. 8.
[Закрыть]. Реализации этого бессознательного стремления – стремления субъекта желания к признанию – и служит язык христианского культа, прославляющий останки святого. В то же самое время прославление это прикровенно указывает родным Алексия на истинный предмет их желания. Сама нескончаемость оплакивания обнаруживает за скорбью об Алексии-человеке радость обладания (jouissance) сокровищем (agalma), скрывающим в себе утраченный объект желания – сокровищем поистине нетленным, ибо, по слову Лакана, «не обращается в падаль плоть (corpse), где обитало слово, оплототворявшееся (corpsifiait) языком»[47]47
Lacan J. Radiophonie // Scilicet. V. 2/3. 1970. P. 61.
[Закрыть].
В заключение нелишним будет проиллюстрировать наше истолкование жития лакановской схемой[48]48
Lacan J. Écrits. P. 904.
[Закрыть], призванной наглядно продемонстрировать тот факт, что «парное соотношение» Эго (moi) с его проекцией а’ (образ другого, его воображаемого двойника) не позволяет субъекту явиться в месте, где происходит его детерминация означающим, А.

На схеме этой а и а’, образы моего Я и Другого, соотносятся как предмет и его отражение, так что плоскость SA служит своего рода зеркалом, с помощью которого между ними устанавливаются воображаемые отношения. Что же до субъекта желания, то непосредственной детерминации означающим, необходимой ему для чаемого признания со стороны Другого, препятствует плоскость аа’, ибо «говоря на общепринятом языке, он принимает воображаемые Я за вещи не вне-стоящие, а самые настоящие. Будучи не в силах знать, что происходит в поле конкретного диалога, он имеет дело с некоторым числом персонажей а, а’, и т. д.»[49]49
Lacan J. Le Séminaire, livre II. Paris, 1978. P. 285.
[Закрыть]. Эту плоскость Лакан называет «стеной языка»: она не допускает прямого общения Я и Другого, в нее «вмурованы» лишь их изображаемые двойники. Другие находятся «по другую сторону стены языка, там, где они в принципе для меня не доступны. По сути дела, каждый раз, произнося подлинное слово, я обращаюсь именно к ним, но достигаю отраженным путем лишь а и а’. Субъект отделен от Других, подлинных Других, стеной языка»[50]50
Ibid. P. 286.
[Закрыть]. Язык, таким образом, служит «как тому, чтобы утвердить нас в Другом, так и тому, чтобы в принципе помешать нам Его понять»[51]51
Ibid.
[Закрыть]. Анализ как раз и направлен на то, чтобы позволить субъекту S установить отношения с подлинными Другими, на преодоление «стены языка».
Но что происходит в нашем житии? Разрушая свой нарциссический образ, Алексий разбивает зеркало. Другими словами, он не обращается больше к а’ посредством а. Но отказавшись от признания со стороны а’, «себе подобных», он по-прежнему, сам того не зная, стремится к признанию, стремится занять место объекта желания Другого, апеллируя при этом к Богу, призывая Его на роль посредника между «мной и тобою». Однако теперь, когда общение а – а’ невозможно, субъекта отделяет от Другого глухая стена. Более того, со смертью Алексия стена языка становится стеной молчания – того молчания, о котором Кожев писал, что «оно ничего не имеет общего с бытием, как оно дано, ибо молчание это, „немое“ и „нечеловеческое“, а лучше сказать, „вещное“, представляет собой нечто „совершенно иное“ по отношению не только к дискурсу, но даже к простому человеческому молчанию»[52]52
Kojéve A. Le concept, le Temps et le Discours. Paris, 1990. P. 245.
[Закрыть]. Что же делает церковь, призванная Алексием в посредники? Продолжая нить метафоры, можно сказать, что на стене этой она, прославляя Алексия в культе, пишет изображение, своего рода икону, которая являет, иллюстрирует близким Алексия то, чем он желал для них стать, указывая им в то же время на их собственное, устремленное к утраченному объекту бессознательное желание. Повторяю: не предъявляя им этот объект, как делает – в идеале – аналитик, а лишь указывая на него, его знаменуя.

Оказываясь в центре квадрата Sаа’А, Бог прерывает общение по оси аа’, знаменуя одновременно осязаемыми чертами те бессознательные отношения, что связывают полюса S и А. Наглядную аналогию дает, пожалуй, иконостас у Флоренского – покрытая живописью стена, отделяющая алтарь от храма. Отсутствие этой стены создает у молящихся иллюзию видимости происходящего в алтаре – на самом же деле перед ним оказывается в этом случае лишь зеркало, возвращающее его в его собственный, человеческий мир и служащее одновременно невидимой стеной, отделяющей его от мира горнего. Видимая преграда иконостаса разрушает иллюзию видимости алтаря, делая видимой незримую дотоле стену, на которой и знаменует иконописец мир заалтарный, «потусторонний».
Пользуясь православным литургическим термином, обозначающим ряд молитв, произносимых «вместо» литургии в те дни, когда служение ее невозможно, и как бы заполняющих ее место в суточном круге, дабы круг этот не оставался разомкнут, мы можем охарактеризовать связь, которая устанавливается в нашем житии между А и S, как связь «изобразительную», восполняющую отсутствие подлинной связи в условиях, когда связь воображаемая (а – а’) оказывается нарушенной, когда героем романа оказывается герой совсем другого жанра – утративший наивность нарциссического самосознания герой исповеди. Леон Блуа прав: для такого влюбленного есть лишь одна печаль – не быть святым. Ибо именно святой – этот, по словам комментатора Лакана, Жака-Алена Миллера, «воплощенный объект а», – «не делая ничего на потребу, <…> становится отребьем <…>, пытаясь тем самым осуществить то, чего требует сама структура, – позволить субъекту, субъекту бессознательного, принять его за причину своего желания»[53]53
Лакан Ж. Телевидение. М., 2000. С. 28.
[Закрыть].
Человек-невидимка
Величайшей наукой и высшим искусством называли подвижники духовную брань, которую ведет с плотью, в святоотеческом смысле этого слова, человек внутренний, духовный, движимый благодатью.
Именно ей, этой брани, посвящено множество страниц тех писем, с которыми обращается к своим чадам духовным отец Иосиф Исихаст (1897–1959), один из величайших подвижников, живших в XX веке на Афонской горе, чьи послания монашествующим и мирянам по праву вошли в золотой фонд современной аскетической литературы[54]54
См.: Ιωσήφ, γέρων. ῎Εκφρασις μοναχικῆς ἐμπειρίας. ῾Ιερά Μονή Θιλοθέου. ῞Αγιον ῎Ορος, 1996. Первый перевод на русский язык: Старец Иосиф Афонский. Изложение монашеского опыта. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1998.
[Закрыть]. Обратившись к этим посланиям, изданным не так давно на русском языке, мы быстро убеждаемся, что, говоря о «высшем искусстве», «искусстве из искусств и науке из наук», старец имеет в виду совсем не то, что мы привыкли описывать как борьбу духа с телом, Бога с дьяволом в человеческом сердце, – брань получает здесь измерение совсем иное.
Напомним прежде всего, что для старца человек – это человек благодатный, принявший, стяжавший благодать. «Не считай себя человеком, если не принял благодати»[55]55
Старец Иосиф. Выражение монашеского опыта / Пер. с греч. иеромонаха Симеона (Гагатика) и Алексея Крюкова. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006. С. 53. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием номера страницы в скобках.
[Закрыть], – повторяет он. Благодать, пишет старец, – это «невещественный дар Божий» (207): ее нельзя увидеть, ограничить, представить, придать ей окраску. Иными словами, благодатный человек, человек, принявший благодать, невидим. Как невидим и сам Господь в человеке, чье естество соединилось в нем с Божественной природой. «Поэтому Господь, истинный Бог, казался таким же, как остальные люди. О нем говорили: „Он ест и пьет“. Он был прозван обманщиком и бесноватым» (207). Но если благодатный человек – это человек и есть, если человек без благодати, как утверждает отец Иосиф, не человек вовсе и напрасно родился на свет, значит, невидимость – само естество человека. Человек по определению невидим.
Итак, невидимость – это свойство человека, его судьба. Но не вступает ли это определение в противоречие с тем, как уже давно привыкла мыслить человека западная культура? Уже для Спинозы человек – это его желание. Желание признания, уточняет это определение Гегель. Но разве не предполагает оно, это желание, в любой, сколь угодно символической форме его, то самое, что понятию человека, о котором мы только что говорили, явно противоречит – видимость? Ибо без нее, видимости, невозможно никакое признание. И стремление к славе, которое всегда воодушевляло человеческий род, есть не что иное, как стремление к этой видимости, стремление быть на виду, стремление быть признанным в своем желании, стремление к соблазнению своего ближнего. И человек, по Гегелю, который этого желания не испытывает – не человек. Желание признания – это антропогенное желание: только готовность пожертвовать за признание жизнью делает человека человеком. А если это так, то не биологические факторы и параметры, а именно оно, желание это, и есть человеческая природа, человеческое естество.
Но вернемся к отцу Иосифу. «Человек воюет, чтобы изменить естество», – пишет он (206). Но естество человека, как мы только что видели, это не плоть и кровь, это его желание, желание признания. Не его ли имеет в виду наш подвижник? Если так, то определение человека он полагает в том, чтобы идти против своего естества, против собственного желания, и желание это – не просто похоть и сладострастие, а то самое антропогенное желание, о котором говорит Гегель. Его брань – это уже не брань против «чего-то в себе», с чем он не желает отождествиться, от чего он мысленно «себя» отделяет, а брань против «себя» самого.
И как ни удивительно, но, сказав о брани против собственного естества, именно о борьбе с собой и заводит Иосиф речь.
«Знаешь, как бывает тяжело, – пишет он, – когда ты не искушаешь, а тебя искушают? Ты не крадешь, а у тебя крадут? Ты благословляешь, а тебя проклинают? Ты милуешь, а тебя обижают? Ты хвалишь, а тебя осуждают? Постоянно говорят, что ты в прелести – до конца твоей жизни?» Речь идет о том, что человек, зная себя правым, не должен оправдываться перед другими: «Ты знаешь, что все не так, как они говорят. И видишь искусителя, который ими движет». Не должен, даже зная, что обвиняющими его «движет искуситель», что они не правы. «До конца жизни» он обречен на молчание, на бесчестие, вопреки сознанию своей правоты. Стремление к «признанию» ему заказано. Посмотрим, однако, что пишет он дальше: «И каешься, и плачешь, как виноватый в том, что ты такой» (206). Другой русский перевод передает эту же фразу еще рельефнее: «И, как виновный, ты каешься и плачешь, что ты такой и есть».
Здесь главный, переломный момент. «Как виновный» означает «как если бы виновный» – и вот «как виновный» ты плачешь, что виновный «и есть», есть на самом деле. Плач и покаяние якобы виновного всего лишь притворны – плачешь ты о том, что ты виновный и есть. Именно здесь происходит переход от сокрытия своей правоты к признанию своей вины – но признает он ее вопреки истине, истине, которую сам же знает. То самое, что он в начале фразы еще скрывает от своих обвинителей – свою правоту, свое достоинство, – скрывает он в конце ее от себя самого. Я говорящий – от Я знающего.
Это и есть, говорит старец далее, «самое тяжелое». «Ты воюешь сам с собой, чтобы убедить себя, что все так, как говорят люди, хотя это не так (курсив мой. – А. Ч.)» (206). Ситуация парадоксальная: субъект словно раздваивается, расщепляется на наших глазах – он знает и одновременно не хочет знать. «Видишь, что ты абсолютно прав, и убеждаешь себя, что ты не прав», – продолжает старец (207): правая рука не хочет знать, что делает левая.
Именно это, пишет он далее, и есть «искусство из искусств и наука из наук». Состоит она в том, чтобы «бить себя палкой, пока не заставишь себя называть свет тьмой, а тьму светом. Чтобы ушло всякое право. И чтобы окончательно исчезло превозношение». Это напоминает, как это ни парадоксально, известные сцены из Оруэлла, где именно боль, «палка», преобразует субъект изнутри, делает его «сознательным» членом общества: он уже не просто скрывает от страха свои убеждения, но искренне, «не из-под палки», называет тьму светом.
«Стать безумным в полном разуме», – резюмирует свою мысль старец (207). Это напоминает формулу юродства, но имеется здесь в виду нечто совсем иное. Юродивый надевает на себя личину безумия, в то время как здесь безумие означает спор с разумом при полном разуме, во всеоружии разума. Сами образы, которые использует старец, создают впечатление, что он ведет брань против истины, против «права», против разума, против света, на стороне тьмы, что он восстает против того, что сам же почитает за несомненную истину, ибо «тот, кто станет духовным, всех обличает, не обличаемый никем. Все видит. Имеет глаза свыше, а его не видит никто» (207).
Да, но вспомним: «никто» включает и самого себя. Невидимкой, который «видит все», становится человек постольку, поскольку «его» не видит «никто», а значит, и «он сам», поскольку невидимка, как и в известной повести Уэллса, не видит себя самого. Одно обусловлено другим – и только потеряв себя из виду, можно увидеть мир и себя «глазами свыше».
Истину о себе человек принципиально не может, таким образом, высказать непосредственно. Жак Лакан любил говорить, что истину можно лишь «mi-dire», высказать между строк, что она может сказаться лишь недомолвкой. Похоже, у старца это звучит еще радикальнее: истине можно лишь «contre-dire» – лишь противореча ей, споря с ней, можем мы ее высказать. Падший, греховный субъект – это и есть лакановский субъект расщепленный: только сказав «я лгу», могу я высказать о себе правду – именно этот пример, кстати, Лакан и использует. Другая, не менее парадоксальная формула, обсуждалась в свое время английскими логиками: можно ли считать осмысленной фразу «идет дождь, но я так не думаю»? Очевидно, да, ответил бы, возможно, Лакан, ведь в двух составляющих ее высказываниях субъекты различны: в первой субъект бессознателен, скрыт, лишен права голоса, тогда как во второй он становится подлежащим и говорит уже не о дожде, а о себе самом. В первой части это субъект акта высказывания, во второй – субъект высказывания, его подлежащее. В первой он просто «есть», во второй – «мыслит». Это и дает право Лакану сформулировать свое знаменитое положение: «Я есть там, где я не мыслю и мыслю там, где меня нет». Там, где я есть, переформулируем мы, я невидим; там, где я видим – и получаю признание, – меня нет.
В письме сорок втором, которое я здесь цитирую, старец говорит о себе, обращаясь к себе на «ты», во втором лице. На эту же тему пишет он, однако, и в другом месте, в письме семнадцатом. Речь идет о той же борьбе, не прекращающейся до самой смерти, ибо направлена она, как мы видели, против человеческого естества. «Запиши имена претерпевших до смерти в час искушения, – говорит старец, – чтобы не заговорить, когда слюна у них во рту становилась кровью. К таким относись с большим благоговением и почитай их как мучеников и как исповедников. Таких я люблю, таких целую <…>. Поскольку видишь, что, терпя, он предпочитает тысячи смертей тому, чтобы выпустить из уст своих резкое слово. И когда его душат люди, когда его душит правота, когда его душит и внутренний помысел, он <…> падает, как мертвый, и тогда еще сражается мысленно с искушением и берет всю тяжесть на себя, болезнуя и воздыхая как согрешивший» (95).
Здесь речь идет явно о том же подвиге и в выражениях чрезвычайно сходных. Пафос высказывания, однако, совсем иной: подвизающийся этим подвигом уже не грешник, а праведник и достоин прославления как исповедник и мученик. Он, как видим, снова прав, но правота эта не может быть обнаружена, высказана о себе им самим – ведь прославляется он как праведник лишь постольку, постольку правота его эта его «душит», поскольку она невидима ему самому. Чтобы говорить о его праведности, старец говорит о нем в третьем лице – он говорит здесь не о себе. Истина, таким образом, – это функция места, функция лица высказывания. То, что истинно в третьем лице, ложно в первом, и именно постольку, поскольку оно в нем ложно.
Но кто вправе почтить человека исповедником или мучеником? Конечно же, только Церковь. Отказываясь от признания, становясь невидимым, человек отказывается от своего естества. Только такого человека и можно, по мнению старца, счесть человеком. Человек поступает по своему естеству, то есть является человеком, лишь постольку, поскольку он от своего естества отказывается, поскольку он невидим ни другим, ни себе самому. Но Церковь, согласно старцу, прославляет его как исповедника и мученика. Иными словами, только в Церкви он становится видимым. А это значит, что только в Церкви он и становится человеком. Перед нами, по сути дела, та логика, что описал Толкин в своем знаменитом «Кольце», только с обратным знаком: тот, кто одел его, невидим себе и другим, но виден Господину кольца. Колец много, и те, кто носит их, невидимы миру, себе самим и даже порою друг другу, но видимы «глазу свыше»: это и есть то, что называем мы «невидимой Церковью». И вне ее не то что нету спасенных – кто знает, спасутся, быть может, не только люди, – вне ее нет людей: «не считай себя человеком, если не получил благодати». Вот один из уроков, которые преподает нам старец Иосиф.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































