Текст книги "Жильбер Ромм и Павел Строганов. История необычного союза"
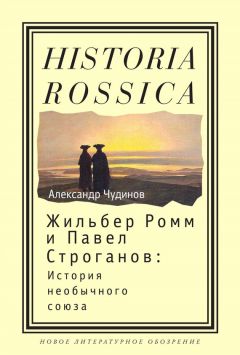
Автор книги: Александр Чудинов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Впрочем, едва ли такое мнение сложилось у Ромма еще в годы учебы или даже сразу по ее окончании. Скорее всего, подобная инвектива против религиозных учебных заведений являлась логическим продолжением той непримиримой борьбы против церкви, которую он вел уже во время Революции. В юности же Ромм был весьма далек от воинствующего антиклерикализма, присущего ему в зрелые годы. Более того, позволю себе усомниться в правомерности предположения А. Галанте-Гарроне о том, что учащиеся риомского коллежа, как и других французских коллежей и школ второй половины XVIII в., еще на студенческой скамье впитывали «запретные» идеи философов-просветителей, «распалявшие недовольство и нетерпение молодых поколений»[196]196
Galante Garrone A. Gilbert Romme: histoire d’un révolutionnaire. P. 25.
[Закрыть]. Поскольку бумаги Ромма не содержат ни прямых, ни косвенных указаний на его знакомство в юности с произведениями философов французского Просвещения, историк строит свою гипотезу на том, что, во-первых, в двадцатилетнем возрасте Ромм читал и конспектировал Дж. Локка (а где Локк, мол, там и Руссо[197]197
«A défaut de Voltaire ou d’Helvétius, on y lisait et commentait Locke, qui fut aussi, apparement, un des premiers auteurs lus et étudiés, avec abondance de notes, par Romme. Et, à coté de Locke, Rousseau» (Ibid. P. 24–25).
[Закрыть]), а во-вторых, что распространение просветительских идей носило тогда повсеместный характер.
Действительно, в бумагах Ромма сохранились выписки из «Опыта о человеческом разумении» Локка[198]198
MRM. D. 44.
[Закрыть], сделанные в 1770 г. Однако эта книга распространялась во Франции вполне легально, и само по себе обращение к ней еще не подразумевало наличие у ее читателя интереса к «запретным» темам философии французского Просвещения и, в частности, к теориям Руссо. К тому же знакомство с трудом Локка, похоже, не способствовало развитию у Ромма вкуса к философии, даже если таковой у него и был в юности. Впоследствии, как отмечает сам Галанте-Гарроне и в чем мы сможем убедиться ниже, Ромм весьма пренебрежительно отзывался о гуманитарных науках вообще и о философии в особенности.
Что же касается распространения просветительских идей во Франции второй половины XVIII в., то оно носило далеко не всеобщий характер. Во всяком случае, эти идеи были явно не в чести среди риомских друзей Ромма, с которыми тот поддерживал самые тесные отношения на протяжении всей своей жизни. В круг этих людей, объединенных общей любовью к наукам и искусствам, Ромм, судя по его словам, вошел где-то в начале 1770-х гг., видимо, сразу после окончания коллежа. В одном из писем Дюбрёлю за 1777 г. он заметит, что их дружба длится около четырех лет[199]199
Ж. Ромм – Г. Дюбрёлю, начало июля 1777 г. // Romme G. Correspondance. Vol. 1. T. 2. P. 383.
[Закрыть], а в письме тому же корреспонденту от 29 сентября 1791 г. определит ее продолжительность уже более чем в 20 лет[200]200
Ж. Ромм – Г. Дюбрёлю, 29 сентября 1791 г. – MRM. D. 22.
[Закрыть]. В этот круг Ромма ввел астроном и натуралист М. Бонифас (1738–1816), больше известный под именем Дю Карла (или Дюкарла)[201]201
Подробнее о нем см.: Bourdin A.-M. Marc Bonifas – Du Carla // Romme R. Correspondance. Vol. 1. T. 2. P. 654–660.
[Закрыть]. Уроженец Тарна, Дю Карла, в силу неизвестных нам жизненных обстоятельств, в 1770-е гг. на какое-то время оказался в Риоме, где и встретился с Роммом. Вскоре он уехал в Париж, но перед этим свел Жильбера со своими знакомыми, которые для того стали друзьями на всю жизнь[202]202
Спустя годы Ромм писал Дюбрёлю: «Я люблю и искренне уважаю г-на Дю Карла и не думаю, что мне Вам это нужно доказывать. Я ему весьма обязан: признание этого является свидетельством моей искренней благодарности к нему. Но чем именно я ему обязан? Тем, что он помог мне преодолеть мою застенчивость, держась в общении со мной просто, открыто и на равных, как это Вы сами за ним знаете. Тем, что, компенсировал мне свой отъезд добрыми знакомствами, которые помог мне завести в Риоме. Я обязан ему знакомствами с г-ном Деведьером, г-ном Буара и с Вами» (Г. Дюбрёлю, 2 июля 1778 г. // Romme R. Correspondance. T. 2. P. 426).
[Закрыть].
Наиболее близок Ромму из них был, пожалуй, Габриэль Дюбрёль. Именно через него Ромм, странствуя по свету, поддерживал связь с родным городом. Дюбрёль же, в отличие от своего друга-путешественника, всю жизнь практически безвыездно провел в Риоме. Здесь он родился в 1747 г., здесь учился в Ораторианском коллеже, здесь на протяжении многих лет занимал пост директора почты. Человек весьма любознательный и охочий до книг, Дюбрёль, опять же в отличие от своего друга, достаточно прохладно относился к точным наукам и отдавал предпочтение гуманитарным дисциплинам – истории, философии, литературе. Будучи как минимум в общих чертах знаком с идеями философов Просвещения, он не только не разделял их, но и относился к ним с откровенной неприязнью. «Заинтересованность в нашей религии – это самое дорогое, что у нас есть. Вы должны относиться к этому с высочайшим вниманием и никоим образом не прислушиваться к нечестивым софизмам наших современных философов», – предостерегал Дюбрёль находившегося в Париже Ромма[203]203
Г. Дюбрёль – Ж. Ромму, 27 мая 1779 г. // Ibid. T. 2. P. 547.
[Закрыть].
Столь же резкое неприятие у риомского почтмейстера вызывали и ставшие обыденными в политической литературе того времени нападки на власть. В одном из посланий Ромму он так характеризует прочитанную накануне книгу: «Имея мало времени, не буду подробно распространяться о томе по истории Франции. Ограничусь лишь замечанием, что прочитал его с удовольствием, что он написан простым и естественным языком и что, несмотря на все сказанное нашими мыслителями и нашими философами, кричащими о свободе, наше правительство является точно таким, каким его изобразил г-н Моро (Moreau)»[204]204
Г. Дюбрёль – Ж. Ромму, 17 июня 1779 г. // Ibid. P. 563.
[Закрыть]. Жакоб Николя Моро (1717–1803), со взглядами которого соглашался Дюбрёль, был широко известным в дореволюционной Франции защитником монархической традиции и последовательным критиком просветительской философии.
Глубокая религиозность отличала и друга семьи Ромма – Гаспара Антуана Болатона (Beaulaton), который был для Жильбера и старшим товарищем, и, в некотором роде, покровителем. Болатон родился в 1724 г. в Риоме[205]205
Bourdin A.-M., Ehrard J. Gaspard-Antoine Beaulaton // Ibid. P. 635–639.
[Закрыть]. В 1740 г., после пяти лет учебы в Ораторианском коллеже, он уехал в Париж изучать философию и теологию. Позднее Болатон занимал различные должности в Ораторианском ордене, в частности преподавал теологию в Риоме (1751–1754, 1761–1766), когда, возможно, и познакомился с Роммом. В 1770 г. Болатон оставил преподавание и занял место каноника, что позволяло ему уделять гораздо больше времени своему любимому занятию – литературе. В течение нескольких лет он трудился над стихотворным переводом «Потерянного рая» Мильтона, вышедшим в свет уже в период пребывания Ромма в России. Сочинение английского поэта привлекло к себе Болатона и своим изысканным стилем, большим ценителем которого он был, и горячим религиозным энтузиазмом, в полной мере разделяемым им самим[206]206
Vissac M. de. Romme le Montagnard. P. 14–15.
[Закрыть]. Как и остальные друзья Ромма, Болатон читал полуподпольное издание янсенистов Nouvelles ecclésiastiqaues[207]207
См.: А. Буара – Ж. Ромму, 18 января 1776 г. // Romme R. Correspondance. Vol. 1. T. 1. P. 257, 258, note 12.
[Закрыть]. Во второй половине 1780-х годов он работал над сочинением «Монолог, или Беседа о Боге, природе и людях», но так его и не окончил.
Доктор Антуан Буара (Boirat), еще один близкий друг Ромма, также был глубоко верующим человеком и противником «новой философии». Буара родился в Риоме приблизительно в 1723 г.[208]208
Bourdin A.-M. Antoine Boirat // Ibid. T. 2. P. 640–643.
[Закрыть] Получив медицинское образование в Монпелье, он вернулся на родину в 1749 г. Практикующий врач, он интересовался также теоретическими вопросами науки, выписывал Journal de médecine, состоял в переписке с известнейшим парижским врачом Ф. Вик д’Азиром (Vicq d’Azyr)[209]209
Ему Буара направил мемуар о недостатках, имевших место в общественной больнице Риома. См.: А. Буара – Ж. Ромму, 7 января 1777 г. // Ibid. P. 353–354.
[Закрыть], а после создания в 1776 г. Королевского общества медицины (Société royale de Médecine) стал его членом-корреспондентом.
При этом увлечение естественными науками Буара вполне гармонично сочетал с религиозной верой. Помимо научной литературы он, как и Болатон, постоянно читал янсенистские Nouvelles ecclésiastiques, а в своих письмах рассуждал о вере с красноречием и пылом проповедника. Вот, например, какие наставления получил от него Ж. Ромм после того, как сообщил из Парижа о завязавшемся знакомстве со столичными учеными: «Никоим образом не доверяйте людям, но только Богу, и пусть прежде всего благочестие всегда будет предметом Ваших штудий и Ваших устремлений»[210]210
А. Буара – Ж. Ромму, 2 ноября 1774 г. // Ibid. T. 1. P. 143.
[Закрыть].
Такое же сочетание любви к естественным наукам и религиозности мы находим и у другого риомского корреспондента Ромма – Этьена Дютура де Сальвера (Dutour de Salvert). Сын торговца кожами, перешедшего затем на службу в налоговое ведомство, Дютур с возрастом унаследовал место отца и весьма солидный доход, позволивший ему приобрести замок Сальвер и ряд других овернских сеньорий[211]211
См.: Bourdin A.-M., Ehrard J. Etienne Dutour de Salvert // Ibid. T. 2. P. 661–665.
[Закрыть]. Дютур, родившийся в 1711 г., был намного старше Ромма и не принадлежал к числу его близких друзей. Однако этих двух людей связывало общее увлечение естествознанием. Исследования Дютура по физике, геологии, ботанике были высоко оценены ведущими учеными Франции, присвоившими ему в 1746 г. звание члена-корреспондента Королевской Академии наук. Дютур пользовался также огромным уважением у своих земляков – жителей Риома, считавших его одной из главных достопримечательностей своего города. Читая новейшую научную литературу и переписываясь со столичными коллегами, в частности со знаменитым Ж.Л.Л. Бюффоном, Дютур был вполне знаком с материалистическими веяниями своего века, однако они никоим образом не пошатнули его религиозных убеждений. Более того, он посвятил последние десятилетия своей жизни занятиям теологией и преуспел в экзегезе Священного Писания: его сочинение «Жизнь нашего Господа Иисуса Христа и согласие евангелистов» выдержало три издания[212]212
Dutour E. Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, et concorde des évangélistes. Paris, 1787. В 1782 и 1820 гг. это сочинение выходило на латыни.
[Закрыть]. Учитывая это, мы уже не удивимся и его беспокойству за Ромма, рискующего в Париже подвергнуться вредным идейным влияниям. Вот что писал об этом Дюбрёль: «Он [Дютур] поделился со мной своими опасениями в отношении современного философизма и сказал, что религия – это наиболее серьезная из всех вещей, которая должна нас занимать и интересовать в первую очередь. Мне показалось, что он проявляет большой интерес ко всему, что Вас касается»[213]213
Г. Дюбрёль – Ж. Ромму, 20 апреля 1779 г. // Romme G. Correspondance. Vol. 1. T. 2. P. 519.
[Закрыть].
Если товарищи Ромма были так обеспокоены тем, что, покинув родной город, он может подвергнуться в Париже «дурным влияниям», способным повредить его религиозной вере, то известие о его предстоящем путешествии в Россию и вовсе повергло их в панику. «Накануне отъезда в чужой край, – писал ему Буара, – где о католической религии судят превратно и где Вы будете жить среди греческих схизматиков, которые ее презирают и на нее клевещут, позвольте мне посоветовать Вам хранить ей верность и предупредить о подстерегающей Вас опасности исполниться терпимости к религии тех, с кем будете делить кров, и пренебрежения к вере Ваших праотцев»[214]214
А. Буара – Ж. Ромму, 20 мая 1779 г. // Ibid. P. 544.
[Закрыть]. Боязнь того, что в России Ромм проникнется якобы царящим там безразличием к религии, испытывали и другие близкие ему люди. «Хочу сказать о Вашей матери, г-не Буара, г-не Дютуре, г-не Салле и других, кто Вас ценит, – писал Дюбрёль. – Они боятся, как бы фактическое безразличие к религии, столь характерное для России, не оказало на Вас влияния. Они заклинают Вас следовать тем благим принципам, которых Вы в данном отношении придерживаетесь, и ни на йоту не уклоняться с этого истинного пути»[215]215
Г. Дюбрёль – Ж. Ромму, 27 мая 1779 г. // Ibid. P. 547.
[Закрыть].
Как видим, люди, составлявшие риомское окружение Ромма, – персоны весьма просвещенные, – были далеки от духа собственно Просвещения, которое во Франции характеризовалось достаточно ярко выраженным негативизмом по отношению к религии. Напротив, добрых риомцев отличало по-янсенистски трепетное отношение к вере и резкое неприятие любых попыток как-либо принизить ее значение.
Вместе с тем из этого отнюдь не следует делать вывод, что юность Ромма прошла в сугубо монастырской обстановке. Среди тех немногих сведений о раннем периоде его жизни, которые поток времени донес до нас, есть и фрагменты двух писем – свидетельство его юношеской любви. В конце XIX в. эти документы находились в руках овернского историка Ж. Дедевиза дю Дезера, который процитировал их в своей лекции о Ромме и Субрани. Однако, проявив деликатность (возможно, тогда еще были живы ближайшие потомки этой в дальнейшем почтенной дамы), он не назвал полное имя возлюбленной Ромма, упомянув лишь, что это была его кузина «Мадлен Б…»[216]216
Desdevises du Dézert G. Romme et Soubrany. Clermont-Ferrand, 1896. P. 9.
[Закрыть]. И только Р. Бускейроль много позже указал, что речь шла о кузине Ромма – Мадлен Буавен (Boivin)[217]217
Bouscayrol R. Les premières amours de Gilbert Romme… et vingt ans plus // Brayauds et Combrailles. Bulletin d’histoire, folklore, dialecte et archéologie. 1980. № 25. P. 19.
[Закрыть], но оригиналов самих писем у него уже не было, и он их цитировал по тексту Дедевиза дю Дезера.
Первое из посланий датировано 21 июля 1769 г. Жильберу, тогда еще школяру Ораторианского коллежа, девятнадцать лет, девушке – семнадцать. Вот что он пишет ей:
Я люблю Вас. И не делаю из этого тайны. Но, увы, быть может, я зашел слишком далеко? Могу ли я сделать Вам подобное признание, не будучи уверен в Вашем? Если Вы окажетесь настолько неблагодарны, что не ответите мне тем же, я буду считать себя несчастнейшим из людей. С этого момента я испытываю странное томление…[218]218
Desdevises du Dézert G. Romme et Soubrany. P. 9.
[Закрыть]
Здесь Дедевиз дю Дезер, к сожалению, прерывает цитату, и о завершении послания мы можем судить лишь по ехидному замечанию историка: «Мадлен не заставила Ромма томиться, и еще до того, как запечатать письмо, он получил от нее кольцо и… зубочистку, после чего ответил ей акростихом столь совершенной пошлости, что, похоже, заимствовал его у соседа-кондитера»[219]219
Ibid.
[Закрыть].
Их роман развивался, по-видимому, достаточно неспешно. Лишь четыре года спустя Жильбер позволил себе по отношению к девушке некоторые вольности, за которые она попыталась наградить его оплеухой. Об этом мы узнаем из его письма от 18 декабря 1773 г.:
Моя дорогая кузина, я неплохо себя чувствую, отразив Вашу оплеуху. Но не думайте, что я не испытываю никаких эмоций. Судьбе было угодно, чтобы я сдерживал до сих пор чувство мести, но оно от этого только окрепло, и я не упущу случая дать ему возможность вырваться наружу. Оплеуха стоит пяти поцелуев. Я посылаю их Вам со всем тем пылом, с которым они только и могут искупить мое огорчение. Два я запечатлеваю на Ваших очаровательных щечках, которые так украсила Ваша скромность, ведь без нее любая красота ничто. Газовая косынка[220]220
По моде того времени девушки прикрывали легкой косынкой плечи и декольте.
[Закрыть] иногда позволяет внимательному глазу разглядеть нечто такое, на чем я оставляю еще два своих поцелуя. И не стоит пугаться моего возмездия; оно, на мой взгляд, еще не соразмерно тому злу, которое Вы мне причинили. Наказание это столь же легкое, как и бумага, на которой Вам о нем сообщается, и я его с охотой сокращу еще больше, обменяв пятый поцелуй на нечто более существенное. Я буду стараться изо всех сил, чтобы заслужить еще одну оплеуху. Не знаю, удастся ли мне в этом дойти до конца. В предвкушении сего имею честь оставаться, моя дорогая кузина, Вашим скромнейшим и покорнейшим слугой[221]221
Desdevises du Dézert G. Romme et Soubrany. P. 9–10.
[Закрыть].
Звучит многообещающе, однако, по словам Ж. Дедевиза дю Дезера и Р. Бускейроля, исполнения «угрозы» бедной Мадлен пришлось ждать еще целых… 15 лет. Впрочем, к их истории мы еще вернемся.
Рассказ же о риомской юности Ромма подходит к концу. Других сведений об этом периоде его жизни у нас пока нет. Известно лишь, что осенью 1774 г. Жильбер Ромм покинул родной город и отправился в Париж.
Глава 3
Осада «республики наук»
Точной даты прибытия Ромма в Париж мы не знаем. А. Галанте-Гаронне полагает, что это произошло в конце сентября 1774 г.[222]222
Galante Garrone A. Gilbert Romme: histoire d’un révolutionnaire. Paris, 1971. P. 32.
[Закрыть], Ж. Эрар – в октябре[223]223
Ehrard J. Un étudiant riomois à Paris // Romme G. Correspondance. Clermont-Ferrand, 2006. Vol. 1. T. 1. P. 41.
[Закрыть]. Первое мне представляется более правдоподобным. В своем письме от 14 октября 1774 г., открывающем многолетнюю череду его посланий на родину, Ромм сообщает, что после приезда в Париж он помимо прочих трат заплатил за 15 дней проживания на улице Старого Монетного двора (rue de la Vieille Monnoye)[224]224
Ж. Ромм – Г. Дюбрёлю, 14 октября 1774 г. // Ibid. P. 131.
[Закрыть]. Ну а поскольку в тот же день, когда было отправлено это послание, он обосновался уже по новому адресу – на улице Прачек (l’hotel Royal du Riche Laboureur rue des Lavandiиres place Maubert)[225]225
Ibid. P. 131, 133.
[Закрыть], логично предположить, что к моменту написания письма эти 15 дней уже истекли. Иными словами, на парижскую землю Ромм ступил, очевидно, не позднее 30 сентября.
С этого времени мы обладаем уже гораздо более подробными сведениями о его жизни, поступках и даже некоторых мыслях: отныне он достаточно регулярно будет сообщать о них Г. Дюбрёлю. В частности, из их корреспонденции мы можем узнать о мотивах, побудивших Ромма покинуть родной город и отправиться в Париж. Ну а поскольку эти мотивы были, увы, не слишком оригинальны, то, прежде чем перейти к их рассмотрению, думаю, следует рассказать о тех общих причинах, которые во второй половине XVIII в. вызвали настоящий наплыв юных и более или менее образованных провинциалов в столицу Франции.
* * *
Век Просвещения подарил молодым французам, не имевшим знатных предков, но получившим достаточно сносное образование, надежду на социальное восхождение по новому, неизвестному их предшественникам пути – через успех на поприще литературы или науки. Разумеется, и литература, и наука существовали также в предыдущие столетия, но лишь век Просвещения превратил их в профессии, способные обеспечить своим обладателям высокое положение в обществе. Наглядным подтверждением тому стал жизненный путь большинства знаменитых французских писателей и ученых того времени, которым их таланты обеспечили широкое общественное признание и если не богатство, то вполне солидный достаток. Так, избрав литературную стезю, сын нотариуса М.Ф. Аруэ (больше известный как Вольтер) и сын ремесленника Д. Дидро стали не только властителями дум современников и привилегированными корреспондентами коронованных особ, но и достаточно обеспеченными людьми. Благодаря своим научным трудам не менее головокружительное восхождение по социальной лестнице совершили Ж.Л. Лагранж и П.С. Лаплас, чьи отцы были соответственно чиновником и крестьянином. Подлинным же олицетворением новых возможностей, открывавшихся тогда перед талантливыми людьми скромного происхождения, можно считать судьбу Ж.Л. Даламбера. Бедный бастард, брошенный знатной матерью и выросший в семье стекольщика, он сделал блестящую карьеру сразу на обоих поприщах – и литературном, и научном. Неудивительно, что писатели того времени на все лады превозносили достоинства «республики изящной словесности» (république des lettres) и «республики наук» (république des sciences), изображая каждую из них как некое внесословное братство, где истинный талант обязательно найдет признание. И так же неудивительно, что перспективы повторить успех одного из великих притягивали как магнитом в Париж – мировую столицу искусств и наук – множество незнатных юношей из провинции. Но был ли доступ в эти «республики» столь легок, как издали казалось наивным провинциалам?
Относительно «республики изящной словесности» на этот вопрос подробно ответил американский историк Р. Дарнтон в исследовании «Литературное закулисье Старого порядка»[226]226
Darnton R. The Literary Underground of the Old Regime. Cambridge (Mass.), London, 1982. Первая, наиболее важная для нашей темы глава этой работы издана и на русском языке: Дарнтон Р. Высокое Просвещение и литературные низы в предреволюционной Франции // Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 7–36.
[Закрыть].
«Сколько молодых людей в конце XVIII века, – писал он, – мечтали о том, чтобы войти в число посвященных, наставлять монархов, спасать оскорбленную невинность и править республикой словесности с высот Французской Академии или замка вроде Ферне. Стать Вольтером или д’Aламбером – вот что манило молодых людей, мечтающих о карьере»[227]227
Дарнтон Р. Высокое Просвещение. С. 8.
[Закрыть]. Однако в соприкосновении с реальностью эти благие надежды терпели крах. Рынок печатной продукции, пусть даже многократно выросший во второй половине столетия, все равно был недостаточен для того, чтобы прокормить всех желавших заняться литературным трудом. Отсутствие свободной конкуренции среди книгоиздателей, позволявшее им диктовать писателям наиболее выгодные для себя условия, и, в еще большей степени, отсутствие какой-либо защиты авторских прав от издательского пиратства делали для литературных неофитов крайне проблематичным даже выживание, не говоря уже о сколько-нибудь обеспеченной жизни.
Материальное благосостояние мэтров Высокого Просвещения, чей удел казался столь привлекательным для молодых дарований, обеспечивалось, отмечает Р. Дарнтон, не столько гонорарами за их произведения, сколько доходами от различного рода академических и государственных должностей, правительственными пенсиями и пожертвованиями меценатов. Однако источники эти отнюдь не были неиссякаемыми, и успевшие припасть к ним раньше других вовсе не горели желанием делиться с опоздавшими. В результате «пока горстка литературных бонз тучнела на пенсиях, большинство авторов опускалось на уровень литературного пролетариата»[228]228
Там же. С. 15.
[Закрыть]. Преуспевавшие писатели с нескрываемым презрением относились к неудачникам, оказавшимся на литературном дне, и дали им обидное прозвище «руссо сточных канав» (rousseauх du ruisseau).
Попав однажды на литературное дно, провинциальный юноша, мечтавший взять Парнас приступом, выбраться оттуда уже не мог. По словам Мерсье, «он падает и стенает у подножия непреодолимой преграды… Принужденный отказаться от славы, по которой так долго вздыхал, он останавливается и трепещет перед дверью, закрывшей ему путь наверх». Более того, племянники и внучатые племянники Рамо наталкивались на двойную преграду – и социальную, и экономическую; отмеченные однажды клеймом литературного дна, они уже не могли проникнуть в изысканное общество, где распределялись теплые местечки. И тогда они проклинали закрытый мир культуры. Чтобы выжить, они брались за грязную работу – шпионили для полиции и поставляли порнографию; и заполняли свои произведения проклятиями против «света», унизившего их и развратившего[229]229
Дарнтон Р. Высокое Просвещение. С. 17–18.
[Закрыть].
Жизнь на литературном дне была нелегкой и психологически обходилась недешево, поскольку «отбросам литературы» приходилось бороться не только с неудачами, но и с деградацией, причем бороться в одиночку. Неудача ведет к одиночеству, а условия литературного дна благоприятствовали изоляции его обитателей. Ироническим образом, главной ячейкой «низовой литературы» была мансарда (в Париже восемнадцатого века расслоение шло скорее по этажам, чем по кварталам). В мансардах на пятом или шестом этаже, еще до того, как Бальзак романтизировал их удел, непризнанные «философы» узнавали, что Вольтер дал им верное название – «литературное отребье»[230]230
Там же. С. 22.
[Закрыть].
Едва ли не единственный шанс пробиться «наверх» могло дать знакомство с «нужными» людьми, обладавшими достаточным влиянием в «республике изящной словесности». Но чтобы завести такое знакомство, требовались рекомендации к этим лицам. Соответственно, чтобы преуспеть на литературном поприще, молодому писателю или поэту надежнее было начинать не с создания шедевра (к тому же шедевры почему-то вообще получаются нечасто), а с добывания необходимых рекомендательных писем и хождения с ними по «правильным» домам. Некоторым из тех, кто отправился по этому пути, удача улыбнулась. Как, например, Жан-Батист-Антуану Сюару (1733–1817):
Сюар покинул провинцию в 20 лет и приехал в Париж как раз вовремя, чтобы застать эйфорию, возбужденную в 1750-х «Энциклопедией». У него было три козыря: внешность, манеры и парижский дядя – и рекомендательные письма к знакомым знакомых. С помощью связей он продержался в Париже несколько месяцев, пока не выучил английский настолько, чтобы жить переводами. Потом он встретил и очаровал аббата Рейналя, который был своего рода вербовщиком в социо-культурную элиту, известную как «свет». Рейналь доставал Сюару уроки в аристократических семействах, поощрял его писать заметки о героях дня – Вольтере, Монтескье, Бюффоне – и ввел его в салоны. Сюар участвовал в конкурсах на лучшие сочинения, которые устраивались провинциальными академиями. Он печатал литературные фрагменты в Мercure, а снискав успех в салоне у мадам Жоффрен, он начал часто появляться в свете – фраза, которая с настойчивостью лейтмотива появляется во всех описаниях Сюара. Когда ему открылись двери салонов Гольбаха, мадам д’Удето, мадемуазель де Лепинас, мадам Неккер и мадам Сорен, Сюар получил место в Gazette de France – жилье, отопление, освещение и 2500 ливров в год за литературную редактуру материалов, еженедельно присылаемых из министерства иностранных дел[231]231
Дарнтон Р. Высокое Просвещение. С. 8–9.
[Закрыть].
В дальнейшем Сюар не только закрепился на захваченном «плацдарме», но и существенно расширил его, став королевским цензором, обладателем разнообразных пенсий и членом Французской академии. Иными словами, покорение Парижа ему удалось. Правда, в 50-е гг., когда Сюар вступил на писательскую стезю, литературная среда еще не обрела той плотности, которая будет ей присуща 20 лет спустя.
* * *
А как обстояли дела в «республике наук»? Был ли и здесь путь «наверх» столь же узок и извилист?
Для французской науки XVIII век – время триумфального взлета. К середине столетия Королевская академия, находившаяся в Париже, уже имела репутацию самого авторитетного в Европе сообщества ученых, или, говоря словами Лагранжа, «трибунала высшей инстанции в сфере наук»[232]232
См.: Ferronne V. Homme de science // L’Homme des Lumières / Sous dir. de M. Vovelle. Paris, 1992. P. 213.
[Закрыть]. Во второй половине XVIII в. здесь работала целая плеяда выдающихся исследователей – Ж.Л. Даламбер, А.Л. Лавуазье, Ж.Л. Бюффон, Ж.Л. Лагранж, П.С. Лаплас, Г. Монж и др., чьи многочисленные открытия историки сегодня нередко определяют как «вторую научную революцию». Неудивительно, что Париж тогда считался признанной столицей международной «республики наук»[233]233
Ферроне В. Наука // Мир Просвещения. Исторический словарь / Под ред. В. Ферроне и Д. Роша. М., 2003. С. 345.
[Закрыть].
Во многом подъем науки во Франции был обусловлен той мощной поддержкой, которую исследователи получали здесь от государства. Автор знаменитых «Картин Парижа» Л.С. Мерсье, сравнивая литературу и науку, замечал, что если для путешествий по стране воображения «больших денег не требуется», то «все другие области знания, относящиеся к естественной истории или химии, требуют большого количества времени и хорошего состояния»[234]234
Мерсье Л.С. Картины Парижа. М., 1995. С. 346.
[Закрыть]. Всё это французским ученым обеспечивало государство. Действительные члены Академии наук получали от правительства постоянные пособия – 2000 ливров в год, дополнявшиеся выплатами за консультации, преподавание и отправление различного рода административных обязанностей, связанных с научной деятельностью[235]235
См.: Ferronne V. Homme de science. P. 216.
[Закрыть]. Помимо Академии наук государство финансировало также ряд других исследовательских центров, имевших общеевропейскую известность, – Обсерваторию, Королевский сад, Королевское общество медицины (с 1776 г.).
Отчасти подобная заинтересованность государства в поддержке науки была обусловлена стремлением усилить военную мощь страны, поскольку военное дело в XVIII в. становилось все более и более наукоемким. Разработки математиков способствовали повышению эффективности действий артиллерии и инженерных частей. Достижения химии находили применение в металлургии и в изготовлении пороха. Потребности навигации стимулировали развитие астрономии. Соответственно, многие крупные ученые работали в военных учебных заведениях, таких, например, как школа инженеров в Мезьере, где преподавали математики Г. Монж, Л. Карно, Ш. Боссю, или военно-морская школа в Рошфоре, где, как мы знаем, служил профессором Н.-Ш. Ромм, получавший за свой труд не менее 1000 экю (3000 ливров) в год[236]236
См.: Ж. Ромм – Г. Дюбрёлю [конец июня 1777 г.] // Romme G. Correspondance. Vol. 1. Т. 2. P. 379.
[Закрыть]. Именно военные школы являлись наиболее оборудованными научными центрами во французской провинции.
Хотя научные разработки, так или иначе связанные с военным делом, и стояли для государства на первом месте, власти оказывали активную поддержку исследованиям и в других областях точных и естественных наук. Причиной тому была произошедшая в XVIII в. общая перемена отношения к деятельности ученых:
До этого времени научное знание оставалось неопределенным, маргинальным, замкнутым в узком кругу. Представители государственной власти, академические и университетские круги относились к нему с подозрением и высокомерием, церковь жестоко преследовала. Но в течение XVIII в. наука добилась подлинного триумфа. <…> У истоков столь быстрого успеха лежала весьма распространенная с некоторых пор идея о том, что естественные науки представляют собою важнейший инструмент трансформации окружающей действительности[237]237
Ферроне В. Наука. С. 343–344.
[Закрыть].
Власти разного уровня охотно шли на сотрудничество с ученым сообществом, что, помимо чисто практической пользы, служило повышению их собственного престижа. Например, высокая репутация А.Р.Ж. Тюрго как просвещенного администратора, созданная ему общественным мнением еще во время его интендантства в Лимузене, была во многом связана и с тем, что Тюрго охотно привлекал людей науки для решения различного рода хозяйственных задач (добычи каолина и производства фарфора, дорожного строительства и картографирования), и с тем, что он сам активно занимался научными разработками, имевшими прикладное значение[238]238
Подробнее см.: Промыслов Н.В. Деятельность А.Р.Ж. Тюрго на посту интенданта Лимузена // Европа: Международный альманах. Тюмень, 2005. Вып. 5; Promyslov N. Turgo en Limousin, d’après les documents des Archives russes // Les Historiens russes et la Révolution française après le Communisme. étude révolutionnaires. Paris, 2003. № 5.
[Закрыть].
Министры-реформаторы второй половины XVIII в., стремясь обеспечить благоприятное отношение общественного мнения к предлагаемым ими мерам, часто прибегали к рационалистической аргументации, хорошо знакомой читателям научной литературы, но радикально отличавшейся от традиционных формулировок[239]239
Terral M. Metaphysics, Mathematics, and the Gendering of Science in Eighteenth Century France // The Sciences in Enlightened Europe. Chicago; London, 1999. P. 256.
[Закрыть]. Знания ученых широко использовались и в практических целях. Так, по заданию правительства Медицинское общество занималось разработкой мер, направленных на предотвращение эпидемий. Ученые из Королевской Школы мостов и дорог обеспечивали техническую основу развернутого государством широкого дорожного строительства. На королевских мануфактурах существовали лаборатории, где трудились такие специалисты по промышленной химии, как знаменитый Л. Бертолле. Иными словами, профессиональный ученый во Франции Старого порядка был, как правило, государственным служащим, и это обеспечивало людям науки не только материальный достаток, но и высокий социальный статус.
Растущий престиж профессии ученого породил во Франции последних десятилетий Старого порядка своеобразную моду на науку среди образованных слоев общества. Многие с удовольствием читали научно-популярную «Газету физики и естественной истории» (Journal de physique et d’histoire naturelle), издаваемую с 1771 г. аббатом Ф. Розье, принимали участие в деятельности распространившихся по всей стране местных академий и научных кружков, где ученые дилетанты выступали с докладами (как правило, представлявшими собой обычные рефераты) по естественным и точным наукам, ставили физические и химические опыты, надеясь благодаря счастливому случаю совершить какое-либо потрясающее открытие. Известный журналист Ж. Малле дю Пан так описывал это всеобщее поветрие: «Искусства, науки – повсюду сегодня изобилуют открытия, невероятные достижения, сверхъестественные таланты. Толпы людей всех сословий, никогда прежде не предполагавших быть химиками, геометрами, механиками и т. д., ежедневно выступают с сообщениями о чудесах разного рода»[240]240
Цит. по: Ferronne V. Homme de science. P. 229.
[Закрыть].
Профессиональные ученые достаточно настороженно отнеслись к подобной моде. Конечно, с одной стороны, это повальное увлечение наукой способствовало еще большему повышению их престижа и материального благосостояния. Многие из них, откликаясь на растущую общественную потребность в научных знаниях, читали открытые курсы лекций, проходившие, несмотря на достаточно солидную плату за вход, при большом стечении публики. Однако с другой стороны, по мере все более широкого распространения занятий наукой на любительском уровне все более заметной становилась тенденция к превращению сообщества профессиональных ученых в закрытую корпорацию. Уже в 1769 г. Академия наук предложила ряд структурных реформ, призванных усилить ее собственную независимость и самодостаточность. В 1775 г. ее члены заявили, что не будут больше терять свое драгоценное время, рассматривая заявки на вступление в нее от лиц, изучающих квадратуру круга, изобретающих вечный двигатель и занимающихся другими подобными химерами. Академия все активнее утверждала себя в роли хранительницы высшего, скрытого от профанов эзотерического знания и единственного арбитра, способного квалифицированно судить о том, что научно, а что нет. Войти в корпорацию можно было, только разделяя научную парадигму ее мэтров[241]241
Ferronne V. Homme de science. P. 244; Terral M. Metaphysics. P. 254–255.
[Закрыть]. Но и для того чтобы постичь эту парадигму, требовалась специальная подготовка. Все более широкое применение в академической среде получал язык математического анализа, недоступный для непосвященных. То или иное положение признавалось истинным, только если могло быть доказано математическим путем. Все остальное – то, что не подлежало математической верификации, – пренебрежительно именовалось «метафизикой» и наукой не считалось[242]242
Terral M. Metaphysics. P. 246 et ff.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































