Текст книги "Пловец (сборник)"
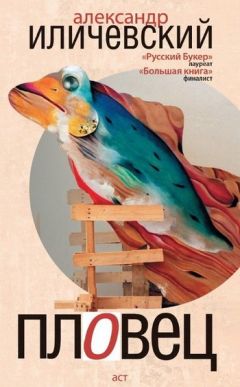
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Я заночевал на вокзале. Он был полон, как во времена эвакуации. Группа бичей – две бабы в грубых платках и трое осоловевших парней – сидели неподалеку. Они постоянно громко интересовались отправлением какого-нибудь поезда, показывая всем, что они его как раз и поджидают. Когда время-поезд иссякали, бичи выбирали следующую отправку. Видимо, так они создавали себе уют осмысленности или готовили легенду для ментов, которые могли их прищучить за безбилетную ночевку в зале ожидания.
У меня тоже не было билета.
Вокзал был полон кавказцев, за последние годы подавшихся с Кавказа в Россию. По дороге в Астрахань я выслушал водителя-азербайджанца, который по-восточному сладко хвалил Россию. Рагиб рассказывал, как он готовится к получению гражданства и как не хочет возвращаться на родину.
– Астара – висельный город, понимаешь? «Виселица», если переводить на русский. Там один раз шах всех бунтовщиков повесил. Всех, кто смуту против него учинил, – полгорода вздернул. Такое жуткое место, понимаешь? А я человек веселый, уже всех на этой дороге знаю. Почти все тут мои друзья. Все менты. Потому что умею я с человеком общаться, да? – болтал нараспев томный Рагиб, похожий на актера, играющего злодеев в индийских мелодрамах.
Все пункты ДПС, которые мы миновали, напоминали блокпосты. Непременный шлагбаум, брустверы из бетонных блоков, БМП, ОМОН с автоматами наперевес, в бронежилетах. Уже здесь, в Астраханской области, чувствовалась близость Кавказа. Видимо, именно поэтому по ночному вокзалу милицейский патруль сновал с частотой раз в четверть часа. К тому же кругом было полно топтунов. В основном это были кавказцы, которые, гордясь своей деловой суетой, а также общительностью и горячностью, легко себя выдавали. Тем не менее проворная эффективность их была очевидна. В какой-то момент они появлялись всей кучей вместе с милиционером, и потом вдруг все срывались с места и куда-то мчались врассыпную. Вся эта ночная деятельность меня отвлекала, я не мог заснуть. Наконец я сел в кресло, раскрыл записную книжку, чтобы написать письмо.
Зал ожидания был забит туркменскими цыганами. Они всем табором ехали в Ожерелье, к тамошней цыганской общине. Это были робкие мужики, загорелые до смоли, причесанные, в рубашках с отложными воротничками, в пиджаках, в которых они выглядели неловко присмиревшими. Цветастые их жены и сестры были с детьми, ошалевшие менты беспрерывно проверяли у них документы. Цыгане вели себя примерно, выстраивались в кружок, протягивали паспорта и ворохи бумаг, в которых сами не могли ничего прочесть.
Письмо не сочинялось. Кроме двух строчек, ничего написать не удалось. Зато меня приметил патруль – и на четвертый обход ко мне все-таки подошел капитан:
– А почему у тебя в тетради иероглифы? Арабские?
– Нет, – говорю, – это наоборот. Это еврейские буквы.
– Понял, – мент кивнул и отчалил к своим.
Забрав из камеры хранения байдарку, я выступил в обратный путь.
Днем уже был в Селитренном. А закат встречал на берегу Тангута.
Ночью я жался к реке. Мне все казалось, что с острова придут волки или кабанов вынесет. Так и заснул на влажном песке у кострища, под редкий, сонный, но оглушительный бой рыбы на плесе. Один раз сквозь сон я почувствовал неясную острую опасность, но не смог проснуться.
Утром спрятал в зарослях байдарку, умылся, согрел чай.
Река текла, маслясь блеском. Текла сквозь тысячелетья.
И вдруг громовой топот раздался сзади в зарослях. На песчаный пятачок, на котором я размещался, выскочили два коня. Гнедой и белый, они смыкались грудями, подбивали себя коленами, взметывали хвосты, кусались. Вскакивали друг на друга снова и снова. Вдруг гнедой заржал. Ему ответил белый.
Я уже стоял в воде, готовый кинуться вплавь, как сначала гнедой, во всю раскрывшись прыть, сверг себя с берега в воду, за ним ринулся белый – и вдруг они оба словно затихли, скрывшись по шею в воде, которую, храпя, мощно расталкивали, приподымаясь при каждом рывке. Волна от их проплыва ударила меня в грудь, я кинулся на берег, вглядываясь, как, сносимы течением, кони слабеют, закладывают дугу, выламываются на отмель, спотыкаясь и увязая, выбираются на берег, подымают морды, взлетают на откос, пропадают из виду…
Сначала я пожил спокойно у воды. Даже не особо прятался. Один раз сам вышел поздороваться с рыбаками. Поговорили. Занесло их с Ахтубы, сами из Минусинска, ловят судака в отвес на лягушонка…
Не знаю, чего я желал, вновь стремясь оказаться на острове. И если бы знал наверняка, вряд ли бы там оказался. Замедлить время – мне было не под силу. Но прямое, сильное, как солнце, чувство узнавания – какое, возможно, душа испытывает, примериваясь к надолго оставленному телу, – вело меня снова быть здесь…
И только на второй день я выдвинулся в глубь острова.
Все здесь было по-прежнему. Так же орел ходил надо мной высоченными кругами, так же жарило солнце, в нем купались кони, только от травы стал веять какой-то сладковатый странный запах. Временами он доносился прямо из-под ног, но я никак не мог определить, растирая в ладонях сухие перистые соцветья, чья именно пыльца так мучает меня тлетворным духом…
Как зачарованный я вновь бродил по острову. Наконец, вышел на дорогу и стал сверяться с солнцем, выбирая направление к ферме, как вдруг увидел на песчаном откосе чьи-то босые следы.
Я застыл, что-то трудно соображая. Снова и снова прикладывал я ступню, надавливая на шаг разными способами: с носка на пятку, с пятки на носок и равномерно. С мрачной точностью следы ложились один в один. Формы отпечатков пальцев, углы их расхождений совпадали идеально. Скоро я так натоптал вокруг, что перестал отличать старые следы от новых. Это помогло мне прийти в себя.
Дождя не было, это ясно. За десять дней следы как минимум должны были осыпаться. Я двинулся дальше. Следы появлялись то здесь, то там, никогда не идя непрерывной цепью.
Заночевал я в стогу. С вершины его можно было разглядеть тусклый ореол свеченья фермы.
Небо смежило веки, и звездная бездна опрокинулась мне в череп.
Всегда жутко лежать лицом к диску окоема, ночью особенно, до головокружения и жути, с которой упадаешь в прорву созвездий.
Чтобы заснуть, я стал вспоминать названья звезд. Узнал мигающий на излете ковша Арктур. Отыскал созвездие Короны. Она плыла, утопая в белесом мареве восходящей луны.
Я задыхался от душного запаха сена.
Волки появились внезапно, они словно бы втекли. Сначала чернота внизу всколыхнулась неясными змеями. Сгустки темноты петлисто покатились там и тут. С пухлого пружинного стога было плохо видно, но я различил несколько угловатых силуэтов, мигающих желтым стеклянистым огнем.
Я забарахтался в сене, стараясь подняться повыше. Часть стога осыпалась, ушла мягкой опорой из-под ног, я боялся соскользнуть.
Первым завыл тот, что расположился слева в арьергарде.
Только тогда я осознал всю серьезность положения. Вой холодным широким клинком пронизывал тело.
Рассуждение оставило меня.
Над верхушками деревьев показалась луна, я различил четырех волков и человека.
Двойник мой сидел на земле, остановившийся его взгляд был направлен в сторону фермы. Весь его облик был воплощенной отчужденностью, и, если бы не точное совпадение внешности, я бы опознал в нем незнакомца.
Волки его словно бы не замечали, перебегая в самой от него близости.
Между нами по прямой взгляда было метров десять, не больше.
«Волки-то мелкие. Шакалы, что ли», – мелькнуло у меня в голове. Я закричал:
– А ну, пошли вон! Ату, ату! – и стал бросать в них зажженные спички.
Звери, казалось, приостановились. Я все еще вижу длинную худую морду с прикушенным набок языком, озаренную покатившимся от спички бледным шаром. Спичками я старался попасть и в двойника. Лицо его было спокойно. Он смотрел себе на коленку. Одет был в солдатскую рубаху и штаны со штрипками. Он повернулся. Другую его щеку перечеркивала царапина. Это преломляло его внешность, и мозг мой зацепился за эту мету, чтобы отличить, уничтожить двойничество.
Волки явно передумали и сдали назад, но вдруг один наскочил на стог и с прыжка клацнул зубами под ногой.
Я рванулся вверх, уже зажженная спичка выпала из пальцев, сено вспыхнуло.
Ногой я старался сбить огонь, но он только рассыпался еще шире.
Скоро пелена огня отделила меня от волков, от двойника, по которому заплясали отсветы пламени. Он чуть улыбался, краешком губ.
Шум пламени опалил меня, стог был охвачен валом белого едкого дыма.
Я прыгнул из огня, покатился, хватая ладонями затрещавшие волосы.
Несколько мгновений я был вне соображенья.
Стог в яростном безмолвии пылал до неба.
Я не чувствовал тела своего. Пекло обожженное лицо, оно словно бы растворялось в дрожащем плавком воздухе, я исчезал, растекался, стараясь проникнуть в спасительную остужающую темень.
Присев на корточки в стороне, я лихорадочно затягивался сигаретой.
Скоро налетели всадники. Они завертелись, обкладываясь на дыбы, вокруг догоравшего стога, спавшего до малиновой кучи золы.
Я встал им навстречу.
Их лица были стерты гневом и возбуждением от опасности.
Увидев меня, Руслан прибил лошадь, взметнул поводья.
Лошади всхрапывали, глухо перестукивая копытами по земле, вскидывали колени, вращали, закатывали глаза, налитые отсветом пламени; земля дрожала под ногами.
Первый удар пришелся через темя. Второй – между лопаток.
Не давая опомниться, преграждая ходом лошадей путь к бегству, степняки погнали меня к ферме. Голова гудела колоколом, удары плети жгли руки, я пытался перехватить плеть, скинуть на себя всадника. Но скоро понял, что меня не слышат, – и, прикрыв руками голову, глаза, побежал.
Загнав меня во двор, Леша и Руслан спешились, стали вязать к столбу лошадей.
Женам Руслан крикнул, ударил кулаком воздух:
– Я же говорил, он это, его следы, меня не натянешь.
Ночь я провел вместе с коровой, которая чем-то болела и по временам издавала страшный стон, будто кто-то к ней подходил с ножом.
Я не спал. Петух вместе с полоской света проник в сарай. Он прокричался над моей головой. Птица сверху окатывала меня глазом – то одним, то другим, перекидывала на сторону алый гребешок.
Я отвернулся, опасаясь, что петух клюнет меня в ухо.
Горело лицо, опухшее от ссадин. Правый глаз видел темно и красно. Дрема тихонько сморила меня, и мне приснился двойник. Он лежал на боку среди пылающих маков. Голова его была запрокинута, в остановившихся белых глазах бежали гряды облаков…
Меня разбудил Леша, принесший воды умыться.
После в черном кулаке разжал два пузырька: перекиси и зеленки; дал кусок бинта.
В треугольнике зеркала, в котором дрожал и качался потолок, ныряла коровья морда с надрезанной губой и выставленной на языке глубокой язвой, тянулись пыльные пласты света у стропил, связки сухих трав, ряд разбитых горшков – я старался выхватить то, что осталось от лица, и выводил по нему бинтом с пенящейся перекисью, лил зеленку.
Дважды навещал меня Леша. От него я узнал о себе многое. Оказывается, пока меня здесь не было, я зарезал овцу – ее без ноги нашли неподалеку от места нашей прошлой стоянки. Несколько дней назад я напал на сестру Леши – Гузель, утащил в заросли на ильмене и продержал до ночи. Полуживая она вернулась и третий день молчит, ничего нельзя от нее добиться. Далее, в двух местах на острове я поджигал сухую траву, едва не сгорел лодочный сарай, еле отлили его водой. Теперь мне, как объяснил Леша, предстояло отработать все убытки. Руслан сейчас очень зол на меня, утром он высчитал стоимость сожженного сена и в сердцах хотел отделать меня батогом. Но женщины удержали.
Все это Леша рассказывал, затачивая и оттягивая на наковаленке косу. Лезвие пело под оселком, я молчал, не отнекивался и курил одну за другой.
Той ночью к хлеву приходила Гузель. Она потихоньку стенала, плакала, стучала немощно камнем по замку.
Я шептал:
– Гузель, Гузель, прости.
Девушка не отвечала, только переставала хныкать, и удары по замку прекращались.
За три недели плена я накосил, наворошил и высушил три стога, раза в два выше моего роста. Леша неотступно присматривал за мной. Руслан изредка появлялся посмотреть на работу. Он никогда не заговаривал со мной. И с Лешей помалкивал.
Я видел краем глаза, как он присаживается на корточки, как закуривает; чувствовал его взгляд: я знал, он теряет разумение, вчера снова кто-то зарезал овцу, и третий день вокруг фермы все пески истоптаны босыми следами, я сам видел…
С заходом солнца заканчивая работу, я садился в траву, разжевывал кусок хлеба с солью и смотрел в остывающее небо… Почему-то тревожно было наблюдать сочетание двух разных светов: остатков прямого солнечного, которым еще сочились верхние слои атмосферы, – и отраженного Луны, осеребрившего подбрюшья лиловых облаков. Казалось, слияние этих двух освещений не было простым смешением, а рождало структуры прозрачности – подобно тому, как краски, сочетаясь по краям мазков, производят невиданные составы цветового объема. Или, точнее, подобно тому, как семейство гласных звуков, произведенных прямым дыханием легких, гортани, – сочетаясь со звуками согласными, отраженными от губ, неба, зубов – рождают слово. Так вот, прозрачные эти структуры по случайной прихоти – не понять: воображения или восприятия – принимали форму разнокалиберных лодок: шлюпок, шаланд, швертботов, яликов, дубков, байдар, яхт, каравелл… И весь этот скомороший, ярмарочный флот кружился и таял вверху, будто птичий немой базар, поглощаемый сгущающейся над морем близорукостью сумерек. Множество прозрачных букв-лодок, сочетаясь в слоги, текли, растворялись и вновь сгущались зрением в звуки – некой песни на неизвестном языке…
В ту ночь запылал мой первый стог.
Следующей ночью мы сторожили сено. С вилами в руках я зарылся поглубже в душную сухую траву. Руслан и Леша засели на двух ветлах, росших в отдалении. Посматривая во все стороны, они должны были предупредить меня, мигнув фонарем три раза.
Две ночи, проведенные в засаде, результата не дали. Половину второй я мирно проспал.
В субботу на закате Руслан пришел в хлев. Долго сидел передо мной. Глаза его в прищур поблескивали сквозь дым сигареты.
– Я не знаю… Я видел тебя тогда. Ты лучше в Москву двигай. Понял? – произнес он, кроша в пальцах окурок.
Руслан сунул руку в карман гимнастерки, протянул мне тысячную купюру.
– Спасибо. Я верну переводом, – пообещал я.
– Не надо. – Он встал и задержался в дверном проеме, зажмурившись в туннеле низкого сильного солнца.
Утром я нашел Гузель на кухне. Она чистила рыбу, пойманную накануне. За ночь рыбешки закоснели, она держала их за негнущиеся хвосты, как дощечки.
Услышав меня, девушка сжалась, не обернувшись. Плечи ее задрожали, вся она подалась в сторону, к стене.
Я обнял ее.
Она рванулась, ударила меня от груди по лицу. Взгляд ее, полный слез, был направлен мне в щеку, я чуть отстранился, поймал ее глаза.
– Зачем ты так?.. – прошептала она.
Я отвернулся.
Она шагнула со спины, дотронулась до моей шеи, с виска ощупала лицо и отшатнулась.
Я едва сумел ее удержать. На следующий день в полдень я подходил к стоянке. Вдруг донесся запах дыма.
Я пригнулся, стал обходить с фланга. Перспектива, оставшись без байдарки, вплавь выбираться к Сарабалыку меня не прельщала.
Я выпрямился и выломился из зарослей на открытое место.
Двойник сидел на перевернутой вверх дном байдарке. Он подклеивал реберный стрингер, когда-то содранный сучком при шварте.
В стороне на углях выкипал чайник.
На мгновенье я замешкался – шевелящееся зеркало суводи направило мне в переносье солнечный луч. В пластах блеска мелькнула морда коня – злой, закусив удила, он рвал прочь из морока наседавшего на него кошмара. Я кинулся ему на шею…
Двойника я настиг только на середине плеса.
Бешенство спурта давно сменилось тягуном, сносимым по теченью. На него раз за разом нанизывались усталые гребки, рот из-под вскинутой руки судорожно кусал воздух.
Напарник мой стал наконец задыхаться, сбиваться с ритма, уже плюхал руками. Крупная зыбь сыпала брызги в дыхательное горло. Я заперхался, подотстал.
Он пытался сначала отбиваться ногами, но и на это уже не было сил у обоих. Прежде чем встать ему на плечи, я ударил кулаком по затылку и крутанул за плечо, чтобы посмотреть в глаза.
Бесчувственный белый взгляд отринул последнюю долю сомненья. Хрипя, я напрыгнул на него, еще и еще, покуда он, всплыв, не обернулся искаженным чуждым лицом – и, прозрачно погружаясь в отражение облаков, стал понемногу отдаляться.
Кефаль
Наталье Гетманской
В августе по городу, будто весть о тайной катастрофе, разлетелся, мерцая, шепот: к берегу наконец подошла кефаль.
В сопящей ватаге друзей, путаясь в снастях донок, то и дело взвывая от впившегося крючка и гремя поклевными бубенцами, Семен несется вниз по нешироким ярусам города к морю.
Полдневная духота тяжко оплывает по чаше ландшафта. На Мичманском лужи лопастного крошева сухой акации лениво шевелятся и пересыпаются на новое место от случайного ветерка. Там и тут по косогорам Исторического бульвара вскрикивают, цокают цикады. Мальчишки, едва поспевая корпусом за ступнями, мчатся вниз на Графскую пристань, слетают с Верхней Садовой: ограды над подпорными стенками, заросшие плющом и остистыми копнами дрока, памятники, камни бастионов, петли переулков и булыжные лестницы, едва проходимые от царапких дебрей шиповника и ежевики, уютные тупики, стрельба бликов по окнам домов, подвесные мостки к парадным, резные балконы, нефтяной полусвет кофеен и дурманный чад жареной султанки, обморочный шелест шелковых флагов и запах роз и помидоров – все это бесследно рушится в их взвинченных ощущеньях и взглядах, с бешеной цепкостью вырывающих из перспективы бега ниточку равновесия. Море, входя предвосхищенной прохладой в обрывистые узкие бухты, пока еще невидимо живет за Братским кладбищем, за Корабельной стороной…
И вдруг впереди – стоп, провал, неясная заминка: на пути громоздится нестройный вой духовых, по ухающему колесу барабана ходит войлочная колотушка, и медный блеск тарелки, гремя, впивается в зрачок.
Из дома, утопшего в обвале плюща, выносят гроб.
Вся в трещинках, барабанная кожа натянута дрябло, пролежень от колотушки дышит как на жирной старухе.
Гроб устанавливают на крашеные табуреты, похоронная какофония рассыпается на минуту молчанья.
Следуют всхлипы и плачи. Дымок из зажатой в чьем-то дрожащем кулаке сигареты свивается в сизую розочку и плывет перед глазами Семена.
Учительница математики Елизавета Сергеевна, хотя нынче каникулы, почему-то стоит здесь, вся в черном.
На них шикают и, сбавив ход, мальчишки снизу-вверх любопытно протискиваются в толпе старшеклассников.
Почему-то все они смотрят в одну точку.
От лица девушки, лежащей в гробу, не оторваться. Оно влечет взгляд, как пропасть.
И тут Семен вспоминает – дочь капитана первого ранга учится в боевом 9 «Б». Ее отец командует эсминцем «Баку» – потайным огневым ураганом Средиземноморья. Позавчера на закате корабль стал на рейд у горизонта: с крыши Семен видел в бинокль, как рушились якоря и как уже на шварте матросы впопыхах чехлили лес ракетных установок…
Это она на первомайском концерте играла на пианино в актовом зале. Низкая челка, строгий профиль тронут на скулах светлой тенью загара; ужасно прямая спина, белый фартук, короткая черная юбка в складку: край, сместившись, приоткрыл золотистую мышцу бедра – чуткую, как рыба, телесную волну, оживающую при нажиме педали…
В распахнутых окнах носятся наискось ласточки. Клавиши, ткущие полонез, невесомо волнуются под тонкими руками.
Вопли ласточек, проносясь, как бы колышут музыкальную ткань.
А еще он однажды видел с нижнего пролета школьной лестницы ее кружевные трусики. Он следил за ее восхождением с открытым ртом, так как не предполагал, что нижнее белье способно излучать свет, что оно может быть таким же легкомысленно воздушным, как манжеты или отложной воротничок на школьной форме… В сравнении с просторечием простых плавок и батистовых пузырей – это было ударом ослепленья.
Заметив, что пацан подглядывает, настигла, перемахнув стрелой перила – стремительно голые смуглые ноги в раскрытом оперении юбки мелькнули жар-птицей над опрокинутым взглядом – и, слегка придушив, вместо того чтобы наотмашь в спину сшибить наглеца вниз по ступеням, вдруг оглянулась и, нагнувшись, чмокнула в уголок рта.
После, на уроке географии Семен долго мрачно тер рукавом щеку и губы, корчась от сладкого стыда внутри.
Сейчас тело девушки неопрятно запеленуто в розовую блестящую тафту – так девчонки кутают кукол. На матовом виске виднеется крохотный подтек. Его форма – ящерка с рогатым хвостом.
Семен не боится мертвецов, он просто испытывает к ним отвращенье, как, например, к запаху герани или ко вкусу содержимого гробиков вареных яиц. Когда умерла бабушка, он бежал из дому и ночевал три дня на причалах Северной бухты, пока его не определили, загнав погоней в полночь на портовый кран, в детскую комнату милиции – до востребования взбешенной матерью.
Но теперь, глядя на девушку, ему хочется сделать страшное. Его мутит от злобы, от желания кинуться, раскрыть, выпростать всю из тряпок, чтобы, задрав ей юбку, припасть, укусить, отомстить за свой стыд…
Понизу прошел обрывок бриза и качнул прядь на виске.
На мгновение стало страшно.
Он первым снова рванул к морю. Вечером на закате Семен в одиночку возвращался той же дорогой. Выкупавшись напоследок, напитанной светом кожей он чуял, как при ходьбе прохладно прикладывается к загару вобравшая капли моря рубашка.
На тротуаре перед ее домом рассыпаны пыльные, исхоженные ветки кипариса: плоские, затертые кружева покрывают асфальт.
Семен огляделся.
Свеча маяка тлеет под низкими лучами солнца. По ту сторону Южной бухты поезд высекает свисток и карабкается в гору.
В высоком объеме неба, заставленного плоскостями оттенков заката, прозрачно стоит лицо девушки.
Улыбка плавает на губах.
Семен удивленно мотает головой, словно вытряхивая из ушей воду, и спешит отправиться дальше.
В конце улицы на балкончике дома, вылезши за край косой, на глазах ползущей тени, греется последним светом крохотный геккон. Бледный язычок выскальзывает набок из щелки рта и протирает монетку глаза. Свесившись, застывает, как у повешенного.
У Семена на проволочном, режущем плечо кукане обливаются потекшим жиром пять радужных кефалей. На блестках крупной чешуи – лишайчики налипшего песка.
Он на ходу с приятным усилием снимает кукан и вытягивает руку, снова любуясь уловом.
Вдруг тяжелый эллипсоид рыб, благодаря восхищенной рассеянности взгляда, отделяется от связки и плывет в потемневших глазах головокружительной линией женских бедер.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































