Текст книги "Пловец (сборник)"
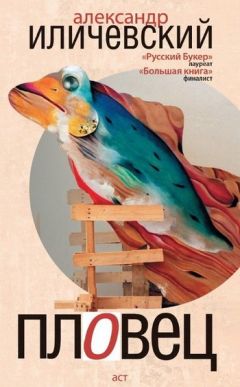
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
И только тогда воздух ворвался в ее легкие.
XXIX
На следующий день бабушка Наташки отправилась к Федору сделать заказ на кашкалдака.
В огороде поливала грядки Полина.
– Здравствуй, Поля. Я до Федора, – объяснила Анна.
Анна прошла в сад.
В сарае Федор подшивал седло. На Анну не взглянул. – Да слышишь ли ты меня, Федор? Скоро на охоту пойдешь?
Федор молчал. Только задергалось у него плечо. Как у лошади птица мышцы.
Он понял – Наташка ничего не рассказала. XXX Встречаться с девочкой старик не перестал. Теперь она убегала в лес, в условленное место. Сама дерзость связи хранила их тайну.
Железное дерево в лесу росло, как животное, подымаясь, свиваясь, дуплясь многими стволами из земли. Они хоронились в шалаше под ним – как в утробе застывшего зверя.
Лес, птицы, звери наваливались на них – прорастали сквозь, расклевывали, глодали.
В тихую погоду он тайным дальним знаком звал ее на залив. С рассвета лежал под баркой, смотрел, как бегут в Мазендеран облака.
Она появлялась черточкой на берегу, ложилась в спрятанную лодку, накрывалась рогожкой. Оглядевшись, шел к воде, сталкивал лодку в ход между тростников. В тихую погоду птицы высыпали на залив. Протекая в шелестящей теснине, толкаясь длинно шестом, лодка выплывала в птичьи поля.
Она пахла водой – запах воды, запах согретого тростника, волглый запах корневищ тек по лицу, напитывал обоняние прохладой, вел взгляд к ней, растворял, поднимал, вливался в ноздри. Желание пахло тиной, тонким мускусом и селитрой: порох забил рубцы всех его карманов.
Когда он снимал с нее рогожку, все время боялся, что она там бездыханная. И еще ослепнуть боялся.
Птичьи стаи раскатисто кипели на заливе, занимая окоем полотнами пролета, сварами, всполохами перелетов. Птицы держались вокруг лодки на расстоянии выстрела. От центра серебрящегося круга отталкивался шест.
Девочка не подымалась со дна лодки. Она улыбалась, поджимала губы, вытянув вдоль бедер руки, не зная, куда их деть.
Старик укладывал на борта шест, ложился под него.
Постепенно птицы переставали бояться: за бортом слышались их зовы, переклички, бултыханье, хлопанье крыльев.
Он брал ее за руку, и долго, боясь шевельнуться, они лежали лицом в небо – на деревянной решетке, под которой ходила слабой течью вода, – лежали, поворачиваясь в кипенье, гуле, птичьем гаме.
Шест наискось тянулся через плывущий купол.
XXXI
И вот Федор стал гнать свою жену из дому. Придирался. Унижал. Она плакала. Один раз пошла прочь сквозь слезы, совсем потеряв голову. Переходила через дорогу, хотя ей и не надо было. Попала под машину. Военную машину, с погранзаставы. Солдата-шофера оправдало следствие.
Дочь Федора, срочно вызванная телеграммой Анны, забрала мать из больницы, увезла ее в Киров.
«Не хочет Федор меня. Хочет, чтобы сдохла», – сказала Полина дочери, застыла лицом.
XXXII
В Шихларе свадьба. Стоят шатры. Играет зурна. Цепкий тар аккордами карабкается в небо. Жарят на углях мясо. У Тамилы в кармане задыхается опутанный нитками голубенок. Ночью она разорвет его над простыней.
XXXIII
Два года горевал Федор. Приезжал к нему брат, ходил субботник. Федор прогнал сначала брата, потом – субботника.
Однажды зимой у калитки он увидел жену. Она стояла с чемоданом в руке и смотрела на свои окна. Он ввел ее в дом, ухаживал, поил чаем.
Полина молчала. Потом расплакалась, разговорилась.
А он сник. Поглядывал на нее.
Пошел, сел на кровать.
Она села напротив.
– Федор, Федор.
И тут он ударил ее. Сухой плач разорвал его лицо. Он ударил еще, теперь легче. Встав, она охватила его затрясшуюся голову, прижала к мягкому, провалившемуся животу.
XXXIV
Его не нашли в лесу у ручья с дырой в темени и пустыми глазницами подле туши убитого секача. Решили, что ушел в Иран, и разбирательство пограничники вели больше года, но дело так и осталось незакрытым. Тело исчезло, не нашли на той стороне ручья даже глаза. Пеночка клевала исхудавший, стекший глаз, поворачивалась к ходившим среди деревьев людям и, что-то пискнув, вновь обращалась клювом к незрячему выражению зрачка, который, вобрав блеск дня, сеть голых ветвей, осколки неба и очутившись наконец вне человеческого, никак не трогал ее крохотную птичью грацию. Лошадь торопко стояла над пустотой, отходила в сторону попастись, возвращалась. Секач щерил клыки, будто улыбался. Мальчик, мимоходом посланный отцом, вдруг выбежал с фермы, радостно полетел в Гиркан и на бегу – долговязый, с ломающейся, колесом разметанной под уклон походкой, – чтоб не забыть, не понимая слов, выкрикивал по-русски: «Чушка, где ручей забери, да! Чушка, где ручей забери, да!»
XXXV
Зима того года выдалась холодной. Фламинго выламывали палочные свои ноги из схватившегося ила. Сыпал крупный липкий снег. Птицы пытались взлететь, разбегались, хлопали крыльями, мешались со снегом, валились. Сытые шакалы, оглохнув, свободно вышагивали по заливу, вдруг приседая, чтобы выкусить из лапы ледышки.
Дизель
Маргарите Нейман
В один из рикошетов своих шальных командировок я ехал на коротком дизеле из цыганских Бельц до атаманского Котовска.
Все окна в затаренном под завязку вагоне были выбиты мирной разрухой, как обстрелом в войну. Поезд увязал в духоте июльских сумерек, словно пьяная муха в подсохшей капле медовухи. Вагон гудел малоросским выговором, смехом, чуждый счастливый мир ехал вместе со мной, москвичом, затерявшимся между производственными посылами.
Вот уже месяц я был гоним по раскроенной стране с комбината на комбинат – нуждой спасти уникальное оборудование. Несколько сатураторов с числовым программным управлением наш институт пытался внедрить в сахарное производство перед самым развалом страны. Как молодой специалист, единственный в опустошенном отделе, я был обречен на выполнение приказа. Признаться, мне было по душе предаться этой авантюре – мотаться по Одесской области и Бессарабии, шарахаясь среди военизированного карнавала, царившего вокруг. На правом берегу Днестра ревели митинги, скандировавшие: «Чемодан! Вокзал! Россия!» На левом мотопехотные командиры охотно позировали на броне ошалевшим стрингерам.
Дважды, махая над головой майкой в замотанную колючей проволокой темень, я проходил между блокпостами по заминированному мосту. Трижды под гирляндами трассирующей перестрелки переплывал на плоскодонке Днестр. Ночевал где придется – в заводских общагах, на берегу реки, в садах, на кладбищах и в голубятнях. Карманы мои были набиты министерскими ксивами, имелось даже письмо из президиума академии. Патрули норовили использовать их по назначению, но на всякий случай меня отпускали, прежде обыскав на предмет фотоаппаратуры и валюты… Скоро я выучился и уразумел: две бутылки водки «Зверь» – вот мой мандат, мой пропуск в веселящий ад.
Вдали от Бендер третий день я наслаждался миром… Дизель часто останавливался, тормоза выдыхали компрессорной дрожью. Машинист прохаживался вдоль четырех вагонов и докуривал на подножке, посматривая на семафор. Наконец зеленый луч надрезал зрачок, и крупные звезды, навернувшись влажным блеском, вновь плелись над полем…
В Котовск я направлялся из любопытства. Старый мастер сахарного завода в Умани, которого подкупом я сумел подбить на демонтаж нашей установки, обтирая окровавленную руку смоченной в соляре ветошью, рассказал мне о мумии Котовского. Застреленный в 1925 году легендарный комкор по требованию его подельников из 17-й Кавдивизии был забальзамирован и помещен в личный мавзолей, став таким образом в один ряд с Лениным, Мао, Хо Ши Мином, Ким Ир Сеном и хирургом Пироговым. В 1941-м бетонную пирамидку взорвали румынские войска, а мумия Котовского оказалась в яме, куда сбрасывали тела расстрелянных евреев. Местные жители вынули половину атамана и куда-то заховали. Буря нового времени вновь вынесла мумию Котовского на всеобщее обозрение – в недавно отстроенный склеп. К его бронированному окошку нынче открыт свободный доступ. Образ лихого героя Гражданской войны был знаком мне с детства. Показалось забавным взглянуть в белые глаза атамана – глаза анархии и разгула, по новой захлестнувших эти края. Я читал в местном газетном листке очерк, откуда запомнил, что в 1915 году в один из налетов Котовский прибыл на одесскую квартиру скотопромышленника Гольштейна и попросил того внести в фонд обездоленных десять тысяч на покупку молока. Арон Гольштейн предложил на молоко пять сотен, однако котовцы вынули из купца все восемь тысяч, душу оставили.
Смотаться в Котовск казалось легким приключением, и я его предпринял, как только выдалось несколько свободных дней перед уже маячившим возвращением в Москву…
Народ в вагоне ехал дружно, выпивали, кусали зернистые на разломе помидоры, лущили зубки чеснока, хрустели синими луковицами, скромничали, хвалили пироги. Сидевшая напротив девушка – смуглый овал, вся долгая, здоровая – внимала скороговорке, которой сыпала кругом ее соседка – конопатая толстушка: мокрый рот, короткие ляжки ерзают по сиденью, она беспрестанно перебрасывала косицу с плеча на плечо, озорно посматривала. Подруга же ее была исполнена величавости, в которой мерцало смущение, вдруг сменявшееся грубостью. На коленях обе девушки держали корзины, затянутые марлей, на ней скарлатиною проступали пятнышки ягодного сока.
У тесных сел остановка рождает столпотворение. Люди спрыгивают и загружаются, осторожно передают ящики, тюки. Златозубые цыганки прохаживаются мимо мужиков, покрикивают:
– Од-ка, од-ка, ци-гареты, ци-гареты…
Машинист следит за своей телегой, время от времени гаркает: «Ну що, усi залiзли?» И старухи поспешают, уважительно подгоняют друг дружку, подбирают подолы – и, не хуже молодух, взлетают на подножку, схватившись обеими руками за поручни.
Прежде чем тронуться с места, машинист дает гудок. Вагоны стучат и дергаются, бабы заполошно орут, сообща виснут на стоп-кране. Машинист равнодушно выходит покурить.
Сумерки насыщаются синевой, пассажиры затихают, вслушиваясь в певучий лязг, вкрадчивый постук колес. Стремнина волос каштаново колышется, застилает глаза. Красный платок пылает медленным раем. Груди раскосо ходят под сарафаном, когда она оттягивает для продува лямки. Ткань почти не опадает… Складки оправляются над могучей тайной, кружится голова, я высовываюсь по пояс в плывущую над духовитыми травами степь. Ночь пахнет теплой полынью, терпкой пылью. Сажусь, не знаю, куда деть руки, ловлю проворный взгляд.
С большого ее пальца, как с бойка, летят черно-масляные, с блестками соли «сэмочки». Крошки созвездий. На нижней губе – крапчатая шелуха. Тыльной стороной ладони она ловко снимает холмик и отряхивает за ползущее окно.
В вагоне давно уже стемнело, притихшая живая теснота покачивается, сопит.
Замерев, я бережно стираю с щеки влажные пятнышки ее слюны.
Дизель встает у большого села на окраине Котовска. Здесь вагон опустошается. Нестройно рассыпается и пропадает одиночным брехом лай. В такую ночь даже для псов, побуженных лакомной пристанционной суетой, действительность ничтожна: она вытесняется мечтой, как жажда над родником – тягучим ненасытным залпом.
Сады лиловым валом накатывают на беленькие хаты. Южная горячая тоска ласкает сердце, обнимает за плечи, теснит грудь.
Тетка пробегает по вагонам, заглядывает под лавки:
– Серьожка, Серьожка! Куды ж ты провалился, окаянный?
Покатившись наружу, толстушка снизу зовет, тянется, сует что-то в окно.
– Маришка, прими-ка яблочка! И ты, хлопчик, нака, закуси нашенскими!..
Два «белых налива» светятся в моей ладони. Нежный яблочный дух кружит голову. Село отплывает, телеграфные провода текут, взмывают, опадают от столба к столбу.
Маришка вдыхает свое яблоко и долго смотрит поверх. Откусывает – мякоть искрится – и вдруг, захохотав, она мечет в меня.
Хлесткий удар в грудь ставит сочную точку.
Она отставляет с колен корзину, оправляет подол. Поезд, едва подрагивает на стыках непролазной ночи. Темень дышит стрекотом саранчи, вскриками цикад. Серые глаза властно меркнут расширением зрачков. Воронка обморока увлекает меня в страшном вальсе. Со дна слышно, как колеса ровным гулом набирают ход.
Мне почему-то видится крохотный машинист, почти карлик, с огневой рыжей бородкой. Он колдует, вертясь на одной ножке у раскрытой топки – у моего солнечного сплетенья. С пришептом, с заговором, пляшущим по твердым губам, он швыряет в пламя пустые горсти…
Она легонько стукает разутой ступней по моей ступне и ведет вверх. Я ничегошеньки не разумею и только успеваю заметить, что поезд, незаметно набрав бешеный ход, вырывается из-за деревьев в дол, и как всходящая луна, пронзив мертвым светом степь, кусты в овраге, полоснув по глазам блеском кривого клинка реки, встает звонким комом в гортани, и темень вагона, став смертельно прозрачной, открывает ее всю передо мной – одним взмахом распущенные по плечам, по челу волосы, бретельки сарафана, опавшие под слепящей грудью, – она тянет со смехом руки…
– Ну, чего смотришь, дурачок? Чего?.. В Котовске ее встречает муж, брат, кто еще? Молодой красивый калека, закопченный инвалид на тачанке, с оловянным крестом на груди нараспашку – перебирает, шаркает колодками, подшипники гремят. Он принимает у нее корзинку и, зажав культями, с обезьяньей проворностью катит прочь. Маришка нагоняет, треплет его по лохмам. Инвалид мотает башкой, скалится – и, ободренный, наяривает вниз по переулку.
Вдруг бесноватая оборачивается:
– Где ж ты заночуешь, парень?
– На вокзале перекантуюсь.
– Ну, не поминай лихом… – Она повернулась – тачанка захрустела, крутанулась, и подол, захлестнув, опал колоколом по бедрам. Фонарь охватил чернотой ее силуэт, спину вновь затрудившегося с колодками инвалида…
Я остался один. Странное чувство родственности к этой семейке захватило меня. Что мне было нужно здесь? Что свершала моя душа в этом незнакомом городе, посреди чужого языка и обычаев, на краю агонизирующей, еще незнакомой мне родины?
В пустом зале ожидания я примостился у открытого окна, на широком подоконнике. Чистенькая бродяжка похрапывала на скамье, прикрывшись пуховым платком. Лицом она уткнулась в спинку, из уха торчал комок грубой ваты с семечком хлопка. Коренастый милиционер хмуро курил на крыльце, пальцы боролись с тугим воротником, одна нога на бетонном вазоне с настурциями и ноготками; он что-то подборматывал себе под нос, дым расходился медленной плетью.
Захваченный экономией, город был погружен во тьму. Единственный фонарь вдали освещал начало проулка, где исчезла моя Миньона.
Потемки обступали вокзальную площадь, на ее краю гарцевал бронзовый конник.
Я вышел спросить мента о склепе, как пройти. Тот угрюмо махнул рукой, указуя в сторону, где пропала Маришка, куда сгинул ее питомец.
Я закурил, с оторопью представляя, как подамся теперь в дебри неосвещенных улиц. Вдруг послышался знакомый грохот, он нарастал рывками, и вот под фонарь вылетела тачанка инвалида, подкатила к вокзальному крыльцу. Лыбясь, парень протянул мне что-то:
– На-ка вот, Маришка молочка прислала. Тока банку мне отдашь, не затырь.
Мент покатал желваки, скосился, закурил по новой. Молоко было жирное, три глотка сладких сливок скопились сверху. Я отдал банку инвалиду, тот обмотал тряпкой, сунул в вещмешок.
Разговорились. Маришка – сеструха его. Кормилица, торгует в Бельцах на базаре, челночит и сюда возит. Утром ему поезд встречать вместо нее. Товар прибудет. Раза за три перетаскает. Пусть, пусть поспит, любезная. Молится на нее, живет, как у Христа за пазухой, гоняет голубей, сестре на рынке помогает, сам торгует почтарями.
Вспомнив о голубях, калека заржал, показал торчащие врозь крупные желтые зубы, стрельнул у мента закурить.
– Пойду покатаюсь, – снова гоготнул, заломил в зубах папиросу, выкрутил набок жилистую шею и – вразлет, широкими качками – загремел по хорошему асфальту.
Постукивая на трещинах, он кружился вокруг памятника. Очевидно, ночное катанье доставляло ему удовольствие отвлеченного свойства. Так люди с ногами иногда любовно относятся к пешим долгим прогулкам.
Калека забубенно кружил вокруг Котовского, мент давно уже ушел, в сочном от низких звезд небе, тая в белой мути тонкого месяца, карабкался спутник…
Наконец тачанка сорвалась с орбиты, инвалид подкатил к парапету и бочком, бочком, ловко стуча подшипниками о ступеньки, гулко выкатился в зал ожидания. Вынув культи из ремней, взлетел на диван и тут же откинулся, захрапел с открытом ртом. Бродяжка обеспокоилась, зевнула.
Я пересек пустую площадь. Круглорожий атаман артистично держался в седле, готовый гаркнуть, как некогда любил, объявляя экспроприацию: «Я Котовский!» Образ народного мстителя, бессарабского Робин Гуда, черта лысого, атамана ада высился в своей литой бесчувственности. Яйца жеребца тускнели в черных крыльях паха. Бессмысленная мертвенность, веселая нелепость времени снова пучила живот комкора.
Меня замутило, густая пустота прорвала грудную клетку, засосала под ложечкой, бездна будущего разверзлась передо мной. И понял я, чем напоила меня Маришка, каким белым лунным молоком отравила…
Я стоял перед бронзовым конем, наготове шарахнуться, когда тот стукнет, громыхнет, шагнет с постамента, зацокает тяжко к склепу хозяина… Лунный свет касался моего виска, лунный луч наползал на окошечко, и вот проник, лизнул бельмо – и ополовиненный атаман, очнувшись, длинно перебирая руками, подсучивая культями, выбрался наружу, вцепился в стремя и взлетел в седло…
В следующее мгновенье я уже мчался по темным улицам, окутанным садами, бился птицей в запертые калитки, слыша рысью приближающийся топот. Но вот за низким забором, за палисадником, заросшим высоко бурьяном, я увидел дом и голубятню, взмыл…
В душной комнате, под остывающей от дневного зноя крышей, тесной от комода, шкафа с рассохшимися створками, столика и баулов под вешалкой, воздух горяч и недвижен, в окно, открытое на раскаленную дужку месяца, нет ни малейшего дуновенья. Она лежит разметавшись, теплая сырость еще не высохшего полотенца, расправленного на спинке, касается ее закинутой за голову руки, лунный свет, омывающий меня всего, обливает тонкое ее запястье, грудь и полусферу лона. Смуглая кожа отсвечивает бархатной патиной, теплая бронза течет под моей ладонью…
Вдруг топот тысяч конских ног возрос, разбил мне позвоночник, однако стал стихать одиночными всадниками, один было потоптался перед калиткой, но вот захлопала, засвистала нагайка, лошадь всхрапнула и, ёкнув селезенкой, пустилась галопом.
Утром, когда Маришка откроет глаза, солнечный голубь слетит на подоконник, забурлит горлом, распушится, замрет, помаргивая полупрозрачным веком.
Перстень, мойка, прорва
По дороге в Велегож со мной всегда что-нибудь приключается. Огромное или крохотное, но всегда такое, что потом не то чтобы не расхлебать, но несколько даже удивительно, что вообще выжил.
Вот как раз той весной и приключилось все мое будущее. Худо-бедно, но оклемавшись, могу теперь рассказать, как все было.
В середине марта первые солнечные деньки умыли мне душу. Весна, разгораясь, будоражила все вокруг. Тонким стал воздух: прорвав снежные тромбы, город звенел вовсю. Машины рассекали сияющее небо в лужах. Отраженные в них окна бились, взлетали веерами осколков, взметывались павлиньими хвостами солнечных клякс.
Пьянящий ветер врывался в рамы, как любовник под кофточку. Ноздри втягивали воздух – жадно, с трепетом, как кокаин. Вдохновленный бессознательной мечтой, я носился по городу, торопясь, изнывая от нетерпения расправиться с делами.
И вот поздним вечером, насилу со всем поквитавшись и даже успев заскочить в парикмахерскую, я был готов уже рвануть с Пресни на Можайку и оттуда по Кольцу на Симферопольскую трассу… Но подойдя к машине, ужаснулся ее внешнему виду. Не мыл я свою тачанку ровно зиму. Сейчас она стояла под фонарем – непознаваемо, беспролазно чумазая, как спаниель после охоты. Слой дорожной грязи придавал ей лишний вес и обтерханный вид раллийного снаряда. Я стоял перед машиной – обновленный весной, только что подстриженный и вымытый, обуянный мартовским воздухом, уже не сознающий ни в какую, что жизнь есть тьма, и нищета, и слезы. Я еще раз вдохнул родниковый воздух марта. На выдохе мне стало ясно: ехать так вот – не помыв коня – не то что грех, а преступленье. Машину надо было срочно в мойку – мыть, скрести и пылесосить. Пусть выеду поздно, хотя и заполночь, но в Велегож прибуду чистым, словно бы новеньким.
Единственная на Грузинах мойка работала до полуночи, и я решил, что за сорок минут успею. Мойка эта пособничала охраняемой автостоянке, располагавшейся на задворках заброшенной товарной станции, у начала бесконечного тупикового парка Белорусского вокзала. Жутковатое место. Приезжал я туда всегда по темени, как и сейчас. Так получалось. Никогда я не торопился возвращаться с работы. Одиночке дома делать нечего, кроме как спать. К тому же пробки рассасывались никак не раньше девяти. Пресненский вал – вообще гиблое место: толчея у пешеходного перехода к метро, цветочный рынок – торговцы-горлопаны, зазывалы у букетных фонтанов на обочине, автомобили покупателей наискось – кормой в бочину, не пройти, не то что проехать. Место, где Грузины и Белка-Ямские сталкиваются с Беговой улицей и 1905 года – клин с клином, суши весла, иди пешим. Место, где некое коловращение Москвы всегда – сквозь века принимает обороты, омут, тайну…
Пресня, Грузины, Ямские, сходясь, образуют своего рода московские Бермуды, которые не столь страшны, сколь таинственны. Неспроста именно здесь в течение нескольких десятилетий стояли в позапрошлом веке таборы цыган. Именно благодаря цыганам на Пресне возникли знаменитые злачные ресторации. Наследия разудалого забытья и сейчас сколько угодно в этом треугольнике, как нигде в Москве. Только здесь можно наткнуться на ласвегасовские театры, с золоченными слонами в натуральную величину напротив входа. И конечно, зоопарк – островок, провал, на дне которого, как в калейдоскопе, сгрудились осколки обитателей всего земного шара. Гам, стенанье павианов, всхлипы выпи и рыдание павлина, уханье шимпанзе, иканье лам и тигриный рык несколько лет сопровождали меня во время вечерних прогулок по Зоологическому переулку. Два года назад животных поместили в новые закрытые вольеры, и наступила тревожная тишина, которая хуже любого вопля: зверь затаился у площади Восстания.
Грузины замечательны двумя домами. Один – усадьба Багратиони, откуда по всему городу расползаются бронзовые чудища. Другой – дом Мирзахани, самый красивый новострой в Москве, чем-то напоминающий шедевры, обступившие Австрийскую площадь в Питере. Владение строительного магната представляет собой резиденцию по-восточному многочисленного фамильного клана. Выгуливая себя в той местности, я непременно выруливал к дому Мирзахани, чтобы пройти мимо парадной, отделанной искристым лабрадоритом. Пренебрегая крупнокалиберными взглядами пиджачной охраны, я вышагивал поребриком вдоль сквера, прямехонько на двух бронзовых гигантов – в объятья шебутных клоунов верхом на колесе. Я шел вдоль парковки, где можно было увидеть и «роллс-ройс», и «феррари», и «ламборджини», и ZХ, и коллекционный «мерседес» 1962 года – пока еще не переведенных «валетами» в стойло подземного гаража, спуск по спирали с торца, из-под яшмового фонтана.
Если был с приятелем, то непременно мы заходили в полуподвальный местный магазинчик – одному мне не хватало куража. Здесь в очереди у касс и вдоль стеллажей, если повезет, можно было наблюдать плавных див – наложниц дома Мирзахани. Невиданные туалеты, драгоценности, светящаяся, гладкая, как вода, кожа, неслыханные запахи иного мира – все это ослепляло и одурманивало. Невидимые, мы проходили мимо так, как проходят мимо приоткрытой клетки с тигром. Кротко косясь – на локоть, запястье, плечо – и только, мы вскладчину расплачивались за два пучка редиски и бутылку «Горьких капель». Выйдя на воздух, еще неся вокруг себя их образ и аромат благовоний, мы заходили в зоопарк и напротив вольера с застывшим хохлатым журавлем распивали саамскую водку, выделанную из особого заполярного моха, не ягеля, а какого-то редкого вида, каким олени лечатся от смертельных ран…
Да, вот такой в нашей местности стоит дом, не чета ни домам в Беверли Хиллз, ни сицилийским виллам… Сам я живу в 36-м доме на Пресне, окнами в технический палисад секретного завода «Рассвет», где взрывным методом отливают из титана лопасти то ли авиационных турбин, то ли гребных винтов подлодок. Кстати, в этом доме Маяк написал «Облако» и срифмовал Пресню с «хоть тресни». Дом я свой недолюбливаю и все мечтаю из него съехать навсегда в Велегож. Да, продать квартиру, переехать на натуру – рыбалка, картошка, охота – и когда закончатся гроши, а пенсия не светит или все еще не скоро, отправиться пешком в Иерусалим, побираясь, едва волоча, дойти – и попасть под копыта одного из всадников Армагеддона…
На той стороне, за улицей Заморенова, сидят в Гидрометеоцентре сверхсекретные всепогодные волхвы. Сидят много лет в обмороке, а в их полушариях сталкиваются циклоны с антициклонами, и расходятся по океанам морщины цунами, и штормит беспробудно Тарханкут. Меня забавляло воображать это, и я всегда намеренно давал лихой крюк мимо ГМЦ, когда шел в Планетарий. В порушенный, заброшенный Планетарий я пролезал промозглыми осенними ночами, ставил галогеновый фонарь, включал вертушку Южного полушария, садился на стопку утеплительных плит, слушал, как упорные мыши грызут по углам свитки карт звездных туманностей, выпивал фляжку коньяка с горстью засахаренной клюквы и курил, курил, курил до одурения полночи, пялясь на тускнущие вместе с аккумуляторами звезды, проползавшие над Мачу-Пикчу, над высокогорной столицей инков…
Чтоб на ту мойку попасть – следовало пройти чуть не огонь, воду и медные зубы. Во-первых, сам по себе подъезд. С Пресненского вала заруливаешь под ржавую вывеску «Мойка кузовная» – в какой-то невозвратный темный желоб. Шуганув стаю дворняг, похожих на лемуров, катишь, постепенно погружаясь выше крыши в железобетонный бруствер. Застигнутая крыса бежит наравне; сбавляя, чтоб не обагрить протектор, изумляешься до тоски, что и пасюк переходит на шаг, экономя.
Далее какие-то бушлатные ханыги пускают тебя под шлагбаум. А ну как они тебя – тюк по темечку монтировкой, и больше ты машине не хозяин. Затем сумеречно едешь чуть не по шпалам, пересекаешь бесчисленные, как годы, пути. Время от времени шныряют в потемках «кукушки», маневровые локомотивы, трубят ремонтные дрезины – знай только увертывайся; вагоны стоят безбрежно, цистерны, платформы, контейнеры – все это громоздится, накатывает, будто бы волны бесконечной штормовой ночи. К тому же хозяйство это поверх обставлено оранжевыми кранами-диплодоками, так что по временам мерещится – словно ты в порту…
И тут непременно припомнится смертный ужас – кутерьма прыжков и перебежек под чередами туда-сюда ножницами катящихся колес. На узловую станцию Урбах ты примчался однажды с другом по приволжской степи на «частнике» – на перехват ушедшего в Саратове из-под носа поезда. Глоток черной прорвы Волги под мостом, промельк пыльных окраин, звенящая степь – затяжным прыжком, визг тормозов – и благодать южного вечера рассекается шумом дыхательного спурта. Белый элеватор бешено маячит на бегу в закатном небе, как бакен – из шаланды, попавшей в бурю. Разлетается россыпь детишек, играющих в салки и на велосипедах с выломанными, закрученными вокруг уцелевших спицами. Вы врываетесь на узловую, шире футбольного поля вдоль. Вокзал на противоположной стороне, за нескончаемыми валами шевелящихся, ползущих, грохочущих километровыми раскатами составов. Стоянка поезда две минуты, сердце колотится в горле, в паху, в пальцах, вцепившихся в звенящий рельс, выжидая проход колесной циклоиды, чтоб кинуться наружу…
Неисчислимые ряды составов, свитых в клубок разъездными стрелками и запасными путями, нагроможденных в отстойниках, ремонтах, карго-складах, приводили меня не то что в трепет, но в возбужденное уныние. Их лабиринт, текший извилисто по ходу, пугал и влек. Влек властно и взволнованно, как женская нагота воздерженца. И я отворачивался прочь – в сторону протяженных складских ангаров…
Редкие, словно пустынники, безрукавные фигуры путейцев – призраки в лунной мгле – растворялись, сгущались, плыли; заслоняли синий фонарь вдалеке, пропадали. Фонарь оставался. Пронзительный, немигающий его взгляд из невообразимой дали наводил на меня ужас. Страх этот сходился с тоской, какую вызывал в детстве больничный ночник: левосторонняя пневмония, стационар, осень, вороний грай, разбитое окно в распахнутый качнувшийся кленовый парк, порхание в пике стеклянных птиц, треск ткани, звон, нежная возвышенность груди и розовый, желанный и ласковый до головокружения сосок под наполненным смугло-золотистым светом халатиком склонившейся медсестры, глубокое несчастье малолетства.
Ночами я не спал от неизвестной тоски – и этот синий фонарь над входом в карантинный бокс на всю жизнь тавром впился мне в сетчатку. Сейчас его гиблый стерильный свет как бы утягивал душу в огромный простор страны; как тогда, в детстве – в еще более нежеланное, чем неведомое, будущее – туда, туда, по рельсам магистрали: вытягивал душу, как открытый космос, вакуум насмерть высасывает глоток обитаемого кислорода.
Несколько минут вот этого железнодорожного бреда – и ты полностью теряешь ориентацию, никак нельзя представить, что ты всего в пяти километрах от Кремля. На вокзалах Москвы – вся страна, вся Европа. Любой вокзал – воронка в омуте пространства. На вокзале всегда чувствуется дрожь, тревога, словно бы на краю пропасти. Огромная неисповедимая страна вглядывается в тебя поверх путеводных лесенок, карабкающихся на полюс, уносящихся в Европу, в Сибирь, на Кавказ, – в разлив далей, безвестности, исчезновения, напасти… Ужас перед простором неодолим, как бы мы его ни перепрятывали по городам и весям; как бы ни вымещали в оторопь перед не покрываемой – и потому на деле безопасной бесконечностью Вселенной. Мне отлично понятен архаичный запрет вносить в жилище стебли ковыля. Зачем бередить будущее символом опустошения жизни простором?
Сколько раз я испытывал на вокзале эту сосущую тревогу, неподотчетное волнение, накатывающее исподволь, как влеченье на самоубийцу, заглянувшего в лестничный колодец… Стоит ведь только кинуться к проводнику, как на следующий день третья полка тихо толкнет и упокоит тебя влет – и ты очнешься навзничь от тишины: степь под Оренбургом, кузнечики, трубачи, кобылки – стрекочут, нагнетая во всю ширь густые волны трезвона, будто бьют прозрачной мощью в тугой, но ходкий бубен горизонта; солнце садится в кровавую лужу далеких перистых облаков; стреноженные кони, утопая по холку в цветистых травах, переступают, вскидывают хвосты, взмахивают гривами; поезд медленно беззвучно отплывает, вкрадчиво вступают постуком колеса – и ты вновь отлетаешь в путевую дрему, как смертельно больной в морфийное забытье. Дня через три, сойдя на рассвете с поезда где-нибудь в Абакане, ты отправишься отлить в пристанционный сортир, задохнешься, зажмуришься от аммиачной рези и обезоруженный, с занятыми руками – получишь сзади по темечку кастетом – очнешься в склизкой кислой темноте за мусорным контейнером, раскроенный, обобранный, без ботинок, в одной майке – а через месяц на вокзале в Хабаровске будешь не против за стакан клопомора и пару беломорин рассказать для знакомства, для смеху новым корешам, какой ты был в Москве справный, как ездил в лифте и машине, какая была жена, работа и собака…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































