Текст книги "Моцарт. Suspiria de profundis"
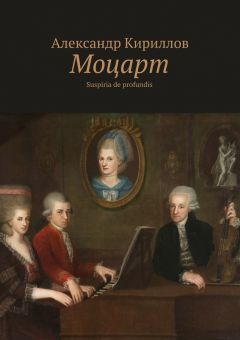
Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Время затягивает нас круговертью так называемой повседневности, а мы, как кошка на хозяйских руках, вертим головой туда-сюда, воображая себя на вольных хлебах «вольными каменщиками»: тем временем кто-то придвинулся к нам так близко, что видны поры на коже, другой нарисовался где-то там на периферии, упал на него свет – вглядываешься, а легла тень – и уже забыл. Он может снова приблизиться, даже стать для тебя всем, заполнить всё твое пространство, а может маячить на расстоянии и всю жизнь мучить своим присутствием, оставшись недостижимой, как его Лиз. Но может и явиться из сутолоки радостной встречи сквозь дрему и слипающиеся веки, как это было летом 1763 года в день их приезда в Аугсбург к дядюшке Францу Алоису, – и оказаться маленькой Тёклой, сестричкой «Bäsle», четырех лет от роду, драчливой и занозистой, к которой Вольфганг задирался, не упуская случая уязвить её или обидно высмеять. Кузина бы сумела постоять за себя, но Вольфганга почему-то смущалась и позволяла ему безнаказанно себя тиранить. Вольферль маленький тиран
Потом она надолго исчезла из его жизни, оставшись где-то там, в придуманном отцом Аугсбурге, якобы где-то существующем, провинциальном и захолустном, в котором будто бы папá родился (что бы это значило?), как отголосок смутных детских воспоминаний, связанных с дядей Алоисом. И вдруг является ему из плоти и крови, а не как нечто, скажем, умственное, безóбразное, давнее воспоминание о той дремотной постельке, случившейся на его пути в Париж.
Это Тёкла играет «Моцарта», едва касаясь клавиш, и его душа отзывается под её пальцами дрожью стальных струн. Взгляд у Тёклы невидящий, голова запрокинута, а пальцы похотливо блуждают по черно-белым клавишам. Есть места особенно любимые, и она по несколько раз возвращается к ним, в смятении погружаясь в упругую клавиатуру, щиплется, гладит, щекочет с блаженной улыбкой на губах, и снова на ощупь, с большой осторожностью пробирается дальше… Темно. Уже слепят сумерки, и как у слепых котят в её душе прорезаются глаза. Звуки уходят глубже, всё глубже – кончики пальцев горят, вздрагивают, немеют от наслаждения, и вдруг ранят, причиняя боль, впиваются до крови, царапают, колют острыми ногтями. И чем больней, тем слаще, тем ожесточенней, тем безучастней к чужому страданию – хочу еще, еще, еще…
Мне больно, пусти, – пытается она высвободить пальцы, прихлопнутые крышкой клавесина, и злится, застигнутая врасплох за игрой, подкравшимся сзади Вольфгангом. Дышит шумно, губы сжаты, вздымается грудь, взгляд дерзкий, а глаза блестят от нескрываемой любви к нему, говоря – бери, твоя. Он смеётся, и долго не отпускает, притиснув к инструменту. Ты садист, mein Gott, – морщась, сопротивляется Тёкла, – я всё поняла. А где твоя «золотая шпора»?5555
Моцарт был кавалером Ордена Золотая Шпора, которым наградил его в 1770 году папа Климент XIV.
[Закрыть] Теперь смеется онá, а Вольфганг, бледный, не отвечает. – Неужели мнение злых дураков что-то для тебя значит? Ты меня слышишь, эй! Неприятно, когда кто-то тычет пальцем в свежую рану, неприятно вдвойне, когда это человек близкий, мнением которого дорожишь. «Этот молодой осел Kurzenmantel»5656
Вольфганг обыгрывает фамилию Langenmantel (длинное пальто), Kurzenmantel (короткое пальто). Сын бургомистра Аугсбурга Лангенмантеля-старшего (1719—1790), с которым Л. Моцарт учился в одной иезуитской гимназии, а в 1737 году отправился с ним в Зальцбург заниматься в тамошнем университете юриспруденцией.
[Закрыть] [Вольфганг двумя пальцами потянул кверху подол её платья] «был очень вежлив… Он мне сказал: я действительно думал, что ноги вашей [и он скользнул взглядом по аппетитной ножке кузины, открывшейся до колена] здесь больше не будет, я даже думал, что вы обижены [Текла оправила платье] из-за той шутки на днях [и пихнула Вольфганга в грудь]. Бог мой! [сел он на пол] сказал я, вы еще молоды, но обратите внимание, у меня нет привычки к таким шуткам [притворно кривясь от боли, поднялся он с пола, потирая ушибленное место]. И, по сути, ваши насмешки [он взялся за верхнюю пуговицу камзола] не делают вам чести, вы не достигли своей цели, ибо я всё еще ношу крест [и он расстегнул пуговицу, предъявив кузине папский орден]. Я вас уверяю, сказал молодой Лангенмантель, это только мой шурин, кот… Довольно об этом», – прервал себя Вольфганг, заметив гримасу на лице кузины, и сел за клавесин. Одна мысль сменялась другой. Налетело какое-то воспоминание, звуковым облачком окутало новорожденную мелодию, теперь уже едва угадываемую. Чей-то образ вспыхнул вдруг, взвинтив нервы, – и тотчас пальцы откликнулись, и отверзся огромный черный зияющий звуковой ров, и потребовались новые силы, чтобы, карабкаясь, противостоять ему. Эта музыка кажется нам такой же естественной, как естественна для нас наша тайная духовная жизнь, которую лишь изредка, и только в кризисные минуты, вдруг обнаруживаешь в себе.
ЛИТУРГИЯ5757
Литургия (греч. Leiturgia – служба, отправление какой-то должности) в др.-греч. полисах гос. повинность, к-рую несли состоятельные граждане (напр. содержание участников гимнастич. состязаний) [Сов. энциклопедический словарь 1985]
[Закрыть] «ОГЛАШЕННЫХ»
Двери, двери!5858
Возглас: Двери! Двери! – говорит, что, как и в первые времена христианства, привратники бдительно охраняют двери храма от вторжения неверных.
[Закрыть] Этот призыв так же трудно расслышать на литургии, как и в самой жизни. Вдруг приходишь в себя, как после обморока, а кругом – выжженная пустыня и посреди неё дверь, и треугольная тень на песке. Обойти её мóжно, но войти в неё – нет. И Леопольд знает об этом, но не Вольфганг. « [Твой] визит к бургом. Longotaborro5959
Перевод на итальянский фамилии бургомистра Langenmantel (длинное пальто).
[Закрыть] совпал с моими ожиданиями. Я очень смеялся», – ответил отец. А Вольфганг сокрушается, что его «дядя, достойный и приятный человек… имел честь ждать наверху в вестибюле, словно лакей, пока я находился у великого бургомистра». Для Леопольда случившееся непохвально, но в порядке вещей: «То, что мой брат был вынужден ждать в вестибюле, мне кажется странным, как и тебе, но не Алоису. Все буржуа Зальцбурга, даже первые среди коммерсантов, обязаны являться перед мэром, и он их заставляет ждать – особенно простых буржуа – в вестибюле, порой не один час. И всё-таки мэр – это только мэр, а не царствующая особа. Тогда как аугсбуржский бургомистр – их маленький бубновый король. Люди, там проживающие, готовы засвидетельствовать ему всяческое уважение, потому что для них нет более великого правителя. Сам же он не знает, как надо разговаривать с людьми, потому что привык обращаться со своими подчиненными и с буржуа с высоты своего насиженного трона, а они – являться к нему лишь за его распоряжениями или чтобы просить о какой-нибудь милости. Точно так же поступают и так называемые знатные особы в вольных городах Империи».
Двери, двери! Пусть для всех, но не для Вольфганга. «Могу сказать, что если бы не славный г. дядюшка и тетушка, и такая милая кузина, я бы очень раскаялся, что приехал в Аугсбург». С того самого дня, как он себя помнит, обласканный знатью, дрыгавший ножками на коленях императрицы и запросто, как наследный принц (Sie ist brav, ich will sie heiraten6060
(нем.) Она славная, я на ней женюсь.
[Закрыть]), целовавшийся с эрцгерцогиней Антонией, будущей королевой Франции, – все двери казались ему настежь распахнутыми, а нет: так он и сам мог отворить их своей туфлею. «Я не упустил случая в первую очередь передать [бургомистру Аугсбурга] знаки уважения от папá. Он был так добр, что всё вспомнил, и спросил меня: как этот Господин чувствует себя всё это время? Я ему немедленно ответил: хвала Богу, очень хорошо, и, я надеюсь, что и вы равно так же хорошо себя чувствуете. Он стал после этого более вежлив, и сказал: вы; на что я ему сказал: Ваша Честь, как я и хотел сделать с самого начала… Всё прошло исключительно любезно, и я тоже был очень вежлив, ибо мой обычай вести себя с людьми тáк, как они со мной».
Двери. Двери! Леопольд уже давно не так самонадеян. Сколько он помнил себя, его место – как указывали ему – всегда было в передней, хоть изредка он и представал пред чьи-нибудь светлые очи. Всю их любезность и все их слова, льющиеся патокой, он не ставил ни в грош. «Сейчас мне пришло на ум, и я должен тебе напомнить [спохватившись, шлёт он сыну вдогонку в Мюнхен свои соображения, решив ценным советом облегчить ему пребывание среди своих земляков], что папа Климент XIV, который пожаловал тебе орден, один из знаменитых и влиятельных пап… Надо, чтобы ты [его орден] носил». Он был уверен, что это впечатлит аугсбуржцев и придаст вес его сыну в их глазах. Ему хорошо запомнились пышные чествования Вольфганга в день присуждения ему папского ордена, и общее смятение, когда слух об этом распространился среди знати, им покровительствовавшей. «Нас ждет завтра известие, которое, если это правда, вас поразит. Кардинал Паллавичини, действительно, и в этом никто не сомневается, получил распоряжение от папы вручить Вольфгангу орденский крест и диплом». Сам Леопольд был, безусловно, поражен. «Это тот же орден, которого был удостоен Глюк [ликовал он] … И можешь себе представить, Анель, как я смеялся, когда услышал, обращенное к нему [Вольфгангу]: синьор Кавалер. Ты знаешь, что в либретто оперы, отпечатанном при венском дворе, всегда можно прочесть: сеньор Кавалер Глюк. Это свидетельствует, что этот орден известен даже при императорском дворе». Это-то и ввело его в заблуждение. При императорском дворе, конечно, орден известен, и там ему знают цену, но не в провинциальном Аугсбурге. Заявитесь куда-нибудь в забытый Богом угол и представьтесь там местным жителям лауреатом нобелевской премии.
Двери, двери! «Мы тоже должны заполучить такой крестик, чтобы состоять в incorporit [т.е. стать на равных, в одном братстве] c рыцарем Моцартом [прицепился к Вольфгангу сын бургомистра молодой Лангенмантель, заметив у него папский орден „Золотой Шпоры“. Только двумя вещами можно достать человека до печенок: смотреть на него как на пустое место, когда он к вам обращается, либо досаждать ему таким преувеличенным вниманием, чтобы он почувствовал себя голым, выставленным на ярмарочной площади] … Рыцарь, мосье Шпора [наперебой окликали Вольфганга молодой Лангенмантель и его шурин], так нýжно иметь разрешение, чтобы его носить? Такое разрешение стоит дéнег? [Наседали на него два здоровых оболтуса.] Надо заполучить нам этот крестик [впились они Вольфгангу в грудь горящими взглядами]. Я пошлю кое-кого к вам, а вы, будьте так добры, одолжите мне ваш крестик на короткое время, я вам его тотчас же верну [дыша в затылок, приклеился как банный лист молодой Лангенмантель]. Это исключительно для того, чтобы я смог услышать о нем мнение ювелира. Я уверен, что если я спрошу, во сколько он оценит его (этот любопытный человек), он мне ответит: примерно в целый баварский талер [кузен отвлек на себя внимание Вольфганга, а молодой Лангенмантель вскользь щелкнул по „Шпоре“]. Он же дороже не стоит, конечно, вроде – не золотой, скорее медный. Но очень эффектно выглядит на такой, как у вас, богатой одежде».
Двери, двери! Вольфганг уходил… Либо бить, крушить, сжечь дотла поганцев, либо уйти. «Бог с вами [Вольфганг уже спускался по лестнице], это жесть». – «Но скажите, я ведь не обязан носить «Шпору?» [наступал Вольфгангу на пятки молодой Лангенмантель] – «О нет, в этом нет нужды [уходил, уходил, уходил Вольфганг], она уже и так застряла у вас в мозгах». Он всё-таки ушел, к счастью для всех нас, пока ушел, не написав в Аугсбурге, родном городе отца, ни единой вещицы, кроме сонаты, сыгранной им (как импровизация) для сестрички Тёклы на концерте.
Он только и делал в жизни, что уходил. Уходил из Зальцбурга, оставляя на дверных ручках частички примерзшей кожи от ладоней, стараясь сбросить сидящего на закорках князя-архиепископа. Уходил из мюнхенской толпы «благожелателей», которой понравилось пить и закусывать под Моцарта. Уходил из Аугсбурга, утираясь от заплевавших шею и уши нестерпимо болтливых господ аристократов. Уходил из Мангейма, из Парижа, снова из Зальцбурга, Вены, Берлина… Проталкиваясь, отбиваясь, укрываясь, отшучиваясь, «отстреливаясь», оплакивая и погребая по пути самых близких, пока и сам не был «отравлен» нетерпеливыми попутчиками, жадными до сенсаций. Смерть, его «лучшая подруга», не так спешила прибрать его к рукам, как многочисленные дружки, покровители, любовницы, ученики… «Нет пророка в своем отечестве», и нет отечества для пророка. Вспомним Пушкина: «везде была ему дорога»…И это счастье для нас, что он всегда на пути к нам.
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Предчувствие встречи, как сезонный рецидив, дает о себе знать погожим майским утром. Солнце поджаривает, словно карасей на большой асфальтовой сковородке; щеки пылают, как у тургеневских барышень, а с заходом солнца их остужает ночной ветерок в темных подворотнях или на сквозняке гоголевского бульвара под марганцовым светом уличных фонарей.
Я помню очередь в консерваторскую кассу (очередь долгую, ночную). Мы грелись в соседних подъездах и совершали глубокой ночью ритуальные пляски, промерзши до костей. Я помню жаркие лужи перламутрового солнца, перевалившего к полудню через консерваторскую крышу. Мы прятались под лепными карнизами и выступами балконов, оплывая, как свечи, беспричинным счастьем, осоловелые, но оглашенные.
Сутки жили мы в предвкушении этой встречи, поднимаясь по мраморной лестнице в толпе меломанов, сидя в сумраке зала с солнечными окнами под самым потолком.
Тревога нарастала, сгущалась, сверкая всполохами инструментов и какофонией звуков. И тут судорожным взмахом взлетела к небу рука дирижера, и…
«Милиционер родился», – проскочило в сознании.
Он сидел рядом, касаясь локтем твоего локтя, отрывисто дышал, осыпая твое плечо и колени пудрой с парика. Не скашивай глаза, не верти головой; делай вид, что ничего не замечаешь, он не любит, когда отвлекаются.
Это знает и маленькая Штейн6161
Мария Анна Штейн, восьмилетняя дочь Иоганна Андреаса Штейна, прославленного органного и клавирного мастера, изобретателя «немецкой механики». Его дочь считалась «аугсбургским вундеркиндом».
[Закрыть]. Её руки бегло снуют по клавишам, спотыкаясь о трудный пассаж, а её любимый Вольфганг, слегка шлепнув Наннетт по руке, терпеливо восстанавливает в пассаже единственно правильную очередность сахарных пальчиков. Девочка вздыхает, машинально заправляет за ухо развившийся локон и снова погружается в вереницу триолей. «Она сидит прямо против дискантов, а не посередине, чтобы иметь возможность раскачиваться и строить гримасы. При этом закатывает глаза, и ошибается. Но особенно восхитительно, когда в пассаже (который должен скользить как по маслу) надо сменить палец. Она не берет это в голову; но когда момент настает, отпускает клавишу, поднимает руку и снова удобно встраивается в споткнувшийся пассаж. Надежный способ схватить фальшивую ноту и произвести курьезный эффект». Тёкла не выдерживает и сдавленно прыскает. Маленькая Штейн поднимает взгляд от пианофорте и, повернув к Вольфгангу хорошенькую головку, о чем-то спрашивает (капризно и чуть кокетливо). В ответ слышен его ободряющий голос: «Если хорошенько поупражняться, сыграть можно всё». И он снова устанавливает в должной очередности нежные и влажные, как стебелёк, пальчики фрейлейн Штейн, и урок продолжается.
Тёкла нетерпеливо ёрзает в кресле, прислушивается – не бьют ли в соседней зале часы, и ревниво наблюдает как Вольфганг, склонившись над пианофорте, почти касается щекой маленькой Наннетт.
Как его можно к ней ревновать?
«Мне казалось, что ты уже вырос из того возраста, когда ухаживают за семилетними», – язвит Тёкла. Она сознательно убавляет год фрейлейн Штейн. В ответ Вольфганг смеётся, щиплет кузину за круглый задик, та краснеет и, поймав его руку, легко выкручивает ему за спину.
Они идут по Аугсбургу. Я с детства люблю городские улицы – их сутолоку в часы пик и сонное безлюдье на рассвете. Улица дарит нам свободу и надежду, потому что откуда-то ты уже уходишь и куда-то ещё только придешь. И это куда-то всегда кажется лучшим и, уж во всяком случае, не обманет, как обмануло то, откуда идешь.
Идешь… из духоты помещения, от неприятного разговора, с экзамена, из тюрьмы, от постылой любовницы… Улица не порабощает, ей ни до кого нет дела. Можно глазеть на витрины, можно зайти к друзьям, встретить старых знакомых или столкнуться с любимой, которую ждал полжизни. Можно затеряться в парке или пересидеть грусть-тоску в кино, или бродить здесь до вечера по бульварам, а то – достать машину и укатить в Париж, – всё можно, пока еще на улице, пока не прибился ни к чему.
Это Тёкла, конечно, затащила Вольфганга в сквер на городской площади, неподалеку от ратуши и кафедрального собора. Земля так прокалилась за день, что усохшие листья при слабом ветре скрипят о гладкие камни, точно перья по бумаге. И пока Тёкла и Вольфганг там болтают, осоловелый ветерок навевает ему золотые сны об Италии – с её погожими днями и его детским триумфом… Сеньор рыцарь – почтительно обращались к нему в доме кардинала, а им с отцом всё казалось, что это шутка… «Золотая Шпора» занозила сердце, оно трескалось и щемило в груди… «надо ехать к химзэйскому епископу, упасть ему в ноги, просить покровительства при дворе, раз есть вакансия. Да, он хочет и он делает – он еще раз встретится с курфюрстом, а что дальше? Отправиться в Италию, чтобы поднатореть в Неаполе, набраться ума-разума у maestri?.»
Ты как барышня, – возмущается Тёкла, слушая Вольфганга. – Наплюй и забудь. Меня это бесит не меньше твоего. Вот, потрогай, как колотится сердце, – и она твердой рукой прижала его ладонь к своему сердцу чуть пониже левой груди…
Ну и вечер выдался. Теплынь, тишь, благодать. Они притихли, закрыв глаза, откинувшись на спинку скамьи. Ему слышится далекий шум моря, ей – ночной стрекот цикад, втягивающий в пространство, как ночное небо втягивает россыпью мерцающих звезд. Душистое тепло солнца проникает сквозь одежду. Благовонием цветов дышит разморенное тело, дурманя сознание, пыхом улетучивается счастливое, призрачно-легкое ощущение и на смену приходит привычная одурь, спячка души. Это растление человека – это «бабье лето».
Его ладонь нежится на нагретой солнцем деревянной скамье, а в другой руке, которую приятно холодит металлическая виньетка, зажато письмо отца. «И впрямь осень много лучше, чем можно было бы желать? Здесь цены уже готовы подняться на хлеб и мукý из-за сухой погоды и жары». Текла слушает, прижавшись к нему. Кругом ни души. «Слышал, что „ты весело позабавился там с дочерью моего…“ Её ноздри слегка раздуваются, густо краснеет шея. Раскованность, приправленная острым словцом, способность краснеть на вырвавшиеся в разговоре „задница“ или более ласковое „попка“ – только усиливают его влечение к ней. Он был молодым, тот кебальеро? – В летах. – И как он тебя взял? – Врасплох: сначала сунул кольцо, потом… Тёкла шутливо дает ему подзатыльника и сбрасывает его руку колен – отстань…» – «Хочешь знать, я очень задет этим…» – «Чем же?» – «Язвительностью в письме моего отца по поводу тебя»… – «и… что ты напишешь в ответ? – „…ничего“ – „…отсутствие ответа – тоже ответ“ – „…так значит…“ – да… отстань ты, наконец! Там люди» – «Этот?» – шепчет, дурачась, Вольфганг. — Хотя бы и этот, – оглядывается Тёкла на остановившегося невдалеке тощего с бородкой случайного прохожего…
АНТРАКТ
Я оставил их на площади, на городской скамейке, дурачившихся на виду у всего Аугсбурга под закатным октябрьским солнцем. Я оставил их надолго, более чем нá год. Думаю, это были для них счастливые дни, растянувшиеся во времени по воле обстоятельств. Может быть, это последние деньки их беспечной вольной жизни.
«Ну, нет» – возмутится Вольфганг.
А всё же, давайте посмотрим.
Отца, как бы нет. Он éсть, конечно, но далеко, и даже самый хороший совет не заменит его самого. А впереди: поиск службы, сыновни хлопоты об Анне Марии, устройство в гостиницах, денежные расчеты в трактирах, торги с наемным кучером, переговоры с устроителями академий (без папá) и, как примета уже вполне сформировавшегося мужчины, – мысли о хлебе насущном и томный призрак женитьбы на пороге.
Конечно, еще нет чувства ответственности. Еще папá строчит из Зальцбурга длиннющие письма, где расписывает каждый шаг, уточняя еще и еще раз, в какой последовательности, кого и как посетить – фортепьянного мастера г. Штейна, к примеру.
Визит к нему может благотворно сказаться на организации выгодной музыкальной академии, но при этом «избегай в разговоре с ним каких бы то ни было оценок наших инструментов Gera6262
Инструменты, сделанные в мастерской братьев Фридеричи, которые были в дружеских отношениях с семейством Штейн. К.Э.Фридеричи был даже крестным одной из дочерей Штейна.
[Закрыть], ибо он ревнует». Коммерсанта такого-то, который при должном к нему внимании может написать о нем в аугсбургскую газету (так оно и случилось). К бургомистру хорошо бы явиться в сопровождении дядюшки Алоиса; и если необязательно носить папский орден «Золотая Шпора» в других городах, в Аугсбурге никогда его не снимать. (Этот совет Леопольда стоил сыну немало неприятных и унизительных минут.) Предостерегая от возможных интриг, отец дает подробнейшие советы, что говорить при встрече с курфюрстом, бургомистром, наконец, распорядителем театра. Советы на всякий вкус и по всякому поводу (не заводи ни с кем дружбы, не доверяйся никому, внимательно следи за багажом, никому не показывай денег, храни твои лекарства в ночном столике, не забывай просить слугу вставлять в твои сапоги на ночь сапожные колодки, где бы ты ни останавливался), вплоть до рекомендации тех мест, где можно дешево купить дюжину носовых платков (но не голубых, так как они линяют и неприятно раздражают грубой тканью нос). Самостоятельность пьянит Вольфганга и кажется ему уже неоспоримой, но всё-таки еще папá принимает решения, легко быть свободным под его неусыпным оком.
…Утекло много воды за это время (иносказательно и буквально) с мутными дождевыми потоками, пока 235 лист моей рукописи пылился среди прочих бумаг незаконченным.
У «СВЯТОГО КРЕСТА»
Испортилась погода и в Аугсбурге. Вместо теплых и ясных дней задождило и зазнобило; ветер пригнал тучи и холодный скупой дождик посёк опустевшие улицы. По ночам заблестела при тусклом свете площадь перед ратушей, схваченная заморозками. Застылые лица нимф на фонтане покрылись серебристой изморозью, а темные деревья поблескивают глянцевитой корой и тоненькими, будто завернутыми в целлофан, веточками, которые при каждом легком прикосновении попискивают в ледяной обертке. По счастью, Моцарты всё еще здесь, и я узнаю от Анны Марии, что Вольфганг сегодня завтракает у Св. Креста. «Я тоже была приглашена, – кутается она в плед, – но из-за этих холодов у меня болит живот, и я осталась дома. В Зальцбурге такой же холод как здесь, где всё замерзло, будто пришла зима».
Вольфганг и Текла, продрогшие до костей, жмутся друг к другу под высокими сводами полупустого собора. Пальцы у Тёклы ледяные, они чутко вздрагивают, крепко стиснутые ладонью кузена, изредка выскальзывая из неё, чтобы она могла осенить себя крестным знамением. Их головы почти соприкасаются. Её милое лицо с пухлыми губками и преданным взглядом отчетливо видно мне сквозь яркий свет настольной лампы, и я, так же ёжась от утренней сырости, перебираюсь к ним поближе. Переместиться в собор для меня дело совсем нехитрое. Для этого не надо мне никаких особых усилий – он всегда у меня перед глазами: я делаю мысленно шаг, и уже там, среди прихожан, как если бы прикрыл за собой массивную железную дверь.
Дети-служки, серьезные и ловкие, помогая священнику на протяжении всей мессы, неспешно двигаются в пределах алтаря, замирая, опускаясь на колени, исчезая, и вдруг снова появляясь, с деловитостью и ненавязчивостью официантов или частных детективов. Месса закончится, и они, переодевшись, аккуратно сложив церковные одеяния, прошмыгнут в толпе прихожан к дверям храма, шушукаясь и толкаясь, как все мальчишки в мире. А мне… Мне так сейчас хочется за ними… догнать, напроситься в гости, оказаться в их доме, сесть за один стол – чем живут, что едят, о чем говорят… Легко сказать. С частным жилищем дело обстоит много сложнее, туда так просто не попасть.
Я долго стою в кромешной тьме, пока не проедет чья-нибудь карета и не высветит мне незнакомую улицу. Тогда я напрягаю зрение, разглядывая фасады зданий, я ищу нужный дом с табличкой Нr. Stein. Горожане расходятся после мессы, когда уже совсем рассвело. За окнами в доме Штейнов слышен оркестр… «Это было 19-го, – напишет отцу в письме Вольфганг, – мы репетировали несколько симфоний для концерта. Затем я завтракал у Св. Креста с моим дядей. Во время завтрака звучала Musique. Как ни плохо они играли на скрипках, монастырская музыка мне нравится всё же больше, чем аугсбургский оркестр».
Я так ясно себе представляю этот завтрак. «У нас хороший оркестр», – утверждает Лангенмантель-старший, поднимая бокал. «Мне приходилось слышать и хуже», – с вежливым поклоном отвечает бургомистру Вольфганг.
Он в потертом перелицованном сюртуке с плохо выведенным пятном на обшлаге. Увлекшись разговором, может, как ребенок, макнуть рукавом в тарелку, опрокинуть рюмку и не заметить, или машинально потереть салфеткой испачканное место. Конечно, он краснеет, злится, если замечает это за собой, и тем сильнее злится, чем старательней пытаются скрыть своё смущение окружающие. Выручает музыка. Как только добрался до пианофорте и пальцы легли на клавиши – он хозяин: он и курфюрст, и капельмейстер, и архиепископ, и богач, красивый и статный, с торсом Аполлона и манерами царедворца. Легкое вино согревает, в зале шумно и весело, лица гостей улыбаются, все учтивы, радушны и предупредительны.
Располагайтесь и вы среди них – senza far ceremonie – это так легко, стоит лишь захотеть. Ведь вы бывали в мемориальных музеях, где сохранилась подлинная мебель хозяев, пусть и столетней давности. Помните этот чарующий запах потертой материи на креслах и кушетках и особый дух сухой древесины, холодных стен и потолков, осиротелость пустой посуды на банкетном столе и китайский фарфор в шкафах, едкий спиртовой амбрé, исходящий от натертого паркета. Почему-то в мемориальных комнатах всегда полумрак и прохладно даже в самый солнечный и жаркий день. Случайный косой луч облюбует ближний от окна угол или дальний – за рабочим бюро, и замрет там, пока не угаснет. В такой квартире всегда нега, тишина, покой. Вечности там уютно, как уютно в доме, где прошло детство. Это твоя вечность. С нею ты опять можешь стать мальчишкой, из неё никогда не уйдет твоя мама, и так легко там столкнуться лицом к лицу с Моцартом.
Он играл целый день 19-го в монастыре Св. Креста. Гости вместе с настоятелем сидели кружком в нескольких шагах от оркестра. С монастырскими музыкантами Вольфганг сыграл симфонию и скрипичный концерт Ванхалля, и уже ближе к ночи за ужином свой страсбургский (никто так и не знает – это четвертый или пятый из его скрипичных концертов, а живых свидетелей этого вечера, как понимаете, увы…).
По просьбе настоятеля принесли маленькие клавикорды. Его стали забрасывать темами для фуг, а он с легкостью парировал их, как искусный фехтовальщик. «А я бы хотел еще услышать напоследок эту сонату, – и настоятель взял из рук монаха приготовленные ноты, – она сложна, правда, своим многоголосием, но я думаю…» – «Да, это уже слишком, – признался Вольфганг, – я не смогу сыграть эту сонату вот так сразу». – «И я так полагаю, – согласился настоятель, всей душою радеющий за Вольфганга, – нет такого музыканта, которому это было по силам». – «А впрочем, – сказал Вольфганг, подумав, – я всё-таки попробую». Настоятель сидел позади него и, слушая игру Моцарта, восхищенно причитал: «Ах Ты, архиплут! Ах Ты, мошенник! Ах Ты, Ты!»
В одиннадцать стали расходиться. Всегда грустно, когда что-то подходит к концу – вечер, силы, любовь, жизнь… Разъехались гости, погашены свечи, слуги унесли остатки ужина. Вольфганг подошел к клавикордам и пальцем ткнул в клавишу. Потом присел на краешек стула, легко пробежал трудный пассаж. Гоняя пальцы по клавиатуре туда-сюда, пытался выудить из сталкивающихся звуков тему, но едва наметил её, вертел и так и сяк, будто ощупывая, процеживая, прицениваясь – и вдруг одним росчерком пальцев закрепил её и, ухватив за хвост, вывернул наизнанку: она вздрогнула, забилась под его пальцами, но теперь – всё, попалась, голубушка, не уйдешь… Кто не слышал его импровизаций, тот не слышал Моцарта. Так говорил он сам, так говорили его друзья, и все те, кому хоть раз довелось присутствовать во время его импровизаций. Поразительно, что речь шла о композиторе, в послужном списке которого сотни гениальных сочинений.
Мне не пришлось его слышать – невосполнимая утрата или нет? Или нам всё же осталось что-то: пусть намек, что угодно, нам бы только вполуха, одним глазком, как во сне – дай это, Господи, раз не было в те времена магнитной пленки. Пусть бы сквозь шум, треск, шипение стершихся валиков мы бы услышали обрывки его импровизаций прямо из первых рук.
Конечно, мне возразят, что запись, оставленная на магнитной ленте, передаст нам манеру, стиль, вкус исполнителя, но – это как бы на уровне губ или кончиков пальцев. Живое дыхание, высокий накал сиюминутности, когда звук зависает и звучит в случайно встретившихся взглядах и, отраженный душой, благодарно возвращается к творцу – такое не зафиксирует ни одна магнитная лента. Как «морзянка» – содержание донесено, обаяние и пыл остались на том конце провода.
Я вспоминаю своё первое впечатление от игры Рахманинова (записи 30-тых годов) – сухость, скупость, ускоренные темпы; никакой романтики, поэзии (а мне тогда было 14), никакого парения – жестко и просто сыгранные концерты. Меня это поначалу разочаровало. Только спустя годы я смог оценить глубину, ясность и скрытую мощь его игры, её затаенный драматизм, дофантазировав именно то, что не смогла запечатлеть магнитная лента.
Пианист еще не начал играть, прикрыв на миг глаза, а ваша душа уже знобко вибрирует, томясь ожиданием, она готова принять в себя первые упавшие со сцены «звучащие зерна», из которых вот-вот даст побег либо томный ноктюрн, либо соната, либо фортепьянный концерт. А чего душа ждет, сама не знает. Ты на пороге тайны. А тайна манка, привлекательна и непостижима для разума как первородный грех, через который проходит всякий смертный, шагнув из рая детства в мытарства взрослой жизни, из детского ощущения бессмертия в борьбу за выживание со смертельным исходом. Это тайна великая. Есть самая великая – Бог. А есть тайны маленькие, как, например, актерский талант Михаила Чехова.
С маниакальным упорством пытался я проникнуть в его тайну, в тайну его знаменитых ПЖ (психологических жестов), заставлявших публику вздрагивать от ужаса или смеяться до колик. Я с жадностью вслушивался в рассказы очевидцев (вы его видели, Боже, расскажите), боясь упустить малейшую деталь из их сбивчивых воспоминаний. Я расспрашивал, выспрашивал, я мог донимать счастливца часами, выуживая всё, что сохранила его память о Михаиле Чехове. Мне удалось узнать много: и в чем он был одет, и как дурачился в «Гамлете», отвернувшись от зала к партнерам, строя им рожи в те самые минуты, когда публика, видя только его спину, – плакала; как он накладывал на лицо грим; его ученик имитировал для меня интонации его голоса; я узнал, где он жил, что пил и чем опохмелялся, кого любил, как острил, чем болел; мне были известны его приступы меланхолии, его едкие ответы Станиславскому на репетициях, его «квадратный» арбуз в «Ревизоре»; вплоть до детских фотографий, где он сидит на коленях у А.П.Чехова… И я не узнал ничего, не узнал его главной тайны – обаяние его таланта.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































