Текст книги "Моцарт. Suspiria de profundis"
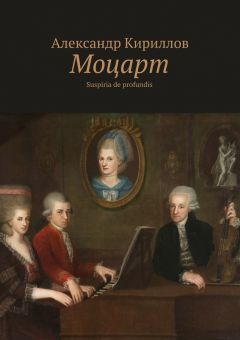
Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Но где всеобщая глухота, там и всеобщая слепота, поражавшая художников, и не только в случае с портретом, о котором шла речь, но и во всех прочих изображениях Вольфганга – от самых первых детских. Вы не найдете среди них и двух (написанных почти в одно и то же время), где бы он был похож сам на себя; или хотя бы их схожесть между собой позволяла бы предположить, не прибегая к подсказке под снимками, что это одна и та же личность.
Французский художник Кармонтель пишет акварелью «Леопольд, Вольфганг и Наннерль в 1764» (музей Кондé, Шантиль), и чуть ли не в тот же день набрасывает рисунок «Леопольд и Вольфганг в 1764». Один и тот же художник, те же Леопольд и Вольфганг, но… На акварели Вольфганг выглядит четырехлетним птенчиком, ножки которого, как у куклы, едва свисают с сидения; на рисунке же – это пятнадцатилетний парень, упирающийся ногами в низкую подставку, убери которую, и его ноги свободно достали бы до пола. Как это понимать? На акварели – это «пупса», восторженная кукла с клоунской улыбкой, так и кажется, что переверни его сейчас на спину, он закроет глазки и останется лежать с ручками и ножками, согнутыми в локтях и коленках, а верни его в прежнее положение – пискнет «мама». Смотрим на рисунок: коренастый парень, с итальянской внешностью, чем-то напоминающий молодого Челентано. А год всё тот же (впрочем, Леопольд на рисунке и акварели одинаков).
Вот, словно из овального зеркала, смотрит с картины Ж. Б. Грёза ангелочек-Ульянов (только вместо кудряшек – парик) с выражением невинно убиенного царевича Дмитрия. И вот портрет кисти Пьетро Лоренцони (?) «Вольфганг в парадном костюме» – толстая ряшка старообразного уродца семи лет (если смотреть только на лицо – И.С.Бах в преклонном возрасте), пузатенький, на кривых ножках, румянец во всю щеку плоского широкоскулого лица. А у Я. ван дер Смиссена перед нами хорошенький мальчик, словно с красочной коробки монпансье, в парике французских королей, пышном, ниспадающем золотисто-вьющимися кольцами на плечи. Большие миндалевидные глаза, чуть вздернутый девичий носик, рисованные губки. Он смотрит на вас несколько удивленно и капризно, с выражение избалованных вниманием красавиц, фавориток, принцев, богатых наследников, привыкших к поклонению и к любопытным взглядам.
А перевернув страницу, натыкаемся глазами на портрет Саверио делла Роза «Моцарт в Вероне (1770)». Моцарт как бы играл на клавесине, а его как бы окликнули, и он, не сняв рук с клавиатуры, обернулся на художника. В этом неестественном от долгого позирования, ракурсе, якобы мимолетно схваченном художником, он и запечатлен. Глаза сочатся, словно сосульки в капéль; губы подморожены улыбкой. Нос длинный, глаза узкие, по-монгольски раскосые, мягкий подбородок. Дамочья припухлость вместо скул, паричок жиденький, гладенький, зализанный, – не то мальчик лет четырнадцати, не то сорокалетняя дамочка, любительница сладостей и комплиментов. Выражения никакого – одна окаменелость, остекленелость.
И на той же странице под этим портретом: «Принятие Моцарта в Болонскую Академию» (тот же 1770). Трое молодых людей бездарно разыгрывают в картине дурно сочиненную художником сцену. И дело тут не только в нарочитом позировании фигур, не знающих друг о друге, но и в явном нарушении перспективы в картине. На языке музыки – это похоже на трио, составленное из самостоятельных арий, надерганных из разных опер и насильственно объединенных в один ансамбль (так называемый кошачий концерт). Кто же из этих троих Моцарт? Это еще надо попотеть, чтобы угадать (именно, угадать, а не узнать), хотя у нас перед глазами (под снимком картины) фотография его портрета, в том же году написанного. И угадать тут не просто, его можно только вычислить от противного – это не он, этот тоже не он, значит, если Моцарт, как пишут, изображен на картине, – то вот он. Поэтому решусь предположить, что Моцарт, вероятно, сидит слева в торце стола, тот, который в профиль, справа – явно кто-то постарше двух остальных, предположим, профессор Академии, а в центре, в черной сутане (Моцарт не был посвящен в сан) один из соискателей почетного звания. Итак, Моцарт слева и самый молодой (14 лет), и вид у него почтительно просительный. Левую руку он прижимает к груди – жест молящий о снисхождении к его ответам, а правой протягивает экзаменатору лист исписанной нотной бумаги. Зауженная (дыней) кверху и книзу голова, покатый лоб, крючковатый нос, безвольный подбородок – образуют профиль узкий и острый, как секира, с узкими надрезами вместо глаз – и это всё Моцарт.
Пожалуй, только посмертный его портрет работы Б. Крафта, может быть, близок к оригиналу, но на то он и посмертный. Живой Моцарт не дается никому. Он постоянно мистифицирует окружающих, как на карнавале: пересмешничает, обезьянничает, меняет личины. Вóт он, только что был рядом, и вот уже голос его где-то за тридевять земель. То он серьезен, печален, пронимает всех до слез и тут же осыплет бисером хохотка, как брызнет в лицо водой. Там покажет язык, тут на вас глядит сама скорбь. И в письмах, и в свидетельских показаниях, и в музыке – неуловим, неизъясним, необозрим – оборотень: ни Дон-Жуан, ни Командор, ни Фигаро, ни Альмавива; и Дон-Жуан, и Командор, и Фигаро, и Альмавива, и донна Анна, и Сюзанна, и Мазетто, и Тамино, и Церлина, и Папагено, и Керубино – всё это он, и он – никто. У него нет ни однозначного лица, ни однозначного имени. От его полного имени Иоганн Кризостом Вольфганг Теофил Сигизмунд в неизменном виде остался только Вольфганг. Иоганн Кризостом канули в небытие. Конфирмационное Сигизмунд, изредка всплывавшее в его ранних письмах из Италии, отпало незамеченным. А Теофил, что в переводе с греческого означает Боголюб, видоизменялось на протяжении его короткой жизни то в Готлиб (по-немецки), то в Амадеус, что тот же Боголюб, но уже по-латыни. Его болезнь не имела однозначного диагноза. У него нет своей могилы, не осталось свидетелей его погребения (карета сдвинулась с места и покатилась в сторону кладбища; кто-то проводил её до околицы и отстал, глядя, как она удаляется под мелким колючим дождем (а кто-то утверждает, что день был ясным и солнечным) и исчезает в туманной мороси, как в пучине, навеки. Куда она исчезла, доехала ли до кладбища или растворилась в мутной тяжелой влаге дождливых сумерек – кто нам теперь скажет, нет свидетелей… Никто, кроме Всевышнего и всезнающего сердца. Не верьте всем портретам в мире, всем описаниям, всем свидетельствам, документам и фотографиям (если бы таковая была, думаю, и она оказалась бы размытым мутным пятном, как дагерротип Шопена) – смотрите во все глаза, и да имеющий их – увидит…
День выступления французской пианистки назначили сразу же, как только она получила от Вольфганга ноты его нового сочинения. Всю свою тоску, страсть и надежду вложил он в этот концерт для м-ль Женом – он вырвется на волю, его опять оценят в Париже, как это было в детстве, и вознесут. Вóт чем была для него м-ль Женом и этот концерт, двинувший его как музыканта на много лет вперед.
Итак, в Париж! Тогда, в Зальцбурге, приступая к сочинению финала концерта для м-ль Женом, он еще только предчувствовал эту дорогу: из-под домашнего крова под кров небесный. Но спустя год с небольшим, уже в Париже, он поминал её как свершившийся факт в финале а-moll’ной сонаты. Черное небо – чисто, стерильно, как в операционной, как стерильна смертельной бледностью ампутированная голова луны… Листья пожухли, осыпались, деревья обнажились и поблескивают, точно скелеты, в холодном лунном свете. Призрачный город, призрачный мир… – я слушаю presto a-moll’ной сонаты. Сухо, жестко, как в трескучий мороз, звучит в её финале искаженная тема финального presto концерта Es-dur, – коротко, сдержанно, графически скупо, без отступлений и лирических признаний концерта, без его рондо с менуэтом и чувственной стихией, из которой вдруг возникает удивительный и нежный облик – чей? Сначала лишь промелькнул, пахнув терпким хмелем, и снова показавшись, задержался – и вот уже захватил, заслонил собою всё… М-ль Женом кружится с ним, их пальцы соприкасаются, искрят. Легкая испарина пропитала её тонкое белье, благоухавшее свежестью вымороженной ткани – это всё трется, шуршит на ней, стягивает, топорщится, источает только ей одной присущий аромат – и кружится, кружится, кружится… Где-то сказано – в письмах? в воспоминаниях? чьих? – он еще раз встретится с ней в Париже. И это будет их прощанием. Значит, а-moll’ная соната – это тройное прощание: с матерью, там умершей, с м-ль Женом, за которой он бросился следом спустя полгода, сжигая за собой мосты, обольщенный её женским обаянием, тяжестью её приспущенных век, из-под которых струился отруйный взгляд, и – с тем юношей, максималистки настроенным, написавшим когда-то этот концерт для м-ль. Но что стало с душой, его сочинившей. Её пахучий, нежный, как крылышко бабочки, ярко зеленый и сочный листок – потемнел, кожисто заблестел, стал жестким, ломким, горько пахнувшим темным соком, въевшимся в пальцы…
Но до этого ещё далеко. М-ль Женом сейчас за клавиром в окружении оркестра. В паузах, когда оркестр солирует, она, горбясь, склоняется над инструментом и дышит на руки, отогревая замерзшие пальцы. В зале холодно, окна дворца прихвачены снизу наледью. Ежатся соседи, ежится Вольфганг. Иеронимус Коллоредо, князь-архиепископ, сидит отдельно в кресле у изразцовой печи – ему тепло. В решетчатые окна бьет яркое январское солнце. Вольфганг слепнет от жгучих лучей, и тогда сквозь золотистую пелену прорисовывается опаленный солнцем абрис женской фигуры, склонившейся над клавиром.
Еще очень далеко и до заключительного tutti, и до звучного плескота аплодисментов под сводами Мирабель, летней резиденции архиепископа. Его светлость скучает, рассеянно поглядывая на зал. Свесившейся с кресла рукой машинально тянется к горячим изразцам, обжегшись, тут же отдергивает пальцы.
Вольфганг ерзает, по ногам гуляет сквозняк. Если бы не теплая ладонь матери, время от времени ласково сжимающая ему руки, они бы тоже окоченели.
В лице Анны Марии, недоверчивом и настороженном, есть что-то птичье: беззаботное, неунывающее, беззащитное, – и в узко посаженных глазах, и в маленьких губках сердечком, еще недавно целовавших его по утрам. Таким это было счастьем – доспать в постели матери минуты, оставшиеся ему от утреннего сна, сбросив все ночные страхи и дурные мысли с той же легкостью, с какой он сбрасывал с себя одеяло, кинувшись в родительскую спальню. Зарыться там носом в подушку, и спать – так сладко, так крепко, как спится только в детстве. Пригрев его, мать уходила. Ему слышался за дверью её голос, отчитывавший Трезль, и бубнивое отпирание служанки. Медленно падали за окном хлопья. Сквозь разбухавшую дремоту тонкой струйкой, как в песочных часах, утекало в ничто иссякавшее сознание; и с последней утекшей песчинкой – он засыпал. Детский сон, что бездумное почивание в блаженной тьме материнской утробы, и каждое утро – заново рождение на свет Божий: всё в новость, всё в радость, всё как в первый раз. Безболезненно вспарывается светом утроба тьмы и бездыханное «я» заряжается его энергией: в доли секунды свет творит тебя и – через тебя – всё видимое и невидимое. Мать садится на постель, дует ему в ладошку; он обхватывает её руками, прижимается, замирает и даже зажмуривается… И только смерть (по его мнению, подлинная и лучшая подруга) да мать никогда не оставляли его без утешения.
Рука архиепископа боязливо касается обжигающих изразцов, сжимается в кулак и уже барабанит по глазурным плиткам сухими длинными пальцами в такт музыке. Глубокая пёсья печаль на лице. Глаза неподвижны, широко раскрыты, но внутренний взгляд блуждает, и от этого зеркало глаз запотело, как стекло в бане.
Что ему грезится под звуки Аллегро: бликующего, задыхающегося, кружащего голову и вдруг зависшего на взлете, когда сердце ухает в бездну из ледяных мурашек, а вы парите – бездыханны, бестелесны, в пустоте, в безмыслии, с одним только предчувствием – вот оно, здесь, совсем близко? Отсюда этот жар, этот нерв, этот полет и полуобморочное замирание: молчу, молчу, но ведь вот оно, чувствую, слышу, вижу!..
Княжеская кисть, вздрагивая и шевеля пальцами, упрямо жмется к голубоватым изразцам и, обжегшись, снова тянется к ним, словно мохнатая ночная бабочка бьется об огненное стекло лампы. Князь хмурится, опускает голову, рассматривает ткань своей мантии, носки туфель.
Угол его зрения расширяется, захватывает пол, стены, и вот уже забилась в сетчатке его глаз м-ль Женом за клавиром – истомленная, раскачивающаяся, с приспущенными веками; её пальцы пенным гребнем прокатываются по зыблющейся клавиатуре, зацепившись за крайние клавиши, скользят по ним, точно ноги на крутой скользкой горке, съезжая и замирая затухающим тремоло. Князь откидывается в кресле, прикрывает рукой глаза и вдруг, скакнув мизинцем к носу, быстро, но глубоко, ковыряет в ноздре. Его длинный пуделиный нос розовеет.
Вольфганг косится на отца. Лицо Леопольда невозмутимо: красивое, может быть, чуть надменное. Оно оживляется лишь при общении с сыном, обнаруживая за непроницаемой миной скрытый темперамент. Саркастические отблески нет-нет да и отразятся в его больших, якобы сонных, умных глазах, будто оскоминой прихватив дрогнувшие губы. Архиепископ проницателен, он не случайно не жалует Леопольда своим вниманием.
Вольфганг переводит взгляд с отца на князя. Одежда архиепископа подавляет своей роскошью. Он мысленно раздевает князя, освобождая его сиятельное узкоплечее тело с впалой грудью и округлым нагулянным животом от красивой обертки, и спрашивает себя, чем князь заслужил неограниченную власть унижать их? Кто дал ему право их презирать, высокомерно обращаться с отцом, превосходящим его познаниями, набожностью, великодушием?
Да не будь князь князем, никому бы в голову не пришло даже сравнивать их между собой. «После Боженьки на втором месте Папá», – сказал бы раньше Вольфганг. Но отец больше не был для него тем всесильным Папá, который мог защитить его от всех и всего на свете. Теперь – после Боженьки – на втором месте, к несчастью, был князь.
Зал тонет в сумерках. Стремительно, галопируя, бегут по клавиатуре пальцы м-ль Женом. Их бег сопровождают бесстрастно онанирующие смычки оркестрантов.
И что-то говорит ему – всё кончено, Вольферль, прощайся. Той жизни, всей их прежней зальцбуржской жизни с семейными путешествиями, праздниками, княжескими выволочками, поздним музицированием и неизменным украшением их вечеров «Bolzlschießen»99
«Стрельба в цель» – вид досуга, развлечение, принятое в домах Зальцбурга, и очень любимое в семье Моцартов. Стреляют в мишень, специально для этого нарисованную и представляющую собой чаще всего сцену из повседневной жизни; во время игры делают небольшие ставки.
[Закрыть] – пришел конец. И случится это тут же, в зале дворца Мирабель, с последним tutti оркестра, с последним отзвучавшим аккордом клавира.
Угол у окна пуст и чёрен от густой и яркой тени. Она отсекла его от остальной части кухни: там черный провал, где он хоронился от домашних, его детская могила. И кухня пуста, и коридор пуст, и комната матери (к чему он уже привык – свыкся), но и комната отца опустела – и пустотело пылится, как закатившаяся за холодную печь яичная скорлупа. Книги, отцовский халат на вате, его скрипка – оставлены, брошены, никому не нужны и пылятся, без нужды оброненные на пол… И это говорит не о том, что он вышел и вот сейчас войдет, или уехал и в конце концов вернется и вдохнет во всё это жизнь – нет, этого уже не будет, этому конец. И как тихо в доме. Тихо – даже злая осенняя муха не жужжит, ошалело торкаясь о стены, не бьется, щекочась, в стекло. Дом безучастен ко всему, как опустевший накануне варварского набега древний город: сжигайте, разрушайте, растаскивайте, разграбьте всё.
Зал почтительно затихает, как бабочка, застывшая на крышке клавира, сложив крылья; складывают смычки и оркестранты – одиноко звучит в тишине каденция Andantino. Единственный концерт, где он, не доверяя пианисту, вписал собственные каденции в партитуру. Ничего он не хочет отдать в этом концерте другим – он и только он, оставшись один на один с клавиром, как бы еще раз обводит прощальным взглядом их дом-нежилец. Здесь ничего еще не тронуто временем, еще всё на своих местах, и так же, как обычно, в ясный зимний день луч солнца ложится на крышку клавира, ослепляя пианиста; звонко, звуковыми фонтанчиками, бьют из-под пальцев короткие трели…
М-ль Женом продолжает сидеть, наслаждаясь тишиной, опустившейся на зал с последним tutti оркестра. Так туман опускается на оцепенелую предрассветную землю.
Когда она поднялась, всё уже двигалось, рукоплескало, теснило Вольфганга, обдавая его терпким запахом духов. М-ль Женом издали цепляла его взглядом. Он ощущал на себе её крепкие, хваткие руки пианистки. Им владело странное, противоречивое чувство. Не без холодной иронии отметил он в её сутуловатой фигуре простолюдинки проявление угодливости в отношениях с князем. Но её глаза, прозрачные до зернышка зрачков, словно переспелые виноградины, хамелеоновские глаза – из зелени вдруг голубеющие до влажной небесной лазури, едва их тронет чувство – полуобморочные глаза наркоманки как бы говорили Вольфгангу: не верь мне, я твоя, милый Вольфганг, слышишь, только твоя, смотри, не упусти. И её осанка была уже царственной, и в мимолетности дежурного поцелуя, при встрече и прощании с ним, чудилось такое, что даже мочки ушей немели от восторга.
М-ль Женом покорно уходила вслед за князем-архиепископом, примкнув к его свите, а Вольфганг был вынужден остаться в толпе гостей и невпопад отвечать настырной барышне Луизе Робиниг фон Роттенфельд. Перед ним стояла хорошенькая злючка с брильянтовой «короной» на гладко зачесанных за уши волосах. С головой совы, орлицы или другой пернатой хищницы – в лучшем случае, в худшем же – с головой ощипанной курицы, надутой и зазябшей до посинения, в красном платье с глубоким декольте, кружевными рукавами и белой шалью, завязанной узлом на груди.
Когда-то, будучи мальчишкой, он был влюблен в неё. В своих письмах к сестре из Италии он, как бы невзначай спрашивая об общих друзьях, интересовался и Луизой Робиниг. И эта напыщенная, воображалистая девица ему когда-то нравилась – чем? Он страдал от каждого её холодного взгляда, пустого слова, брошенного как подачка в его сторону. Но чем напыщенней и воображалистей она была, тем, казалось, еще сильнее нравилась ему, становясь для него всё более недоступной, загадочной, почти неземной. Но с недавних пор всё переменилось. Теперь уже она сама искала его внимания – настойчиво, с плохо скрываемым раздражением «бывшей фаворитки», потерявшей свою власть над чувствами властелина. Она буквально лезла ему в глаза всем своим богато убранным телом, как бы желая этим восполнить весь свой неизрасходованный на него капитал её девичьих чар. Но он, слушая, не замечал её. И Наннерль незаметно толкала его в бок, а Анна Мария, добродушно подшучивая над сыном, забрасывала фрейлейн Робиниг вопросами, деликатно отвлекая её от слишком вольного поведения Вольфганга.
Тем временем зал пустел. Завтра здесь полупьяные музыканты опять сыграют какой-нибудь лёгонький дивертисмент или кассацию. Брунетти, под шумок общего разговора, прокантиленит, пропиццикатит под сурдинку один из его, Вольфганга, скрипичных концертов, а он будет сидеть без дела среди публики, корчась от фальшивых нот, извлекаемых нетвердой рукой кого-нибудь из оркестрантов, словно на свадьбе или похоронах. И на самом деле на похоронах его музыки, его карьеры и его самого.
Холодный белый свет заливал улицы. Отрывистая немецкая речь, неторопливые шаги… «Kinderfräulein… Leben Sie wohl, wir sehn uns wieder»1010
(нем.) Гувернантка… Всего вам хорошего, до встречи…
[Закрыть]… Закат ослепительной зеленью дырявил окраинные проулки. В слепоте сумерек их обогнал экипаж. Вольфгангу почудилось в окне кареты лицо м-ль Женом. Он прибавил шагу, но все воспротивились, шли медленно, наслаждаясь тишиной и покоем ясного морозного вечера.
У дома неподвижно чернела обогнавшая их карета. Лошади топтались на месте, понурясь и всхрапывая в темноте. На высоких козлах как колодезный журавль клонился тяжелой головой старый кучер. Окошко кареты зашторено: в него подглядывают изнутри экипажа, наблюдая за улицей.
Зимой темнеет рано, но горожане обычно не спешат зажигать свечи. У Моцартов освещены все окна: тени ложатся на занавески бесформенными пятнами, неожиданно фокусируясь в четкий черный силуэт. Это Наннерль смотрит сквозь занавеску на улицу – долго и неподвижно; и как подошла, так же стремительно уходит. Леопольд пробивается к окну боком, крадучись, и мягко упершись удлинившейся макушкой в верхний край занавески, всё уплотняясь, усыхает, сморщась до мумии, до её каменноугольной черноты, и так же, как и Наннерль, надолго застывает в нижнем углу окна резким черным профилем.
Сбивчиво тарахтя колесами по бородавчатой мостовой, проскрипел почтовый дилижанс, спугнув цапавшихся при дороге котов. Отпрыгнув, коты замерли под окнами дома с разинутыми ротищами, подобно галантным кабальеро с уже готовой сорваться с губ серенадой. Дождались, когда дилижанс проехал, и вдруг тягуче, с упоением, почти соприкасаясь озверелыми мордами, завыли медовыми голосами, то затихая, то раскаляясь от избыточных децибел, угрожающе нараставших, отчего их буквально сотрясало. Причем один как сидел, так и продолжал сидеть загадочным сфинксом, растягивая в улыбке вопящий рот, а другой – медленно, со скоростью раскрывающихся лепестков бутона, двигался мимо него, явно проиграв, но соблюдая при этом (что так присуще политикам, дипломатам и женщинам) хорошую мину. Ни разу, – и этот нюанс особенно разителен, – коты не взглянули один на другого.
Метнувшаяся от подъезда тень внезапно оборвала их задушевно-удушливый дуэт. Коты, утробно рыгнув, разбежались. Дверь кареты распахнулась, и тот, кто ввалился в карету в клубах холода, – без шляпы, в концертном костюме, – обжег лицо м-ль Женом горячим дыханием. Кучер, чмокнув, дернул за вожжи и пустил лошадей легкой трусцой.
М-ль Женом улыбалась, сжимая в ладонях его голову. Он так и не осознал, чем же его прельстила эта женщина с матовыми веками, смежающимися, как у птиц. Ему казалось, что лошади не мчались, а, топчась на месте, били о землю копытами. Хотелось крикнуть кучеру: догонят же, опознают, вытащат из кареты и вернут назад! Князь ловко подцепит ухо двумя пальцами и будет крутить его до красноты, до крови. Папá – смотреть на это и беззвучно плакать. Анна Мария безропотно прикладывать примочки. Наннерль испуганно подглядывать из-за двери, а он – ждать минуты, когда окажется один, чтобы, открыв окно… Воображение, с головокружительной явью потянувшее вниз, заставило мысленно отшатнуться. И опять он в чадной квартире, откуда ему видна только галерея соседнего дома да собственное отражение в стекле. А за окном та же вязкая тина сумерек и то же жалкое сумеречное освещение, от которого слезятся и болят глаза. Ворчливый Леопольд снова листает книгу, засадив их разучивать новый квартет, морщится, тычась носом в партитуру: «Ох, глаза, мои бедные глаза», и минуту спустя: «Ох, глаза, бедные мои глаза». И весь вечер – «глаза, глаза, глаза». Что же это за счастье пробудиться однажды и решить для себя – я сегодня уезжаю. Не буду больше спать на этой чёртовой кровати, все пружины которой так изучены боками, что могут проскрипеть любую мелодию. Сколько ночей пришлось пролежать здесь без сна, тычась взглядом в стены и потолок, как пойманное в коробку насекомое, – с «наполеоновскими» планами, без прав, без надежды, без гроша в кармане, и знать, что наступит утро, и опять, перебесившись, сядешь со всеми за стол (надо же есть) и вернешься к дурацким разговорам о долге и долгах. И будешь видеть выцветшие гардины и облупившийся потолок, выщербленный край сахарницы и чахлый цветок в углу. А в соборе как всегда встретят недружелюбные лица коллег-музыкантов, их ядовитые усмешечки, грубые словечки, колкости, брошенные мимоходом. Не забыли они, не простили ребенку легендарного прошлого, ни поездок по Европе, ни опер, заказанных миланским театром, ни звания академика Болоньи, ни кавалера папского ордена «Золотая Шпора», и, конечно же, Парижа…
…Нет ничего слаще для него дорожных снов и дорóги во сне – их карету несут взмыленные лошади, льёт дождь. Мiр то, что перед глазами: Леопольд, Анна Мария, Наннерль. В карете темно, тряско, но сухо и тепло. Карета кренится, вкатываясь в лужу, и плещет фонтаном брызг. Вольфганг валится на Наннерль и щекочет её. Наннерль его отпихивает в объятья матери. Леопольд дремлет, покачиваясь, и пробуждается, чтобы дать Вольфгангу щелчка, в шутку, конечно, чтоб не шалил. Пахнет отсыревшим деревом, влажной кожей, засушенным между страницами цветком… Эти лошади опять везут в Зальцбург, в их квартиру на Ганнибалплатц – с угарными печками, бессонными ночами, ночными пожарами. С неизменно ранним пробуждением на утреннюю литургию пред светлые очи князя-архиепископа… Вольфганг – усилием воли, будто разрывая тяжкий сон, мысленно натягивает вожжи и разворачивает карету.
Колеса опять заплясали по наледи и мерзлым колдобинам.
Много раз представлял он себе эти минуты. Париж ранним зимним утром. Он разглядывает фасады домов – темные, спящие, всё еще по-ночному безмятежные. Смотрит на небо, гадает, откуда начнет светать. Вот и её дом. Хочется есть. Ноздри щекочет горьковатый аромат горячего кофе. Губы ощущают душистую плоть белого хлеба, пропитанного маслом и медом, а вкус горячего молока, яичницы с беконом доводят до обморока.
У дверей дома они останавливаются и, запрокинув головы, ждут появления солнца над соседней крышей. Он спокоен и рассудителен, но сердце… Он чувствует, что не может с ним сладить. Нельзя давать себе воли, иначе оно не выдержит, задохнется, разорвется, загнанное нетерпением.
Так долго не открывают двери, но, наконец, они в квартире. Одежда на полу, машинально сбрасиваемая ими – у порога, посреди комнаты, перед кроватью. Они погружаются в пахучее шелковистое, податливое чрево постели, согревая своими телами ледяные простыни и друг друга. Он тонет, захлебываясь от счастья, и покорно идет на дно с одним единственным желанием – не выплыть никогда. Но он всё-таки всплывает: жаркой волной его выносит к кромке одеяла, из-под которого показывается его сияющая голова.
Где он? И почему ему здесь так хорошо? Хочется тут же убедиться, что это не сон, не бред, не мираж, и он отрывает от подушки голову, ощущая, как приятно холодит затылок волглый воздух в давно нетопленой спальне. Кровать, над нею нежно розовый балдахин. Бронзовые часы с распятием (давно остановившиеся и молчавшие во все дни отсутствия хозяйки) занимают в углу столик с круглой столешницей из розового камня. У двери – кувшин синего стекла и умывальный таз. Два кресла, между ними фарфоровая ваза с восточным рисунком. Там же трюмо, пуф и распятие на стене. Теперь это и его спальня, и квартира его, и этот город, и… наблюдающая за ним, откинувшись на высокую подушку, женщина с зеленовато-розовыми глазами, неловко подвернувшая под себя узкие нежные ступни. Он трется о подушку щекой, перекатывается поближе к м-ль Женом, кладет ей на грудь голову и ищет глазами окно – за окном рассвело, там Париж…
Без этого взгляда на Зальцбург и на себя из окна дорожной кареты, увозящей его вместе с м-ль Женом в Париж, и из окна её парижской квартиры (вернее, из постели её парижской квартиры); без этой тайной и сладостной игры воображения с переселением его души из Зальцбурга на Елисейские Поля был бы немыслим тот небывалый творческий скачок, поразивший всех в концерте Es-dur. Но и сам концерт, и весь характер его сочинения были в своем роде отображением этого невидимого миру переселения души: от сборов и прощальных визитов, опевания всего, что любил, ненавидел, знал и хотел забыть, с чем прощался и никак не мог расстаться… вплоть до отпевания так печально завершившейся карьеры баловня-вундеркинда, которого Париж (праотец всех искусств) заметил, возвысил, да так высоко, что потрясенная его славою маркиза де Помпадур, усадив семилетнего мальчика на стол, с нескрываемым изумлением, как невероятную диковинку, рассматривала его в лорнет… «Сама императрица целовала меня», – с заносчивостью всеобщего любимца крикнул он маркизе, отстраненный её рукой.
Вольферль еще не знал в то время, как недолговечна людская слава, как не мог этого знать и Вольфганг в свои двадцать лет. Это знал Моцарт, болезненно ощущая едва уловимую, тонкую и ранящую, точно лезвие, «кромку конца всего». Моцарт знал, что едет по былым местам своих детских путешествий хоронить Вольферля, своё легендарное детство, свою шумную славу и освященные ею мечты, и, как апофеоз потерянного рая, свою мать. Он ехал, чтобы навсегда опустить их всех вместе в могилу вечности и первым бросить в неё горсть земли. И навсегда схоронить глубоко в сердце от чужих глаз, от «длинных носов», нечистых рук, спрятать, затаить, замуровать в душе на веки вечные, облекая, как в божественную плащаницу, в божественные звуки, и тем самым, освобождая от косной материи, не знающей Бога, не ведающей греха, но не знающей и спасения…
Лёгкую поступь Елисейских Полей чуткое ухо сразу услышит ещё в соль минорной симфонии, написанной 5 октября 1773 года, и только затем в Андантино концерта для м-ль Женом. Но начиная с этого концерта, он будет возвращаться туда постоянно. Ошеломительны эти краткие минуты переселения его души в запредельные пространства. Этот, образующийся вдруг в недрах земного, – вакуум, когда прерывается дыхание, нарушается заданный раз и навсегда биологический ритм, и всякая земная логика теряет свой смысл и силу. Только что шел он еще по твердой каменистой почве, и вдруг – ничего, пропасть, пустота, ничто, и он, переступив свой земной облик и притворив за собой дверь, устремляется в беспределы космоса, удерживаемый вне притяжения земли лишь тонкой, но прочной и искусно свитой им, нитью гармонии. Сейчас, когда гармония разрушена, растлена – нечем больше удерживаться, и мало тех, кто рискнул бы покинуть нашу грешную землю, чтобы не стать навсегда космическим мусором.
Эти «выходы в космос» оставались для него и единственно доступной формой посещения дорогих, но «гибельных» для него мест, которые инстинктивно хочется миновать, может быть, даже забыть, а лучше бы и вовсе не знать – тем слаще боль, тем нестерпимей ожидание…
ДЕТСТВО
Духмяный запах фасолевого супа с телятиной и зеленью обволакивает супницу в виде плетеной корзины, плывущую в руках Трезль, и колючей проволокой внедряется в ноздри.
Рот обжигает полная ложка густой наваристой жидкости, на глазах выступают слезы, в то время как обоняние и осязание правят бал. Но червь сосет по-прежнему, не зная сытости, с еще большей силой, а глаза всё так же жадно поглядывают на дверь. Её створки плотно закрыты, как створки устричной раковины, малейшая щель в них уже кажется спасительной. Наннерль, Анна Мария, отец, их ближайший друг Шахтнер болтают за обедом как ни в чем не бывало, а Вольфганг смотрит на дверь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































