Текст книги "Моцарт. Suspiria de profundis"
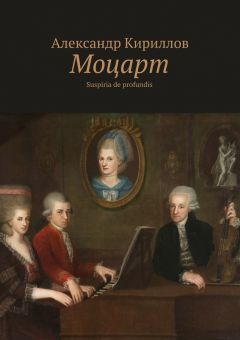
Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Сóлнце светит для всех. Лунный свет – он индивидуальный, только для вас, только вас достает он в постели, когда вы спите, – он ищет свою душу среди тьмы. Луна полна иголок, впивающихся в сердце, в зрачки, щекочущих нос; исколов, измучив свою жертву, переползши с одного края постели на другой, луна исчезает, закатывается, но не за горизонт, она вдруг выпадает из окна. Обессиленные, как после пыток, вы лежите, блаженствуя, что отпустила, перестала мучить, дала уснуть.
Но луна не устает вливать вам в уши яд фантазий. Может присоседиться и, поддакивая, ввести вас незаметно в грех. Её рассеянный свет сеется вам на голову, как дождевая морось – не дождь, но не укрыться от него – состояние белой горячки, словно болезненный выкидыш лунного света.
Луна манит за собой, как крысолов, увлекая на подоконник, балкон, чердачную крышу: всё сияет кругом, серебрится, дышит прохладой, соблазняет отдаться пространству и парить, парить…
Их ноги под одеялом снова скрестились, но теперь уже не в драке, а в нежном дружеском прикосновении. «Когда ты станешь капельмейстером, – говорит Тёкла, – я уйду из дома и поселюсь у тебя… хоть экономкой. Буду вести твоё хозяйство и слушать твою музыку, а если нужно – переписывать твои ноты». – «Мы с тобой наймем большой дом, каждый вечер будем принимать гостей, спаивать их и укладывать спать без разбору, кто с кем попадет… Вот будет хохоту утром, когда они продерут глаза и бросятся искать в чужих постелях своих жен». – «Зачем это тебе, дурачок?» – «Все вокруг такие важные, будто знают о жизни невесть что, важничают, чванятся, раздуваются, а на самом деле пустобрехи. Разве стоит эта жизнь такого скотского серьеза. Мне иногда кажется, что я по ошибке попал в чужой дом или даже на другую планету, потому что не понимаю, чем они все живут. Мне ничего не нужно из того… чего все так жадно добиваются. Если бы не папá… Слепые уроды, знали бы они, что ничего нет в этой жизни, ничего, кроме этой минуты и Господа Бога, нас утешающего, что все мы смертны…»
Тень от луны надежное укрытие, куда всегда можно уползти. Её свет блестит в глазах невысказанным желанием, свет пеленает тела, мутит рассудок, лунной дорожкой сближает нерешительных, соединяет решившихся, выстилая ложе белоснежной простыней. Оба едва дышат. Он паникует – вот сейчас она совсем близко придвинется к нему и почувствует то, чего он стыдится больше всего, что было его мучением… Она уже приблизилась. Она уже почувствовала, но не оскорбилась. Его оставили силы… временами он слышал её дыхание, чувствовал её руки, такие нежные, такие ласковые, такие заботливые… Вдруг плоть в ней раскрылась, как гортань у певицы в минуту сладчайшей, невообразимой по красоте и высоте, почти поднебесной ноты, образуя божественной формы купол, всё раскрывающийся и вздымающийся по мере нарастания страсти.
«17-го утром, пишу и утверждаю, что наша двоюродная сестричка прекрасна, рассудительна. Мила, ловка и весела, и потому о ней порядком посплетничали, имея в виду её пребывание в Мюнхене. Это правда, нам действительно было хорошо вместе, ибо она тоже немного плутовка».
Письма к Тёкле с самого их опубликования воспринимались в эпистолярном наследии Моцарта каким-то «срамным» местом. О них либо стыдливо не упоминали, либо еще более стыдливо прикрывали пространными комментариями, либо изымали из собрания писем. Но чем сильнее их старались скрыть, тем упрямее выпячивались они, первыми привлекая к себе внимание, и только, пролистав их, утолив свое любопытство, публика принималась за другие.
Вольфганг писал ей грубые, непристойные письма – явно казня (не её, нет) то, что могло быть между ними. Он пинал, унижал, высмеивал… (здесь нужно грубое слово). Этого не мог он забыть. «Кстати, с тех пор как я уехал из Аугсбурга, я никогда не снимаю мои штаны, кроме как на ночь, перед тем как идти в постель» – любопытное замечание сестренке. Это ревность, вывернутая наизнанку, что тоже в его духе, как и проявление той же ревности в мимоходом брошенных им фразочках «изящного» диалога: «Чем вы это держите? [далее нарисована рука с частицей творительного падежа mit перед нею], не правда ли? Хур-са-са, кузнец, ухвати меня, молодец, только не жми, подержи мне, милок, только не жми, мне жопу оближи, кузнец. Да, это правда, счастливчик тот, кто в это верит, а тот, кто не верит в это, попадет на небо». Злато-кузнец Goldschmidt занозил его в самое сердце, грубо спустив с пьедестала его «милейшую девицу-сестрицу» или, как он еще величал её, Ваше Наилюбимейшее Девичество Сестрица. А нет обожествления, нет и любви.
Тело покрывает клейкая испарина – испарина становится главной; губы оставляют во рту вкус её слюны – слюна становится главной; непристойные звуки, грубые прикосновения, сопение, сморкание, хлюпанье – это становится главным без любви, это всегда хочется раздавить, как мокрицу, иронией и фекальным жаргоном. «Вы всё еще любите меня, как я вас [?] Так мы никогда не перестанем любить друг друга, даже если лев, таящийся повсюду в крепостных стенах, когда сомненья тяжкая победа уже была близка, и тирания бесчинствовавших на нет сходила, так [мудрый] Кодрус, в философии искусный, пожирает мерзость» (перевод, чей?). О чем это он?
Всё о том же, что хорошо понятно ему и Тёкле, привыкшим говорить друг с другом иносказаниями – это игра, в которую оба играют со страстью. «Когда мой юмор занемог [стал дурным, злым], я писал красиво [каллиграфически] и серьезно; сегодня я в хорошем расположении духа, пишу необузданно [незаконно], вкривь и вкось. Теперь всё зависит от Вас, что Вам больше нравится. Вам придется выбирать одно из двух, ибо у меня нет возможности – и красиво [как все], и дико <винно> [против правил, от сердца, как я]; прямо или вкривь-вкось; важнецки [с ослиным серьезом и усердием (Ernst)] или весело [и карнавально – от меня]: либо 3 первых слова [со всеми их значениями и смыслами], либо 3 последних. Я жду вашего решения».
Я ничего не выдумываю, избави меня Боже, всё приходит ко мне в нужную минуту, и поражает меня так же, как и всякого другого. И вдруг в письме к сестричке читаю: «Behüte dich Gott Füß, auf dem Fenster liegt d’Hachsen». Эта южно-немецкая присказка мне попалась намного позже того, как сложилось в моей голове их ночное свидание. «Да сохранит тебя Стопа Господа, а дальше: Fenster – окно, liegt – лежать, d’Hachsen или, может быть, Hácken (Hácke) – пятка, но и кирка, мотыга, а Hácker – землекоп, – и восстает из якобы бессмыслицы (перевод присказки затруднен из-за непереводимой игры слов) целая, живая, детальная картина их свидания в духе рембрантовских полутеней, отбрасываемых старым южнонемецким словом Hachsen. Понять это – не пустое любопытство, для которого фирменный знак замочная скважина. Ключ и скважина, и «урожденная Ключеделка», и «Анна Мария-Замочница» – всё присутствует в словесном поносе писем Вольфганга к Тёкле, и он явно наслаждается их тайной, мимоходом прикасаясь к самым сокровенным зонам их отношений. «Dieu te protége, mon pied, mes jarrets sont á la fenêtre». Так звучит на французском эта южно-немецкая присказка. «Господь, благослови [спаси и сохрани] мою ступню, мои подколенки в окне [и подколенки – тут как тут]». Разве это не чистой воды лунатизм. Он пронизывает своим излучением их отношения. И проявляется, как на фотопленке, в письмах Вольфганга. Большинство мест из его писем к кузине можно рассматривать как фрагменты редчайших полотен в стиле кубизма (особенно, Пикассо, если корректно такое сравнение, когда речь идет о слове), созданных Вольфгангом еще в те времена. Всё у него расколото, рассыпано, и всё – каждая мелочь, крошечный осколок, завитушка, – содержат в себе общий замысел единой и цельной картины, и этот якобы «словесный понос» оборачивается шутовски разъятой и особым образом спаянной его тайной исповедью.
Нет, это еще не была любовь, но – бражка из смутных настроений, страха и безропотного послушания, в одно мгновенье превратившаяся в чистый спирт свободной воли – хмельной, огненный, и тем опасный, и, безусловно, заряженный решимостью к действию и к самостоятельным решениям. Уже скоро их потребует от него настоящая и взрослая любовь к Алоизии Вебере (его Лиз). Он созрел для подвигов, и будет их совершать теперь один за другим, пока не разнесет всё вокруг и не вытащит себя за волосы из «обслуги» в вечность.
Вольфганг стал мужчиной. Что бы это значило для комнат… чуть было не написал для комнатной собачки… во всяком случае, для юноши при родителях. Хотя многие его сверстники уже сражались где-то на чужбине, нанюхавшись и пороха, и крови, и женского пота. Он и сам не сразу осознал, что ему наконец-то удалось перегрызть пуповину, удерживавшую его в мире отцовских ценностей. «Может быть, я и смогу вам [то есть отцу] сообщить в следующем письме что-нибудь – для вáс — очень хорошее, что мне здесь представляется просто хорошим; или [напротив] что-нибудь на вáш взгляд очень плохое, но вполне даже приемлемое на мой; или что-нибудь посредственное для вáс и в то же время очень хорошее, восхитительное и драгоценное, дорогое для меня.
Это, не правда ли, очень похоже на пророчества? Темно, но понятно, несмотря ни на что… Впрочем, для меня как бы всё равно, так как это одно и то же: жру ли я дерьмо или папá его высирает. Я не умею яснее выразиться! Я хотел сказать: это всё едино, что папá высирает дерьмо, что я его жру!».
Мне важно только заметить здесь, что всё это творится в его сознании ещё до встречи с Лиз. Он разбужен другой. И, конечно, тут совершенно предсказуем вопль отца: «После того, что я здесь прочел, мы [больше] не понимаем друг друга».
Еще бы, кукла перестала пищать мама и заговорила: «Я воображаю, как все те вещи, о которых я вам пишу, должны показаться вам странными, когда живешь в городе, где как правило имеешь глупых врагов, безвольных и простоватых друзей, которые всегда поджимают свой хвост, потому что не могут обходиться без унылой оплеухи – [скудного хлеба]7878
Во французском переводе – du triste pain, что означает либо жалкая оплеуха, либо горький хлеб.
[Закрыть] <зальцбуржцев>, по несколько раз на день меняющих своё мнение. Вот вам объяснение, почему я пишу вам всегда по-ребячески, о пустяках, и мало о вещах серьезных»7979
Письмо Моцарта к отцу от 10 декабря 1777 года, написанное до знакомства с Алоизией Вебер.
[Закрыть].
И с каждой новой, им произнесенной фразой, мы, словно завороженные, наблюдаем, как он мужает у нас на глазах, еще вчера послушный и легкомысленный. «Сегодня утром получил Ваше письмо… в котором Вы осыпаете нас множеством незаслуженных упреков… Но мыслимо ли, чтобы тáк говорил мой отец. Если Вы возлагаете ответственность за всё на мою небрежность, беспечность и мою леность, я могу только поблагодарить Вас за это – хорошего же Вы обо мне мнения, и от всего сердца пожалеть, что Вы не знаете Вашего сына. Я не беспечен, я лишь готов ко всякому несчастью, а стало быть, могу всего ожидать, и терпеливо выносить, если только от этого не пострадает моя честь и моё доброе имя Моцарта. А уж если чему должно случиться, то так тому и быть. «Вы же, в отличие от меня, не в состоянии адаптироваться ни к счастью, ни к несчастью, если, по воле случая, что-то из этого свалится на нас. […] Но я прошу Вас – наперед, раньше времени не радоваться и не огорчаться… важно оставаться в добром здравии. На самом деле… мы никогда не были – все четверо – ни счастливы, ни несчастны, и я благодарю за это Бога… счастье существует единственно в нашем воображении [т.е. как иллюзия, идеальная субстанция], что об этом беспокоиться… Я мог бы ответить на все пункты вашего последнего письма и представить многие возражения, но моя maxima: если что-то не задевает меня, то и не стоит труда, чтобы я об этом говорил. Ничего не могу с этим поделать – я такой». Браво, сказала бы Текла, услышав от него такой ответ отцу, а подумав, приуныла бы.
До самой смерти хранила она овальную миниатюру из слоновой кости с портретом Вольфганга, обещанного ей и присланного в пору их сердечной близости, заглядывая иногда в свой альбом и перечитывая, сделанную рукой Вольфганга, запись по-французски: «Если вы любите то, что люблю я, значит, вы любите саму себя. Ваш сердечно любящий Племянник. Вольфганг Амадей Моцарт. Аугсбург 25 окт. 77».
Никогда не выйдя замуж, она спустя шесть лет родила от канонника Теодора Франца фон Райбера внебрачную дочь Жозефу, оставив в церковной книге регистраций запись о рождении ребенка, подписанную вполне по моцартовски, в привычном стиле переписки с ним: Maria Anna Trazin (от Mozartin). Но мир, таки, подсмотрел их «тайный брак» наивными глазами господина Штейна, простодушно, безо всякой задней мысли, поделившегося с Леопольдом своими наблюдениями. [Господин Штейн] сообщил мне, что вы уехали в воскресенье, и что прощание с ф [рейлейн] твоей кузиной было очень горестным и надсадным. Маленькая кузина опечалена твоим отъездом, вне всякого сомнения. Отъезд мамы не надрывал бы ей так душу, к тому же, она торжественно, со всей серьезностью заявила, что она не «поповский лакомый кусочек».
Прощание их не осталось незамеченным в семье. На следующий день мишенью для вечерней «стрельбы» была выбрана в доме Моцартов сцена расставания кузена и кузины в Аугсбурге. «Она [мишень] очаровательна. Справа изображена молодая аугсбуржка, которая предлагает посох странника, украшенный цветами, молодому человеку в сапогах, собравшемуся в путь. В другой руке у неё необъятный носовой платок, волочащийся по земле, которым она утирает глаза. У молодого человека точно такой же и для тех же целей. Другой рукой он сжимает свою шляпу, на которой находится мишень, ибо она более заметна, чем посох странника. Сверху надпись:
Прощай моя маленькая кузина! – Прощай мой дорогой кузен!
Я тебе желаю счастливого пути, здоровья и хорошей погоды.
Мы провели так радостно 15 дней.
Это-то и делает таким печальным наше расставание.
Злосчастная судьба! – Ах! – Едва найдя друг друга;
Они уже снова расстаются! – У кого глаза останутся сухими?
Нет, не случайно послышалась мне из-за двери дома дядюшки в день приезда Вольфганга в Аугсбург ария из «Тайного брака» Чимарозы: «Jo ti laseio, perche uniti» («Я тебя покидаю, ибо мы соединены»).
Mannheim
30 окт. 1777 г. – 14 марта 1778 г.

Я ничего не ждал от этой поездки. Доконала усталость после утомительного театрального сезона. Не было желания ни куда-то ехать, ни даже пошевелить пальцем. Забраться бы под корягу и залечь там на весь отпуск – оцепенело, сонно, как рыба. Охоты нет, но неволя пуще, и я поволокся через весь город, в жару (было начало августа), по пыльным загазованным улицам, обливаясь пóтом в духоте метро и троллейбусов. Меня толкали, я шел, не сопротивляясь, и только старался, чтобы толкали меня в нужном направлении. Руки у пассажиров были влажные, майки и сорочки липли к телу, лица угрюмые, пышущие жаром, в капельках пота.
Я добрался до киностудии почти бездыханный, отравленный выхлопными газами, с пудовыми ногами, с песком на зубах, будто пересек Сахару. В автобус забрался первым и без сил привалился к окну. Смотрел бесчувственно, дышал по инерции. Ждали кого-то, втаскивали коробки с костюмами, реквизитом. Наконец отъехали от киностудии и, подолгу простаивая в пробках, покатили в аэропорт… В ушах шумело, меня несло вместе с автобусом, волокло куда-то, крутило, укачивало, заваливало на перекрестках, встряхивало, обдувало из окна – глаза смыкались. Я увидел у себя перед носом яблоко – большое, желтое в красноватых меридианах (как на глобусе). Его протягивала мне с переднего сидения женская рука с черным колечком на среднем пальце. Мне улыбнулись, яблоко придвинулось ближе. Я взял.
За окном запестрели желто-зеленые поля, огороды. Люди ковырялись в земле, обжигаемые солнцем. В автобусе было прохладно, занавески на окнах задерживали солнечные лучи, вздуваясь и пропуская свежесть и запахи леса… Я задышал, исчезли сонливость и шум в ушах. Окинув взглядом автобус, я задержался на той, которая угостила меня яблоком.
Солнце, проникая в щелку между занавесками, поджигало её рыжие волосы, перетянутые бледно-голубой лентой. Пальцы ныли от желания прикоснуться к ним, ощутить их воздушную шелковистость, их пылающую прохладу, тающую в руках. Я старался смотреть в окно, а видел её белую шею в золотистых веснушках и простенький ситцевый сарафан.
«Ах, обмануть тебя не трудно», – вздохнул во мне тот, кто, оттесняя автора, всё «рвется из меня упрямо». «Куда же ты, – хотелось мне сказать, – поперёд батьки?» Не слышит. Мне трудно с ним сладить. Он внутри события, он видит всё, как есть, то бишь, как есть в тот самый миг, когда он смотрит. И хоть я за всем наблюдаю издалека, и мне легче, сопоставив факты и обобщив их, сделать более адекватный вывод, имея перед глазами весь путь целиком, он не хочет этого признать. «Сколько ни анализируй свои поступки, сколько ни тычь себя мордой в собственную дурь, – ухмыляется он, – всё впустую. Случайно брошенный взгляд, приветливая улыбка, ласковый жест – и опять всё сначала. Ты снова витаешь где-то там, на небесах, и не желаешь отказываться от воскресшей мечты. А мечта исподволь толкается в нас „ножками“. Мы долго её вынашиваем, прячем от сглаза, ложимся на „сохранение“, шепчемся за бутылкой с друзьями, придумываем ей имя. Она созревает, дает о себе знать тошнотами, влияет на наш вкус, побуждая то к кисленькому, то к острому, то к экзотическому райскому плоду, в одночасье ставшему для нас самым-самым. С нами говорят осторожно; на нас смотрят сочувственно, нам всё прощают – нас ожидают роды, и кто знает, что нам уготовано после них. И вдруг они наступают: мучительные, болезненные, безобразные, что-то рвется внутри нас, мы истекаем кровью, мы тужимся, выталкиваем из себя созревшую мечту, с ужасом и омерзением глядя на окровавленный выкидыш. Мечта всегда мертворожденная. Нам памятен только отзвук счастья, нас истомивший, пока её вынашивали».
Не могу согласиться с моим упрямцем, но и не могу его оспорить.
«Алоизия Вебер (Aloysia Weber), – обращает моё внимание режиссер, – это и есть твоя воплотившаяся мечта. Вот она стоит перед тобой, твоя Лиз, в гостиной Веберов: заспанная физия, непричесанная, чуть попахивает несвежей постелью и бельем. Она теперь встает поздно, далеко за полдень. Раньше выскакивала в гостиную, щебетала, строила глазки, льстила… Пухленькое миловидное личико смято, в уголках глаз желтоватые корочки, вздернутый коротенький нос, небольшой припухлый рот, обкусанный, исцелованный. Черные глаза, когда-то обольстившие тебя взглядом с „чертовинкой“, а попросту – косившие. „Guten Tag“8080
(нем.) Добрый день.
[Закрыть]. И оба дышите… „Guten Tag“. Лицо у неё… Что стало с её лицом? – ты не веришь своим глазам. Его надо видеть. Это лицо… вдовы над трупом нелюбимого мужа, с которым прожита жизнь. Это уже не лицо, но, как бы это сказать помягче, физия. Звучит грубо, но такое у её лица выражение… Оно похоже на то, как если бы в вашем присутствии, простите дамы, бзднули, совсем уже с вами не церемонясь, продолжая как ни в чем не бывало вести светскую беседу. Такое лицо не забыть».
Я шокирован. Услышать такое от режиссера, эстета с аристократичными манерами, изысканной речью, в костюме модельного дома Gucci, на съемках фильма о Моцарте! А может, так оно и должно быть, когда оказываешься на «территории» Моцарта, где изыск легко сочетается с хулиганством.
Режиссер, с лицом немецкого актера Отто Фишера, почмокал трубку, глядя в окно автобуса, вздохнул и закончил: «У мужчин не бывает таких лиц. Вся жизнь мужчины – вечное оправдание перед женщиной. За всё! И за то, что он мужчина, и за то, что разлюбил, и за то, что она ему изменила, и за то, что не богат, и за то, что такой, а не другой – не знаменит, не „хапнул“, не сделал открытий, не умер, да разве всё перечтешь – за что».
Я прислушиваюсь к его словам, и не замечаю, что любуюсь ярко рыжей головкой девушки, моей будущей Констанцы, жующей яблоко. Её зовут Агнией, диковинно и диковато для русского уха – огонь, агония сразу приходит на ум. «Никогда не слышал», удивляюсь я. «Почему же, – рассеянно отвечает она, – „оторвали мишке лапу“, – Агния Барто! Ну, конечно, слышал, но… как одно целое „Агниябарто“». – «Домашние меня зовут Агнешкой, если вам так привычней, у мамы польские корни». Я соглашаюсь, и машинально ищу в ней признаки потенциальной хищницы, которая будет клевать мою печень почти девять лет нашей семейной жизни. Агния тут в самый раз, думаю, и снова бросаю на неё взгляд исподтишка. Её волосы убраны кверху, от затылка по шее струится рыжеватый пушок – она сама нежность. Нет, Агнешка ей больше к лицу.
«Женское зрение удивительное, – продолжает размышлять режиссер, – оно видит всё, что окружает мужчину, в чем он одет, даже нимб славы вокруг его головы, но совсем не видит его самого. Самый горький упрек мужчине: „Ты изменился“ – не по адресу. Изменилось его окружение, угас нимб, обветшал костюм, растаяли деньги. „У любви, как у пташки, крылья“, но у неё есть еще и коготки, и крепкий клюв, она прожорлива, и гнездо вьёт только на время брачных утех и выкармливания птенцов. Занозу корысти или новой страсти, если она застрянет в их женских головках, уже не вытащить. Ранка скоро начнет саднить, нарывать, воспаляться. Боль забирает всю женщину целиком. Лучше не слышать, как она отзывается в эти минуты о когда-то любимом мужчине (даже не в словах дело – в интонации). Какой-то мерзкий холодок поселяется в вас и гуляет там, как у приговоренного перед казнью. Боже, думаешь, глядя на очередное хорошенькое личико, в умненькие ясные глаза, спаси и сохрани, не дай мне забыть, что передо мной просто женщина – женщина, и больше ничего».
«Кажется, тут что-то личное, – неожиданно приходит мне в голову, я тут же цепляю его взглядом. – Нет, вроде, спокоен и самоуверен, посасывает пустую трубку. Разве что брезглив, но, может, это и есть отрыжка личной драмы?»
Актриса, будущая Алоизия Вебер (Лиз), – дремлет. Копна светлых волос с пышной длинной челкой, как у маленьких собачонок, почти скрывает её ореховые глаза. Две большие заколки в виде ромашек. Летнее платьице без рукавов на лямочках, расшитое по подолу крупными цветами, схвачено под грудью цветным пояском. Она полулежит в кресле, подложив под голову розовую подушечку в виде сердечка, и как бы открыто предлагает всем – любуйтесь, я такая. Временами на её лицо набегает тень улыбки…
«Лиз, – продолжает набрасывать нам сцену режиссер, вынув изо рта трубку, – равнодушно листает подаренную ей арию „Народ Фессалии“, даже напевает кое-что из неё, будто ничего особенного не произошло. Сыплет перлами скудоумия, дешевых острот, утонченных комплиментов, как ей кажется, тем временем Вольфганг, подойдя к клавесину и склонившись над клавишами, вдруг разражается таким южно-немецким ругательством, которое не выдержит ни один язык, кроме русского. „Leck mir das Mensch im A-, das mich nicht will“8181
(нем.) «Тот, кто меня отверг, может с усердием мне вылизать ж…»
[Закрыть], – поет он, чтобы не грохнуть об пол стоящую рядом вазу. Да ради бога, хоть протарань он головой стену, её этим не смутишь – вид у Лиз самый что ни на есть важнецкий, – и режиссер, изображая нам её, смешно вертит головой и поглядывает на меня, как курица на петуха, пойманного под нож. – Со дня её переезда в Мюнхен и поступления в оперный придворный театр с жалованием в 600 флоринов – он стал ей не нужен. Уж она-то, поверь, – говорит мне режиссер, – не постесняется ни грубой лести, ни откровенного заигрывания с сильными мира, к которым ты, – ткнул он в меня трубкой, – увы, не принадлежишь. Такая выдаст очередную порцию рабского подхалимажа и отойдет с улыбкой – и полыхает довольная собой, и цветет, точно Сенека или Цицерон после удачного спича».
«Нет, – решил я, – тут явно что-то глубоко личное», и чтобы оправдать свой пристальный взгляд, спросил: «Неужели еще в Мангейме он что-то предчувствовал, если вызвал из Аугсбурга кузину?»
Автобус подъехал к аэропорту, и мой вопрос повис в воздухе.
Там, в воздухе, когда меня укачало в самолете – пришла она, моя кузина Текла, и отпоила меня чаем с мятой. Губастая, милая, временами красивая, синеглазая отóрва. Никогда не теряет драйва по жизни. Жирно сурьмит брови, пудрит пухлый носик и только хихикает с закрытым ртом, стесняясь неровных зубов. Сердце у неё доброе, легкий характер. Иной раз может показаться даже загадочной и тогда в ней проглядывает что-то мистическое. Ведьма с распущенными волосами, обнаженной грудью и ниткой деревянных бус в виде амулета, охватывавших шею. Прямо сейчас её и сожгут. Ей так страшно, что тело от макушки до пяток пронизывает кликушеский восторг. Но чаще она совсем домашняя: маячит аппетитным задом у плиты, вкусно готовит. Согреет постель, разденет, искупает и бухнется к тебе под одеяло нежной пышкой. Озорство и тайная грусть борются в ней. Она то нуждается в утешении, то сама готова утешить, принеся себя в жертву. Она ненавязчива, но как «пожарная» или «скорая» – всегда наготове. Я проникся к ней, пока снимали наши эпизоды, и очень привязался, и уже искал её, если она вдруг куда-то исчезала. Она предупредительна, всегда знает, чем тебя порадовать. Но если задеть в ней чувство достоинства, ни за что не отступит, будет отстаивать его до конца. Сейчас мне уже трудно отделить актрису от Тёклы. За время съемок, пока снимали наши сцены, мы почти не расставались, вкалывая по две смены, – и я уже не мог отличить, когда она выхаживала Вольфганга как Текла, а когда отпаивала чаем с мятой меня как своего партнера.
Декабрь! Текла мерзнет на улице, дожидаясь, чем всё кончится у Веберов. «Не надо забывать, что она его любит, – напоминает ей режиссер, – и при этом сумела не растерять к нему дружеских чувств, черта редкой женщины. Но нет правил без исключения, так и объясним это для себя, или мы здесь что-то упустили и уже никогда не узнаем. Он пришел к Лиз с подружкой детства, а уйдет – с родственницей из колена Моцартов».
Тёкла мерзнет на улице, такой темной, что, выйдя из дома Веберов, я едва различаю её у перекрестка среди топчущихся теней. Мы приближаемся к ней вместе с камерой. «Физиономия „обманутой любви“, – настраивает меня режиссер перед съемкой, попутно раздражаясь на пиротехников за чахлый дымок, – физиономия крови и сыплющихся из глаз искр, – и вдруг оглушает меня оплеухой и осатанело орет в ухо, – у тебя тупое и сладостное желание ввязаться во что-то безобразное с привкусом катастрофы», – и со всего маху я, вытолкнутый им, врезаюсь в группу мужчин. Один из них оглядывается и бьет меня в лицо. Снег мне кажется сладким и освежающим, и что-то скрипит на зубах. Мне становится легче, я даже не чувствую боли. Я её не чувствую и тогда, когда все трое принимаются за меня. Они бьют по голове, пинают, толкают от одного к другому, а мне хочется ещё, ещё, ещё… Не усердствуй они так по своей воле, я должен был бы сам их просить об этом… Тёкла норовит втиснуться между нами, но её отпихивают в сторону, и хладнокровно продолжают меня бить… «Так! Так его!» – орет в экстазе режиссер. Голова у меня гудит, уши, будто заткнуты ватой, кровь щиплет глаза. Боже, хочется крикнуть мне, как это здорово!.. Меня морозит от встречного ветра. На месте сердца зияет тянущая ледяная пустота. «Стоп, снято».
Дубль за дублем мы смотрим отснятый материал: Тёкла втаскивает Вольфганга в какой-то дом, помогает ему раздеться, умыться. Он, обжигаясь, пьет горячий напиток с красным вином. Тёкла болтает всякую всячину и сама прикладывается к глинтвейну.
«Страсть не знает удержу, – слышу я свой голос за кадром, – томит, электризует, накаляет весь организм и, подобно аллергии, вызывает нестерпимый зуд – на голос, на внешность, даже на имя любимой. И если перетерпеть безысходное „хочу“, доводящее до нервных судорог, до желания содрать с себя живьем кожу, то постепенно зуд страсти утихнет. Но если дать волю чувствам, или хотя бы слегка расчесать еще крошечный очажок отвергнутой страсти, зуд начнет нарастать, делаясь всё ненасытней, захватывая новые участки, – его неутоленная глотка будет раскрываться всё шире, прожорливо поглощая в любовной истерии всё подряд. А потом долго мучительно ныть и зализывать раны там, где еще совсем недавно самозабвенно наслаждалась».
Тёкла пахнет, как телка, парным молоком. Одеваясь на французский манер, она носит нижнее белье, желтовато-коричневое с черной ажурной отделкой, а чулки с желтыми подвязками. Поначалу он возбуждается, глядя на неё, целуется до крови, одурманенный, забываясь на время, а очнувшись, безмолвно плачет – тихо, безутешно, потерянно. Текла, как может, утешает, обещая, что не оставит его, что в Зальцбург они поедут вместе, и он благодарно прижимается к ней. Ему кажется, что нет, и не может быть на свете ничего, что могло бы помочь ему пережить эту боль; собственная смерть представляется слаще – как единственный выход.
Свеча сонно моргает на каминной полке рядом с расписными тарелками, косо бросая на клавиатуру меркнущий свет. По стенам мерещатся голландцы (17-ый век), их обывательская жизнь на жанровых картинах: сиюминутные занятия (вязание, полоскание белья, раскуривание трубки, пьяная трапеза) – длящиеся вечность. У камина – старое пианофорте, почти придвинутое вплотную. Рядом в кресле – Тёкла. Пальцы Вольфганга машинально ощупывают черно-белые клавиши. Они отзываются безучастно, едва слышно проговаривая исполненную невыразимой скорби мелодию… Свет выхватывает из темноты руки кузины, которые, методично двигаясь, перебирают нитки, пришивая к красному камзолу оторванные черные пуговицы…
Мой голос за кадром: «Им кажется – Бог отвернулся, забыл, потерял их из виду. Но это они забыли о Нём, – ослабели, одеревенели, помрачились сознанием, – и сразу же стали чужими этому миру, а мир к ним враждебным и жестоким».
ТЕНЕТА ЛЮБВИ
«Каждую ночь маленький Вольферль ждáл их. И они прилетали к нему прямо в постель – лунные девы струились из залитого светом окна в темную комнату. Он их чуял, слышал, прикасался к ним. Наваждение тайное, глубоко интимное. Они заполняли собой пространство, населяя весь мир. Они порхали, толкались, щебетали. Отовсюду его дразнили их розовые ушки, увлажненные чувством глаза, взмахи черных ресниц, губки – надутые, в улыбке, строго сомкнутые, дразнящие розовым язычком. Их бледные пальчики в прохладной испарине, вот-вот готовые растаять в его жаркой ладони, и выбившаяся прядка волос, и душистое испарение – всё говорило: опасность, болото…»
Это место в сценарии, царапнув, сковырнуло струп моих детских воспоминаний. Слава Богу, что мальчишки, достигнув возраста любви, застенчивы, глупы и нерешительны до такой степени, что тех, кто запустил свой пальчик в их сердце, они боязливо обходят стороной, больше всего на свете опасаясь, что их чувства будут обнаружены единственной, что она всё прочтет у них на лице. Их нервная система как бы обкатывается перед этим непростым испытанием – крещением любовью настоящей.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































