Текст книги "Моцарт. Suspiria de profundis"
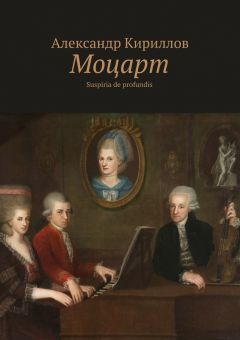
Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Пусто стало, когда ушел Шахтнер – тихо, темно. Изредка Трезль звякала на кухне грязной посудой, и скулила под дверью Пимперль, просясь на прогулку. Так поздно её обычно выводил гулять Вольфганг. Вот Трезль вымоет посуду, оденется и выведет её… Пусть идет, только пусть не скулит так тоскливо Пимперль… и не бегает на каждый стук к входной двери встречать Вольфганга, а потом искать его по комнатам, будто он дух святой – невидимо и бесшумно проникший в дом.
Стукнула дверь, – перемыв посуду, Трезль ушла с собакой. Квартира погрузилась в илистый сумрак. От каменного пола на кухне повеяло холодом. Догоравшие угли в печи тускнели, затягиваясь пепельной пленкой, как веко у птиц. Но сама плита, если к ней прислониться, была еще теплой, даже горячей. Смыкались глаза – не от дремы, от гложущей с утра боли – надоедливой, тянущей, не отпускавшей ни на мгновенье.
Пока шли сборы, мозг был занят множеством обычных при отъезде мелких забот: как упаковать и уложить вещи, и ничего не забыть, предусмотрев всё необходимое в длительном путешествии. Денежные расчеты, рекомендательные письма, бытовые советы занимали его до последней минуты… И вдруг, в момент прощания, нервный срыв, ощущение неизбежной катастрофы, предчувствие вечной разлуки, отчаяние, паника, что назад уже не повернуть. «В то время, когда я укладывал ваш багаж, я был душевно нездоров, причиной тому были страх и боль, я возился внизу около экипажа, у меня не было времени поговорить с вами до вашего отъезда. Я видел её тогда в последний раз!»
И всё же. Еще не всё было потеряно, еще в его силах было удержать их, отложить отъезд. Ему стоило только сказать им — нет. Не дать денег, сказаться смертельно больным – и они не уедут. Сын навсегда останется с ними в Зальцбурге, под его опекой, под присмотром семьи; и будет сохранен, спасен, доживет до глубокой старости, не зная нужды, соблазнов, богемы, унижений, разочарований, предательств, и тем самым продлит им жизнь – ему и Анне Марии.
Леопольд правит копии новой партитуры Вольфганга «Sancta Maria, mater Dei», написанной им в канун рождества Богородицы 9-го сентября. Прощаясь с домом, сын в последний раз снова обратился с молитвой к деве Марии. Пламя свечи заморгало и огненно замерло, как раскаленное стальное перо – не шелохнется, не чадит. Взгляд невольно приковывается к нему, оторвавшись от звучащей ряби нотного стана, и пристально рассматривает это «чудо», пока мимолетный ток воздуха не качнул пламя. Оно дрогнуло, пыхнуло, выпустило тонкую струйку дыма и затрещало, забилось… и теперь уже будет плясать, чадить, вздрагивать, тускнеть и разгораться весь вечер.
Wolferl… es ist nicht vorhánden!1313
(нем.) Вольферль… отсутствует! (нет как нет или он в нетях)
[Закрыть]
Поздно. Леопольд подходит к окну, прислушивается – нет его. Он распознал бы его шаги среди топота толпы, различил бы его юркую худенькую фигуру в кромешной тьме… «Бедные глаза, мои глаза», – причитает Леопольд, вглядываясь в темень за окном.
Вольфганга нет. Он не придет. Леопольд так и не дождется его этим вечером. Не мелькнет перед домом его плащ, не хлопнет дверь в парадном, не будет трезвонить в квартире дверной колокольчик, не будет смеха, шуток, радостных воплей Наннерль, встревоженного ворчания Анны Марии. Сын мокрый от дождя, жалкий, с печальной гримасой на лице трясется и скулит, виртуозно подражая Пимперль, которая тут же, у его ног, радостно отбивает хвостом приветственную дробь… Не будет этого больше. Никогда. Nie!
Сердце останавливается, удушье сковывает грудь. «Польди», – шепчет ему на ухо голос Анны Марии. Он чувствует, как она обхватывает его сзади за плечи, прижимается к нему всем телом. «Польди», – её губы нежно касаются шеи, напрягшейся от щекотки. Она смеется совсем по-девичьи, краснея и пряча глаза, и он слышит её невольно вырвавшееся признание: «Хорошо нам было с тобой, Польди. Разве нет?»
За ужином рюмка красного вина согревает, осветляет голову. Оцепенение проходит, слёзы хоть и текут еще, но горячие и горючие, а не холодные и безутешные. Стараясь не смотреть друг на друга, отец с дочкой играют в «пикет». Игра идет без азарта, не спеша, расчетливо, без обычной радости при выигрыше и огорчений в случае проигрыша. Игра занимает мысли, убивает время, дает чувствам передышку. «Бедные мои глаза», – Леопольд сдавливает веки пальцами. «Как ты думаешь, – спрашивает Наннерль, – они уже въехали в Вассербург?»
ЗЛОСЧАСТНЫЙ ЛЕОПОЛЬД
И опять перед глазами минута, когда карета, отъехав от дома, завернула за угол и покатила вниз к мосту через речку Зальцах. Вывалилось из облаков, как сырой желток из яйца, низкое солнце, засвечивая глаза и отбрасывая на землю расплывшимся йодистым пятном тихий свет… В паутине у́тра заискрился угол пыльного надтреснутого стекла.
Сначала пришло ощущение собственной ненужности, будто озарило темень души ровным холодным светом старости, и вместе с ним сознание: от того, что надвигалось, не отмолиться, не отвертеться, не спрятаться, не сбежать, не проснуться. Потом обнажились корни этого чувства: почти физическое ощущение пустоты, образовавшейся там, где многие годы царило обожание. И это открытие – как приговор, как черный жирный штемпель бюро ритуальных услуг. Всё твое отбирают, увязывают в узел и уносят, оставляя одного в пустом приемном покое, сумрачном и холодном, в чужом – не по росту – застиранном и ветхом больничном белье.
Из-за серебряной полоскательницы выбежал крупный рыжий таракан и замер, ощутив над собою вселенское лицо Леопольда, окаменевшей маской придвинувшееся к нему, как если бы придвинулась вдруг к земле, вечно щерящаяся в небесах луна. Таракан стряхнул оторопь, сделал Леопольду усами «козу» и засеменил дальше от одной сладкой лужицы к другой, от крупинки сахара к капле пролитого соуса. Таракан суетливо двигался у самой кромки плиты, резко меняя направление и, словно щупами, шевелил усами; было отчетливо видно, как загоралась искрой его рыжая желудевая спинка. Леопольд сдернул полотенце и хлестнул по плите. Таракан исчез. Но, приглядевшись, Леопольд тут же обнаружил его на плитах пола: припадая на лапки, таракан бочком уволакивал под защиту плиты полураздавленное тельце. Неужели инстинкт не говорил ему: остановись – попался, придавили, пустили кишки, так уж пусть додавят до конца. Нет, бежит, спасается. И нога уже потянулась хрустнуть его тушку, но в последний момент Леопольд дал ему уползти – зачем? Теперь он забьется где-нибудь под печкой в самом темном и пыльном углу и, шевеля усами, будет обследовать искалеченное брюшко: и если бы мог, зализывал бы ранки, как кошка или собака; или перетягивал бы жгутом, как это делает человек, чтобы остановить кровь. У таракана нет крови, нет жгута и заживляющей слюны – полная беспомощность, лег в щель и жди смерти. Боль нестерпимая, – временами затухает, и это приносит несказанное облегчение, почти блаженство. Нет у него больше с этим миром ни счетов, ни расчетов, никому, ничего и нисколько он не должен – рассчитался со всеми сполна. Когда гибнешь, только и живешь.
Мысли о смерти впервые поразили Леопольда. Казалось, еще только вчера, материнское обожание маленького Польди, безудержное и назойливое, сменилось ревнивым вниманием друзей, приходивших в восторг от его грубоватых шуток, остроумия, простонародной веселости, чем сверх меры были напичканы и его симфонии. Анна Мария затмила друзей своим трепетным благоговением, когда и в рот смотрит, и хороводы водит, и пылинки сдувает. Вершиной для него стало обожание сына – ничем не заменимое, необходимое как воздух. «Это как делается, папá?» – спрашивал малыш, чтобы записать свои первые детские сочинения. И приходил в восторг, когда Леопольд молниеносно, безо всяких усилий, твердой рукой вписывал в его тетрадь нужные по высоте и длительности ноты, бекары, бемоли, паузы, мелизмы. Решал «труднейшие» задачи гармонии, объясняя азы загадочного, еще непостижимого для Вольфганга контрапункта. Музыкант, композитор, мастер, а не просто отец. «За Богом сразу идет Папá», – твердил в восхищении малыш.
И вдруг чувство неловкости. Отец его не понимает, не успевает на слух следить за его мыслью, требует ноты и, слушая, как со шпаргалкой в руках, гневно чёркает в партитуре, раздражаясь непривычной гармонией, режущими слух диссонансами и цепенея от душевной боли сына, буквально захлестнувшей страницы симфонии g-moll (К.183). Эта боль вторгалась в сознание «мамаевой ордой» и в неистовстве рубила всё, что приподнимало от земли голову, что ей пыталось противостоять, – мгновение скорбного созерцания (почти детская жалоба), – и с новой силой, неудержимо, под самый корень, в азарте слепого наваждения, попирая, подминая помраченное сознание копытами… Ошеломленный отец не верил глазам – шутка, розыгрыш, мистификация? Садился за инструмент, что-то невнятно бормотал, напевал, проигрывал, предлагая правку на каждой странице; исключал крамольное, оскорбляющее галантный вкус, нарушающее пристойность салонной музыки. Правил, как будто можно править душевную рану. «То, что тебе не делает чести, пусть лучше останется неизвестным… В более зрелые годы, когда благоразумие возрастет, ты будешь рад, что её [симфонии соль минор] ни у кого нет, даже, если сейчас, когда ты пишешь, ты ею доволен». Вольфганг усердно кивал, соглашался и ничего не менял. У него пропала охота показывать отцу то, что им было написано не по заказу.
Леопольд не заметил этого или сделал вид, что не заметил. Втайне от всех он мучился: неужто вот она – старость. Похвалит сына, тот довольно усмехнется, поругает – пропустит мимо ушей. И Анна Мария ворчит, уже не замечая, что ворчит в его присутствии. И на службе его давно перестали воспринимать как соперника, перестали говорить при нем шепотом.
Что совсем мне непонятно, как не сумел Леопольд сделать карьеру при дворе, хотя имел для этого достаточно оснований: и солидный профессиональный уровень, и талант дипломата, не пил, был окружен друзьями-аристократами, обучая музыке их детей… Леопольд, безусловно, тонкий, глубокий, умный человек, наделенный необычайным музыкальным чутьем. Он, как музыкант, с поразительной быстротой достиг своего потолка и… остановился. Его сочинения отличали изобретательность, вкус, мелодичность, сочный юмор; они говорили о несомненном таланте, но оставались безличными – по плечу любому средней руки композитору. В этом суть: его личность не раскрылась в его сочинениях, превосходя их собственной глубиной, оригинальностью, выразительностью суждений… Это он понял не сразу – и мучился. Это казалось несправедливым. Не было ни одного композитора из его современников, произведения которых он не просмотрел бы в партитуре, если не удавалось услышать в концерте или исполнить самому. Он знал, чем они дышат, он овладел их секретами. К тому же он старательно изучал вкусы публики и умело, с приятностью для слуха им потрафлял… Но большой музыкант только начинает с мастерского подражания авторитетам и угождению публике, потом – переступает через тех и других. Но для Леопольда – тут его потолок. И если для гения он, скажем ему не в обиду, был мелковат и несамостоятелен, то для карьеры – слишком самолюбив и самобытен. Опять же, ну да – немец, а в моде итальянцы, да и характерец… Можно обольстить случайного встречного в охотку или преследуя конкретный интерес – разово, но не тех, с кем многие годы состоишь в одной придворной челяди.
Его истинный талант (и это стало настоящим везением для Вольфганга) проявил себя в преподавании музыки, увенчавшись двумя вершинами: В.А.Моцартом и «Школой скрипичной игры», изданной впервые в 1756 году (год рождения сына) И. Я. Лоттером в Аугсбурге и еще долгие годы после смерти Леопольда остававшейся востребованной в Европе, в том числе и в России.
Кто бы он был без него… (Написав эту безличную фразу, я вдруг понял, что она в такой же степени может относиться как к сыну, так и к отцу.) С сыном всё ясно, но представить себе жизнь Леопольда без Вольфганга – нельзя. Леопольд необычайно амбициозен. Провинциал, приехал в Зальцбург учиться юриспруденции; увлекся музыкой и очень быстро стал делать успехи, причем, неожиданно для самого себя. Он вдруг возомнил себя гением, жертвой обстоятельств, обделенным в детстве музыкальным образованием. И решил, что он сумеет догнать, у него получится. Он не будет ни спать, ни есть, но восполнит то, что недополучил; восполнит – и превзойдет своих сверстников, потом итальянцев, а потом и нынешних модных сочинителей. Подобные признания часто срывались у него с языка: «Ты знаешь, честь и слава – всё для меня… Это всегда было и останется моей целью». Ему льстило внимание «сильных мира». Он всегда гордился своими связями в высшем свете. Но кто бы из них стал водить знакомство с каким-то вице-капельмейстером захолустного оркестра из Зальцбурга, приглашать на обеды, осыпать подарками, вести переписку, если бы не… Этим нектаром, на который слетались все пчелки, шмели, мотыльки, осы, стрекозы, мухи и прочие, был маленький Вольфганг. Без него – никаких поездок по Европе, никаких приемов при европейских дворах Австрии, Франции, Англии, Италии, Пруссии… Да, отец много вложил в него, но и какова отдача? Жизнь провинциального музыканта обрела какой-то высший смысл. Сын стал его глазами, ушами, нервами, через которые он воспринимал мир. Отнять его, значит действительно отнять у отца жизнь.
Если долго и безуспешно о чем-то мечтаешь, не обладая в полной мере качествами, которые могли бы привести к осуществлению мечты, и вдруг это в избытке обнаруживаешь в собственном сыне, стоит лишь приложить немного ума и усилий – как тут не потерять голову. «Школу скрипичной игры» он создал для других, а Вольфганга – для себя. Отпустить его, значило бы для Леопольда, – и здесь он вполне искренен, если иметь в виду духовную сторону жизни, – испустить дух. Тут его нé в чем упрекнуть, можно только посочувствовать. Их связь невольно заставляет нас вспомнить о сиамских близнецах: вместе жить невозможно и порознь уже не совсем жизнь. Разделившись после переезда Вольфганга в Вену и его женитьбы на Констанце, оба быстро сгорели. Отец четыре года спустя, а сын (вполовину его моложе) – через восемь лет. Как тут не вспомнить писание: дом, разделившийся сам в себе, падет. (Лк 11:17) Никто не знает ни истинного смысла собственной жизни, ни промысла Божьего. Интересно было бы понять, что испытывает клетка, делясь на две, если бы она была наделена сознанием и могла бы об этом рассказать?..
Не сумел Леопольд отпустить сына и понять, что они с ним больше не одно целое – у каждого своя судьба. И сколько тому примеров слепого родительского чувства вседозволенности, как же – он отец. Не дай-то бог ослушаться или поступить по-своему. Родитель сразу же утрачивает здравый смысл и в упор перестает видеть что-либо, кроме как покушения на его авторитет, попытку ущемить его в законном праве властвовать над душами своих детей. Леопольда мне искренне жаль. Но если человек встал на путь гибели, им никто уже не будет услышан.
В самом начале знакомства с Веберами сын делает отцу неожиданное признание: «Завтра обязан выйти [после болезни], так как домашняя нимфа м-ль Пьеррон, моя уважаемая ученица, будет долбить концерт графини Лютцов на французском концерте в понедельник. Ради моей величайшей Prostitution1414
Проституция или (перен.) проституирование.
[Закрыть], я буду также выдавать что-то нарубленное и во всеоружии чеканить Prima fista1515
(ит.) или Prima vista – зд.: с листа
[Закрыть]; ибо я урожденный бренчатель [на клавире] и не знаю ничего другого как лупить по клавишам!» Если это выразить одним словом, то отец услышал бы в его признании sos! Но он не услышал. А за неделю до этого в постскриптуме письма матери Вольфганг в раздражении объясняет отцу: «Естественно, что я не смог закончить заказ… у меня не было ни одной спокойной минуты. Я могу сочинять только ночью. Стало быть, не в состоянии рано вставать и всегда быть расположенным к работе. Я мог бы, конечно, заниматься весь день пачкотней, но… не хочу краснеть, если это будет подписано моим именем. И потом, вы знаете, что я испытываю отвращение, когда пишу для инструмента (который не выношу)».
И опять он не был услышан. А еще раньше, за неделю до этого, он впервые высказал отцу откровенно и недвусмысленно свою позицию в отношении будущего: «Пусть преподавание останется людям, которые ничего больше не могут, как только играть на клавире. Я же композитор, и рожден, чтобы стать капельмейстером. Я не должен (говорю это без фанаберии, ибо я это чувствую как никогда прежде) похоронить свой Talent к композиции, которым Господь, по своей доброте, меня наделил. Но такое может случиться со мной при обилии всякого рода учеников, при том что и сама эта metier1616
(фр.) ремесло, профессия
[Закрыть] слишком беспокойная».
И всё мимо – ни одно его словечко не достигает отцовского сознания. Леопольд перечитывает несколько раз подряд – о чем это сын? Никак не поймет, какая связь между сочинением музыки и карьерой при дворе, например. Первую половину дня стоишь перед князем в поклоне, расплющив нос об пол, и время от времени получаешь пинки, а вторую – вдохновенно пишешь Kyrie и Agnus Dei1717
Части католической мессы.
[Закрыть], одно другому не помеха. «Я тебе часто объяснял, что ты ничего не потеряешь, если даже останешься в Зальцбурге до совершеннолетия, потому что у тебя будет возможность, между прочим, обогащать себя полезными знаниями, развивать ум, читая иностранные книги, и совершенствоваться в языках». И настаивает, и капает на мозги, и вкручивает, и в то же время пропускает мимо ушей признание сына: «Мне трудно в Зальцбурге, это правда, я не могу там почти ни за что взяться. Почему? Потому что нет душе удовлетворения… Когда я играю [там] или играют что-нибудь из моих сочинений, мне кажется, что слушают одни столы и стулья». И «пусть архиепископ мне предложит 1000 фл., я их не приму… – сопротивляется Вольфганг. – Князь Брейнер и граф Арко нуждаются в архиепископе, а я нет». Своеволие – хочу, не хочу. И уроки ему хотелось бы «давать исключительно из симпатии» к тем, у кого есть талант. И «обязанность являться к назначенному часу или ждать у себя» высокородных учеников для него невыносима, «даже если это приносит хорошие деньги». А отец в свои пятьдесят учит бренчать княжон и графинек с нуля; и если бы ему платили за это «хорошие деньги», он взялся бы учить и княжеского пса. «Тот, кто поступает иначе, – человек неспособный или легкомысленный, который всегда останется на последних ролях [это он, Леопольд, так понимает] и будет несчастлив, особенно в современном мире, который требует большой сноровки». Всё так, но…
Один испытывает на себе давление таланта, который, не считаясь ни с его желаниями, ни с отцовским воспитанием, тащит его своей дорогой – ухабистой, топкой, всем ветрам и несчастьям открытой. Другой – свой талант сумел укротить, но тот его, надо полагать, и не очень-то мучил, если для него это была только цепью ошибок (от незнания, неумения, от оплошности или несознательности), которых можно было бы опытному человеку избежать. Ну, ненавидел он князя, но сумел же примириться, подстроиться, приспособиться. И так во всём, избегая риска, он, может быть, и добился какого-то минимума стабильности (предсказуемости), но себя потерял. Он не смог стать даже капельмейстером, потому что смирился, как бы заранее согласившись быть вторым. И ничего этим не решил, не добился ни славы, ни денег: «Со дня вашего рождения, и даже раньше, со дня, как я женился… я не только не мог пожертвовать ни единого крейцера на мои личные удовольствия, но без божественной чрезвычайной помощи я не смог бы никогда, несмотря на все мои Speculation [т.е. расчеты и учеты] и все мои силы, достичь жизни без долгов». Таков этот путь – и бесплодный, и конечный.
Но большой талант не в силах ужаться, усохнуть, сколько бы его ни впихивали в рамки – трещат они. Этого не мог понять Леопольд, и это возмущало его больше всего. Учил он, учил сына, всегда был для него примером, а всё напрасно. Даже в мелочах они разные: «Я пишу без помарок, а твои партитуры не прочесть», – возмущается он. Сын вырос оболтусом, гуляет, как хочет, сам по себе, и никак не желает строиться как все. («Когда я думаю, что всё наконец-то встало у тебя на ноги или на пути [к этому], тут же от тебя приходит новость с идеей неожиданной и сумасбродной, или уведомление о том, что ты сделал всё иначе, чем мне об этом писал». И с искренней горечью подытоживает: «Мы всегда [из-за тебя] пребываем между страхом и надеждой». Но я же, думал Леопольд, смог наступить себе на горло, и стал порядочным, умным, ловким, изворотливым, а он, видишь ли, не может, гений, черт возьми. В том-то и дело, герр Моцарт, он не может, он гений. И только поэтому, с редким прямодушием поздравляя вас с днем рождения, он желает вам прожить ровно столько лет, сколько вы еще будете в состоянии сочинять что-нибудь новое.
Словом, как ни привязан он был к отцу, ему кровь из носу надо было вырваться из Зальцбурга – это раз, чтобы самому всё решать за себя, – это два. Он «водолей», а значит, ему нужна деятельность с размахом: создать немецкую оперу или заставить весь мир говорить о гениальности немцев (возможно, этим объясняется и его вступление в масонскую ложу «всемирного братства») – это три. Чувствовать себя свободным в своем творчестве и жить в окружении друзей – четыре, и, наконец, обрести какую-то «определенность» в отношениях с женщинами, создав семью (или вернее, воссоздав через женитьбу их прежнюю, распавшуюся моцартовскую семью). И то, что кажется Леопольду только фантазиями сына, опьяненного страстью, на самом деле, самый, что ни на есть, естественный ход событий. Вопрос в другом, зачем его сыну было послано Господом именно семейство Веберов? Если взглянуть на это с Небес, где царствует Провидение, то ясно, что самым значительным итогом этого знакомства станет его разрыв с семьей, и с отцом, прежде всего. Видимо, Господь, понимал, что Вольфгангу не уйти из-под власти отца иначе, своими силами, и Он посылает ему Веберов, прельстив (в виде наживки) голосом Лиз (Ему-то не знать, Ловцу человеков), а затем, через Констанцу, крепко-накрепко связав его с этим семейством. Как же глубоко увяз Вольфганг в отцовском болоте, если потребовалось семейство Веберoв, чтобы выцарапать его оттуда. И как же он нýжен был Господу, если Тот послал ему такие испытания, как это семейство, чтобы спасти его талант. Словом, Веберы! Отец далеко, и знать об этом не знает, и знать не хочет, и озабочен только долгами, а в письмах продолжает шкóлить сына, как бы говоря ему: мальчик ты хороший, но шалопай; и не понимает, что сына уже не поставишь на табурет, и не заставишь целовать папа́ в нос перед сном. Нет, не найти было лучшего средства, чем Веберы, чтобы вырвать домашнего Вольфганга из рук отца и увести из-под влияния обожаемой им сестры.
Дальше хочется написать… Мучаюсь, и черкаю фразу за фразой, всё не то, не то. Знаю, о чем хочу сказать – нет слов. Übersehen1818
(нем.) обозреть
[Закрыть] и Überhören1919
(нем.) услышать
[Закрыть] – «всевременность целого, открывающегося в сознании одновременно во всех своих моментах» – сродни приходу Командора в момент истины. Еще… Это можно сравнить с утренним пробуждением, когда сознание растекается половодьем за стенами дома и дышит – теплое, нежное, чуткое, хотя и слегка оглушенное бескрайностью. Или – со временем засыпания в бессонную ночь, когда истерзанная за день, ветхая и изношенная до дыр, ткань сознания незаметно сжимается подобно шагреневой коже в плотный округлый черный лоскут, всё уплотняющийся до черной жирной точки, которой оно и держится всю ночь, будто прикнопленное на время сна для сохранности. Или еще… со взглядом в ночное небо – до головокружения, до беспамятства, до шума в ушах, при этом мучаясь детским вопросом, где же находится это всё-всё, и что оно такое? Боже… Нет, не выразить словами этого состояния, когда ты – ничто, чувствуешь себя «всем» в одно и то же время. Слабый маленький человечек – вдруг ощущает, что внутри клокочет вулкан умопомрачительной силы. Состояние – не то погружения, не то парения, не то загустения в горящую восковую свечу или в белоснежный хрупкий гипс, или в древний пористый, повидавший виды, безносый бюст, или, наконец, в памятник – в подтеках зеленоватой патины, выставленный под дождь, ветер, палящее солнце… Одно мгновенье, – длящееся секунду или вечность, – до отрезвляющего чувства голода…
«Ночью 17-го, со вчерашнего на сегодняшний день, то есть нынешней ночью, – пишет сыну Леопольд, – был страшный пожар в Галлейн [небольшом городе в 15 км на юг от Зальцбурга]. Дом родителей фрау Раухенбихлер, торговца чулками, сгорел дотла, в соседнем доме – верхний этаж, а в другом – вся крыша. Ветер гнал через весь город горящие балки и дранку, но, к счастью, шел снег, и на крышах его уже достаточно намело, поэтому летавшие кругом горящие головни затухали, иначе зданию солеварни был бы причинен большой ущерб».
Разумеется, я знаю, что Вольфганг уехал с матерью в сентябре, а не поздним ноябрем. И пожар, о котором пишет Леопольд, был не в 1777, а в 1780 году. Но письмо пишется туда же в Мюнхен, и точно так же, спасаясь от бессонницы, бродит глубокой ночью по дому Наннерль, и так же болят глаза от тусклой свечи у Леопольда, погрузившего руки в тазик с горячей водой. За окном темень. Немота улицы. И снег целую вечность, бесцельно лепит в окна…
Моя радость присутствия здесь неизъяснимая: лишь бы не сбить фокус, не стронуть воздушные стены (вековые, неприступные), не порушить целый мир, вдруг счастливо обретенный мною в блуждании по дому. И всматриваешься в него долго-долго, насколько возможно; и вдруг думаешь, сейчас это случится: совпадут разнопульсирующие жизни, вздрогнут в унисон сердечными сокращениями, и (как случается на мосту, когда рота шагнет в ногу) рухнет вечность и пахнёт в лицо йодистым запахом моря, свежестью женских волос, пряным духом загорелого тела, и цветаевская ладонь в песке с серебряным колечком на пальце – коснется руки…
«На старых каштанах сияют листы,| Как строй геральдических лилий.| Душа моя в узах своей немоты | Звенит от безвольных усилий».2020
Максимилиан Волошин. Стихи.
[Закрыть]
Auf Widersehen, Leopold und Nannerl.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































