Текст книги "Моцарт. Suspiria de profundis"
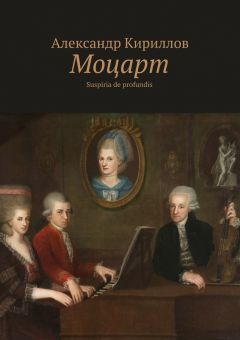
Автор книги: Александр Кириллов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Помню нетерпение, с которым я бросился смотреть протазановский фильм «Человек из ресторана». Фильм немой, и не только из-за отсутствия звука. На экране «кривлялся» маленький человечек. Где же великий актер Михаил Чехов? Тайна, увы, уже недоступная, непостижимая. Родилась новая легенда в этом призрачном мире земных богов, которую ни подтвердить, ни опровергнуть уже нельзя.
НА ЮРÝ
Человек чувствует дыхание прошлого, он слышит голоса давно умерших, позабытых или позабывших, он входит в весенний лес, наполненный голосами юношеских настроений – там нет конца чудесам, и самому яркому чуду из чудес – его первой любви: либо душа разбивается о неё вдребезги, либо, окрыленная, стремится дальше к тем самым последним тайнам – смерти и воскрешению.
Порог жизни, порог смерти, – мы всегда на пороге… счастья или катастрофы, – переступив его, перестаем это понимать. Душа Вольфганга интуитивно и обостренно чувствовала это в самом раннем детстве. Благоразумный Леопольд не подпускал его к этой опасной черте. И если оно исподволь стихийно врывалось у Вольфганга в его музыку (как в юношеской симфонии g-moll), она попадала под строжайший запрет на веки вечные. Не дай Бог, кто-нибудь услышит его – криком кричащего save our soul6363
(англ.) Спасите наши души (SOS)
[Закрыть].
Самые пронзительные по красоте и чувству темы он всегда отдавал в своих операх героям, внезапно застигнутым где-то на пороге. Бельмонте – перед воротами паши Селима, за которыми томится похищенная Констанца в ожидании своего спасителя. От волнения толчки сердца в оркестре прорывают музыкальную ткань арии, взвинчивая нервы – что же дальше? А дальше открываются ворота, и закрутится интрига похищения из сераля… Юный Керубино – между небом и землей – на краю подоконника перед прыжком из окна. Даже в повисшей музыкальной паузе слышим мы этот холодок, пробежавший по жилам и перехвативший горло сухим коротким вздохом, – и полетел он кувырком в свои несчастья. Донна Анна, Церлина, Донна Эльвира, Дон Оттавио, Мазетто, загнав Дон Жуана в угол: на пороге отмщения, – вдруг, словно громом пораженные, узнают слугу в хозяйском плаще (из них разом вышибло дух, секундная немота громче всякого крика), помертвелыми губами они выдыхают: Dei! Leporello?!! (Боже! Лепорелло!!) У меня всегда в этом месте обрывалось сердце, будто я рухнул вместе с ними в дьявольскую пропасть. И всякий раз я испытывал одновременно с болезненным изумлением сладчайший восторг, слыша после могильной паузы, их едва уловимое: Dei! Leporello?!! Нет секстета красивее, где бы так тонко сочетались реальность и мистика. Ведь всё началось с конкретной погони, с желания догнать и отомстить (палкой, шпагой, кинжалом), а кончилось Che impensata novita!6464
(итал.) Какая неожиданная новость! [Так звучит буквально, но pensato – означает: обдуманный, продуманный, а impensato может быть переведено, как не поддающееся разумению, не столько неожиданное, сколько нечто, что воспринять не в человеческих силах]. Что за роковое открытие!
[Закрыть] – вопросом к вечности.
Это не редкие примеры того, как любил Вольфганг подобные остановки в своих операх: мгновения раздумий, собирания всех сил, осмысления себя и всего сущего перед решительным шагом, круто менявшим порой не только сложившуюся вокруг ситуацию, но и саму судьбу. Позже этот мотив «порога» в его операх стал приобретать почти философский оттенок. Речь уже шла об осмыслении сущности жизни, её основных начал, тленности земного и света вечности, любви людской и Божьей.
В «Дон Жуане»: и Донна Анна, и Донна Эльвира (в сопровождении Оттавио) оказываются перед самым что ни на есть реальным порогом, который им надо перешагнуть – порог дома Дон Жуана. Моцарт сочинил для них, жаждущих мести, трио на текст, в котором звучит обычный призыв к Небу: укрепить силы и дух, придать сердцу решимости, чтобы отомстить за поруганные честь и любовь. Причем отомстить Дон Жуану за конкретные поступки: убийство Командора, вероломство, предательство в отношение обесчещенных им девушек… Но как только трио зазвучало, музыка Моцарта всё преобразила – и текст, и смысл сцены. И речь уже идет не о пороге чьего бы то ни было дома. Перед ними возникает нечто вроде метапорога6565
Мета– (с греч. μετά– – между, после, через), часть сложных слов, обозначающая абстрагированность, обобщённость, промежуточность, перемену состояния, превращение.
[Закрыть] – и нравственного, и философского одновременно, порога между Небом и Геенной (потому-то и нет сил его переступить). Действие останавливается, и – высоко, с такой пронизывающей сердце печалью устремляются к Небу голоса, как если бы Святой Дух снизошел на них. Этот порог переступают уже не жертвы обольстителя и убийцы, а жрицы. Они в масках («Singnore maschere» – приглашает их в замок Лепорелло), и этим как бы снимается личный мотив с отмщения – это возмездие, как и в случае с появлением статуи Командора.
И то же чувство, – поднявшегося заоблачного храма, – возникает у меня и в финале оперы Так поступают все, когда я слышу исполненную смирения «молитву» влюбленных перед подписанием брачного договора. Это мы, грешные, входим в храм Любви, как и во всякий другой храм, чтобы покаяться, пролить слёзы и причаститься – с надеждой вкусить любви вечной, какой она и представляется нам в самом начале.
Первая любовь действительно знает всё о чувственном Рае и Аде, как зерно о растении – его жизни и смерти, как музыка Моцарта о Боге и дьяволе. Это и есть та узенькая щелка, через которую можно заглянуть нам в тот вечер, когда Вольфганг импровизировал до поздней ночи для настоятеля монастыря Св. Креста. Кто был по-настоящему влюблен (и я вдруг задумался о степени, но разве у подлинного чувства есть мера), тот кое-что знает и об импровизациях Моцарта. Этой потери мне жаль. Эта боль неосуществления, эфемерности и скоротечности, как первая любовь, не дает покоя. Её всем хотелось бы вернуть. Но как вернуть юность – и в этом смысле мне жаль её дó смерти.
КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ ГРАФА ФУГГЕРА
Он вскочил в кровати, разбуженный настойчивым стуком в дверь. Взглянув на визитную карточку графа Вольфегга (Volfegg),6666
Антон Виллибальд граф Вальдбург цу Вольфегг унд Вальдзэ (1729—1821) Настоятель Зальцбургского собора (1762), кавалер ордена св. Георгия.
[Закрыть] переданную лакеем, он бросился одеваться, приплясывая, корча рожи и напевая на ходу «яволь6767
(нем.) jawohl – да, конечно; так точно!
[Закрыть], яволь, фа ми ля соль». С графом Вольфеггом он столкнулся в дверях гостиницы. Не дожидаясь визита, тот сам к нему пожаловал: «Вы сыграете здесь, обещаю вам. Это дань уважения не только вашему таланту, хотя здешние буржуа недостойны услышать такого виртуоза, но и мой долг перед вашим батюшкой, которого я чрезвычайно уважаю». Яволь, яволь фа ми ля соль – так и подмывало его тут же благодарно пропеть графу в ответ, но Вольфганг лишь мурлыкнул это себе под нос, признательно склонил голову и распрощался с графом. Он летел как на крыльях в маленький салон, чтобы сообщить эту радостную новость Анне Марии. «Там же [он] встретил кузину Теклу и с пылу, с жару, чмокнув её в щечку, пересказал предложение графа устроить в зале Фуггера концерт… Некто П. Эмилиан, надменный осел и глупый профессиональный шут… [приставший к ним в салоне как банный лист] хотел без конца насмехаться над маленькой кузиной, но это она, скорее, посмеялась над ним, когда, захмелев, что с ним случилось довольно скоро, он принялся говорить о музыке. Спел канон и пафосно объявил: я не слышал в жизни ничего более прекрасного. Я сказал: я сожалею, но не смогу петь вместе с вами, ибо пою фальшиво от природы. Это не имеет значения, возразил он, и начал. Я был третьим, но вставил на музыку совсем другой текст: П.Э., олух, лизни меня в зад; sotto vоce (второй голос) остался за моей кузиной, которая потешалась над ним в течение ещё получаса. Он мне сказал: если бы мы смогли пообщаться несколько дольше, мне было бы интересно поспорить с вами об искусстве композиции. Я сказал: мы быстро бы закончили спорить об этом – накося выкуси». И это было адресовано не только П. Эмилиану, но и всем аугсбуржцам, известным «знатокам» музыки из той же породы.
Злоключения Вольфганга в Аугсбурге, родном городе отца, оставили тягостный осадок, послевкусие, которое ничем невозможно было перебить. И ведь ничего же якобы криминального не случилось – ну, позубоскалили, не проявив к нему должного интереса, да просто проигнорировали (!) его приезд. Наверное, в этом и было дело. А иначе, что заставило Вольфганга так болезненно переживать хамство так называемых «патрициев», которых он, пройдя школу зальцбуржского архиепископа, презирал. Однако его это мучило, не давало покоя, приставив нож к горлу, – отомсти, и долго их истязай, наблюдая с улыбкой Лангенмантеля-младшего на лице. Не обошлось тут, конечно, без спеси и гордыни, мол, вон-он я, такой знаменитый, а мной тут брезгуют. Но, как знать, может, просто стыдно стало перед дядюшкой и кузиной Тёклой, что их знаменитый родственник совсем не знаменит, раз не хотят организовать академию, где бы он выступил с концертом. Живой Моцарт приехал – и никаких эмоций. А если (и это, может быть, самое главное) дело в том, что он сын Леопольда, и оскорбили не его, а, скорее, отца? Отец с бургомистром дружили, вместе учились, вместе отправились в Зальцбург. Друг отца не желает с высоты своего положения мараться о сына бывшего приятеля-неудачника, не сделавшего карьеры? И теперь, как бургомистр, он может позволить себе безнаказанно издеваться над его сыном, и ухмыляться, когда «жертва произвола» требует справедливости под объективами телекамер – изысканнейшее наслаждение. Нечто подобное пережил я когда-то, приехав на гастроли в город, где обитали мои близкие родственники. Не считаясь со временем, я разыскал их, вручил от мамы сувениры, пригласил на спектакль, и обещал обязательно быть у них, как только выдастся свободная минутка. Надо было это мне, успею ли? – такое даже не обсуждалось, не просчитывалось в голове – да! – и точка, и только так! Мы же родственники, и мама очень просила повидаться. Являюсь к ним в промежутке между спектаклями, как и было договорено. Звоню в дверь, мне долго не открывают. Я уже сомневаюсь – туда ли пришел? Наконец открыли, слава богу; радуюсь, значит туда. Вхожу – в квартире тишина. А где?.. – Тссс, тихо, все спят. Главный мой родственник отдыхает, он в городе глава администрации – спит… Я сижу – один в комнате, теряю время – жизнь остановилась. Жду неизвестно чего. Тихой сапой подбирается ко мне бешенство. Нельзя же так. Только спустя полчаса выходит мой главный родственник, сонный, в майке, в пижамных брюках, в шлепанцах на босу ногу. Жмет мне руку: «давай», говорит, «сейчас всё устроим». И несут что-то из кухни накрывать на стол. Мне уже уходить, а я сижу и провожаю взглядом то одного, то другого, лениво расхаживающих из комнаты в комнату… Стол накрыли, я даже успел что-то съесть, куда едем дальше – спросили, и привет маме передали. Я вылетел пробкой из их дома, я себя чувствовал оплеванным с ног до головы. В жизни, клялся я, с ними больше никогда не увижусь. Зачем мне это? Я не мог всего рассказать моей матери, щадил её, знал, что её обида может быть острее, чем моя… Родные всё-таки, это же нечто фундаментальное, как и должно быть в основе отношений между близкими – иначе «всё позволено», всё обесценится… и окажешься на огромной жизненной свалке, где и еду можно раздобыть, и одежду прихватить, и даже меблишкой обзавестись… Но чем жить – спрашивается?
Догадываюсь, что и Вольфганг был охвачен тем же чувством – бежать и никогда сюда не возвращаться. «Я бы ни за что не поверил, что в Аугсбурге, на родине моего отца, будут устраивать такой афронт сыну». Но не в аугсбуржцах тут дело. Куда бы он ни попал, в какой бы среде ни обитал – всюду он торчит как палка посреди пустыни – не защищенный, всем стихиям открытый, ни с кем и ни с чем не сочетающийся, инородный, иногородний, иномирный… И беда тут не в кастах, кланах или в его неуживчивом характере, и не в таланте, и не в «синдроме Сальери», распространенном в среде музыкантов, – он иной изначально, от рождения. Сама личность его представляла собой нестандарт, а его творчество, его музыка для многих его современников (особенно для тех, кто её заказывал) часто являла собой неформат, как принято говорить сейчас, она явно возвышается над товарами повседневного спроса.
Он взял первую ноту6868
Концерт состоялся 22 окт. в 6 часов вечера в концертном зале Его Светлости графа Фуггера.
[Закрыть], и, как камень, брошенный в воду, побежали круги, распространяясь и захватывая пространство концертного зала, всех тех, кто отказал ему в устройстве академии, всех этих лангенмантелей, спесивых детей Хама, вроде «молодого осла Алоиса Карла фон Лангенмантеля, музыкального распорядителя частного кружка аугсбурской гильдии патрициев», который мог бы устроить концерт, как обещал, но, «отправив ко мне утром слугу предупредить, что ждет меня к 11-и с партитурой, [при встрече] долго жеманничал со мной, чтобы, наконец, равнодушно мне отказать: О! Вчера я так ругался из-за вас! М. М. Патриции говорят, что их касса пуста. И что вы не тот виртуоз, чтобы устраивать souveren d’or (осыпать золотом) … После чего мне пришлось откровенно высказать г. Штейну, г. Гиньо, мсье директору… что всё это отвратительно, они заливают мне о концерте, ничего при этом не предпринимая… [Э] ти 3 [трое] мсье, причитая, кипели от злости. Надо, чтобы вы дали концерт, мы не нуждаемся в патрициях! Но я, сохранив всю свою решимость, им сказал: да, для нескольких моих лучших друзей, которые знают в этом толк, я дам маленький прощальный концерт у г. Штейна. «Это ужасно, заявил опечаленный директор, это позор. Кто мог предположить такое от Лангенмантеля? Черт возьми…» всех этих… а «уж знати сегодня в зале навалом: и герцогиня Толстожопель, и графиня Обоссунья, и княгиня Говновонь с дочерьми, которые замужем за двумя принцами Пустобрехом фон Свинохряком», но что всего обидней, примкнувший к ним незримо Леопольд, который обрушился на сына за то, что тот якобы «поступил с мальчишкой фон Лангенмантлем подло – ни больше ни меньше. Я же просто вел себя естественно, и только; может папа считает, что он еще юнец, но ему уже 21 или 22 года, и он женат. Разве можно быть мальчишкой, если ты женат?..» Скрип половиц в паузе отзвучавшего клавира – кто-то, запоздалый, вошел в зал и остановился в проходе. Скрестив руки, молодой Лангенмантель хихикал, или нет – насвистывал, или нет – сопел, запалённый, едва переводя дыхание… Вольфганг глотнул влажной горечи, занесенной в зал с запахом дождя, и снова тронул клавиши… «Еще немного, – скалился «молодой осёл Карл», – и мы бы не имели удовольствие вас видеть». – «Да если бы не г. Штейн, я бы не пришел, и скажу откровенно, явился я к вам только для того, чтобы аугсбуржцы не стали для всех посмешищем, если им вдруг придется рассказать, что я провел 8 дней на родине моего отца, а они пальцем не двинули, чтобы меня услышать».
Не сидится ему за клавиром, в тесном зале нечем дышать. Кто там притаился за креслами – ему не видно… Некто одетый с иголочки, с безупречными манерами, поразивший Теклу всем своим видом. Чужеземец отличался особой сдержанностью, отстраненностью, непричастностью к местному обществу малообразованных буржуа, кичившихся своим состоянием или положением в свете, болтливых, хвастливых, громко смеявшихся и невнимательно слушавших Вольфганга, в то время как чужеземец не сводил с юноши глаз. Он так выделялся, что оставалось необъяснимым, как Вольфганг и Анна Мария могли его не заметить в толпе слушателей. «Какая бы это была радость для этого господина и для вас, если бы он прибыл вóвремя, и пришел на концерт», – сожалел Леопольд. Он был, был на этом концерте герр Моцарт, но предпочел сразу же удалиться после его окончания, чтобы в тот же вечер (когда Вольфганг с Тёклой забредут в кондитерскую) продолжить путешествие. «Куда он отправился теперь? [или: Где его носит теперь?] Один Бог знает; может быть, ты и встретишь его где-нибудь еще, но и того достаточно, что вы знаете, что он в дороге».6969
Из письма Леопольда от 1 ноября 1777 г.
[Закрыть]
Случайный свидетель (барон фон Гримм) – фигура беспристрастная, всегда козырь в руках обвинения: сам факт его присутствия как свидетеля их флирта уже несет в себе осуждение.
«Вы знали, что в тот самый день, когда ты играл, наш превосходной друг г. Гримм поселился в „3 Маврах“, [гостинице] рядом с концертным залом?»7070
Там же.
[Закрыть] Вот и играл он в тот день, как оказалось, для него, тыча пальцами в черно-белую клавиатуру железнодорожного полотна, запустив длинный-предлинный состав со всякой всячиной, который тарахтит в ушах, стык-о-стык, а свистки поют – Париж, Париж… Из окна вагона взгляд падает на железнодорожный переезд, оставшийся где-то далеко позади (чего? того места, куда нас занесло вместе с поездом, или, где мы с вами оказались сейчас?) – у шлагбаума одинокая женщина, провожающая «скорый»; мысль, никогда её больше не увидеть ни в этой, ни в другой жизни – поражает осознанием неизбежности происходящего, своим бессилием перед ним. Я ощущаю это, как вызов всей нашей якобы упорядоченной жизни, всей якобы разумной устроенности мира. Всё зыбко в нем, случайно, непредсказуемо; всё уплывает из рук, исчезает из памяти, уходит из жизни, точно так же, как и та, случайно увиденная, мелькнувшая у шлагбаума женщина. Кто она? – спрашивает в тебе кто-то, а зачем это знать – не ясно, но знать хочется, и думаю, что исключительно в знак протеста: не может и не хочет наше сознание смириться с собственной мимолетностью, если из великого множества неосознанных и неосуществленных встреч и прощаний на веки вечные и состоит наша жизнь. Нескончаемые встречи – как тот вечный шум, к которому глаз и ухо всегда избирательны: что-то остается повседневным фоном, что-то насторожит отдаленной грозой, а что-то вдруг жахнет по барабанным перепонкам немыслимыми децибелами и перевернет всю жизнь… Не начать ли с вопроса: всё ли в порядке у кузины со spuni cuni fait, зацепив эту белую клавишу и приперев её черными двумя… От сладкого шоколада вязкий дух. Они двигают столик, сквознячок шерстит между ног под столом, задувает и гуляет у Теклы под юбкой и зад примерзает к стулу, пальцы ищут среди клавиш близких родственников, минуя знакомых, случайных прохожих и друзей, натыкаясь на очередного недруга – резкий, голый диссонанс, спицей воткнувшийся в тесто разомлевшего зала… Бежит за окном юноша, черным силуэтом в беломутном снегопаде, режет фальшивой нотой семейную идиллию: хряс ножницами наискосок фóтку – и нет больше сладкого темного шоколада, бултыхавшегося в белой фарфоровой чашке, – белой, как зубы кузины, смеющейся ему в лицо. «Штейн от восторга корчит рожи и гримасничает [Вольфганг изобразил Тёкле, какие рожи корчил Штейн после концерта]. Граф Вольффег бегает по залу и говорит: „Ничего подобного за всю мою жизнь я не слышал, я скажу об этом Вашему отцу, как приеду в Зальцбург“. А г. Деммлер смеется не переставая. Курьезный человек, если что-то ему понравится, будет смеяться до колик. Со мной он даже начал ругаться». Завидная чернота под ногтями у Тёклы на белых-белых пальчиках, выстукивавших на столе его сонату, сыгранную для неё импровизационно, а как иначе охарактеризовать то, что вдруг вырвалось у него в минуту желания, пробравши до костей, как в жестокий мороз.
Их головы (Вольфганга и Тёклы) совсем близко. Когда шепчутся, ощущают на щеке дыхание другого, ловят его неповторимый аромат (правда, сейчас всё перебивает сладковатый запах шоколада). Чужое тепло из приоткрытых губ волнует обоих. Эффект горного эха, почему-то такой гетевский, сопровождает эту парочку повсюду – на улице, в храме, в доме дядюшки и здесь, в салоне кондитерской, где они, забившись за угловым столиком с недопитыми чашками шоколада, перешептываются. Bäsle Häsle (кузина и зайчиха) рифмуются у них так же запросто, как кузен и спаситель (Vetter Rétter). Бас и ненависть (Baß Haß), письмо и капать (Brief Trief) – и так же исполнены подлинного смысла, как прелат салат (Prälat Salat) – шутки, а папá ха-хá (Papá hahá) – озорства. Вольфганг заказал вина, чтобы унять дрожь. [Об этом вечере они вспомнят в салоне магазина Йозефа Хагенауэра, болтая за чашкой шоколада в компании хозяина и Наннерль. А год спустя Вольфганг опять напомнит о нём кузиночке, уже в связи со смертью гостеприимного Йозефa. «У меня нет никаких новостей, разве что умер Йозеф Хагенауэр (мы пили шоколад – вы, моя сестра и я в маленьком салоне его магазина.)]
В окнах кондитерской синим-синё. Теплый свет множества свечей за толстыми витринными стеклами притягивает зевак, что-то им обещая. Разговор течёт неторопливо, вполголоса. Народу в зале немного, все заняты собой. Давайте пристроимся и мы за соседним столиком, закажем чашку горячего шоколада.
Сегодня в Аугсбурге промозгло. Мелкий сырой снег с дождем. Ветер задувает во все щелочки наглухо, внахлест запахнутых плащей. Хочется горячего кофе, теплой дружеской компании. Глядя на Вольфганга и Теклу со стороны, может показаться, что нет ничего волнующей и задушевней, чем беседа с женщиной-другом. В отличие от нервных объяснений с любовницей, где тривиальная ревность часто зáстит свет. Не говоря уже о мучительных объяснениях с женой, в отношениях с которой заоблачные выси давно сменила «миргородская лужа», которую ни обойти, ни объехать, ни одолеть вплавь, неистребимую в самую засушливую пору…
За нашим столом тут же завязался спор, какую из сонат до мажор или ре мажор Вольфганг исполнил (как он писал отцу – «из головы») на концерте 22 октября, устроенного благодаря стараниям графа Вольфегга. В аусбуржской газете «Augburgische Staats– und Gelehrtenzeitung» от 24.Х. – ничего нет об этом: «Вечер прошлой среды… Господин рыцарь Моцарт, сын прославленного… в зале графа Фуггерa… познакомить с трудным концертом… господин рыцарь сыграл сонату и контрапунктическую фантазию без аккомпанемента… и еще начальную и заключительную симфонию своей композиции… полно вкуса и достойно изумления… гармония полна, могуча, неожиданна, так возвышенна… мелодия столь приятна, увлекательна и всегда столь нова… исполнение на фортепьяно… чисто… полно выражения… стремительно… шедевры творчества…» – ничего конкретного.
Но в письме к отцу, перечисляя исполненные на концерте произведения, Вольфганг совершенно определенно упоминает: «…и вдруг, так, из ничего [сыграл] роскошную сонату в до мажор с рондо напоследок…» Потом он присочинил в Мангейме Анданте, зашифровав в звуках портрет м-ль Розы, дочери Каннабиха7171
Розина Терезия Петронелла (род. 1764) 13-летняя дочь композитора и дирижера К. Кананабиха (1731—1798). Ученица Вольфганга. В знак своего расположения к этой семье он сочинил для сонаты A-dur Анданте совсем в характере м-ль Розы. «Если верить этому портрету, она была порядочной плутовкой» – считает Г. Аберт.
[Закрыть] – а это уже известная нам соната по каталогу Людвига фон Кёхеля n° 309. Сам фон Кёхель7272
Людвиг Алоис Фердинанд фон Кёхель (1800—1907), австрийский музыковед, составитель каталога произведений Моцарта.
[Закрыть] настаивал на этом, поддержанный коллегами Ноттембомом и Дайтерсом7373
Герман Клеменс Отто Дайтерс (1833—1907) нем. музыковед, филолог.
[Закрыть].
Опустошая корзиночку с печеньем, эти два господина заказали уже по третьей чашке кофе. Господин А. Хойс, недоверчивый и дотошный во всем, прислушиваясь к их доводам, задумчиво крошил печенье в блюдечко, но в конце концов присоединился к ним. Ни за что не хотел с ними согласиться вздорный господин Л. Шайблер, даже не притронувшись к уже остывшему шоколаду, и со свойственным ему энтузиазмом доказывал, что этой сонатой может быть, скорее всего, соната ре мажор (K. 311), при этом он напевал и выстукивал что-то на столе. Раздосадованный таким упорством господин Деннерлайн всучил им свою книгу: «Der unbekannte Mozart» («Неизвестный Моцарт»), и поклялся, что проведенный им тщательный анализ, заставит господина Шайблера, например, изменить свое мнение.
Меня так воодушевил их спор, что я и сам решил погадать на кофейной гуще, осмелясь предположить, что если для Вольфганга было возможно в одной из сонат изобразить маленькую Розу, то почему бы ему не сделать то же самое в сонате, заказанной ему фрейлейн Фрейзингер7474
Жозефа Фрейзингер, младшая из двух барышень, с которыми Моцарт музицировал в Мюнхене в октябре 1777. Для неё была написана соната К. 311
[Закрыть], набросав в анданте портрет уже другой девушки, с которой он с таким трудом расстался – его кузины. Анданте сонаты ре мажор готово заставить меня задуматься об этой тайне, будто, прислушавшись, я в какой-то момент слышу его голос: «Теперь немного умственного» – и звучит побочная тема: простая, задушевная и ностальгически щемящая. В подтверждение мне вспомнились слова Штейна, что «прощание с фрейлейн кузиной было горестным и надсадным». Не хочу гадать, из какой душевной смуты выпевалась эта тема у Вольфганга – здесь могли быть и воспоминания о Бёзль, и о Мюнхене 1775 года, когда еще не было отбоя от приглашений и слава по-прежнему баловала, и многое другое… ревность, например, к «золотобóйцу» г. Шмидту, обожателю кузины, который служит в книжной лавке… Откуда я взял?..
Вы видели когда-нибудь Анну Марию Тёклу (Бёзль)? Высокий лоб, глаза цвета морской волны, ясные, ласкающие, крупноватый нос и большой сочный красиво очерченный рот с ямочкой на подбородке. Она нравится мужчинам и стройной фигуркой, и красивой грудью, и тонкой талией, несмотря на свой маленький росточек. К тому же в ней столько бесхитростности, – она всем кажется легко доступной из-за своей отзывчивости и телячьего взгляда, что располагает мужчин к грубоватым шуткам и вселяет весьма смелые надежды. Тёклу красавицей не назовешь, но Вольфганг и не ищет в женщине красоты. Ему нужна любимая, близкий друг, от которой ему нечего скрывать, перед которой не надо стыдиться – ни слабостей своих, ни положения в свете, ни чудачеств.
Он не доиграл в детстве, и, в сущности, всё еще ребенок, и ждет от подруги такого же ребячества, а взрослая вышколенность ему претит. Он любит дурачества, обожает розыгрыши, он искусный актер, его пародии забавны, остры и похожи. Тёкла такая же, она его понимает. «Я надеюсь, что на портрете (который она ему обещала прислать) вы будете, как я вас об этом просил, в костюме француженки» – не отрыжка ли это его полубреда о м-ль Женом, т.е. не рецидив ли того, о чем мечталось, и что не случилось?
Вольфганг ищет самые чувствительные – черные и белые – косточки на клавиатуре, перебирает их, как считает ребрышки, и доводит до истерики хохочущую Тёклу, дрыгающую в изнеможении под столом маленькой ножкой. Все оглядываются, и мы оглядываемся – все те, кто забежал в кондитерскую погреться и выпить кофе или шоколада. Кто-то опрокинул рюмку, кто-то вскочил на ноги, кто-то хлопнул дверью – всё задвигалось, запестрело, перемещаясь из одного угла кондитерской в другой, от столика к столику, перекликаясь со стремительными пассажами Вольфганга, как на углях сидящего за фортепьяно.
Легкими аккордами он утихомирил расходившиеся страсти, растворив их в приливах и отливах модуляций, родственных, как седьмая вода на киселе. «Der eine hat den Beutel der ander das Geld», – лукаво смотрит он на кузину. («Кому кошель, а кому деньги» – перевожу я для себя). Отсюда заметно, как она краснеет, как ясный взгляд её становится глубоким и темным.
Подождем, когда она обернется. Может быть, она совсем другая и мое первое впечатление обманчиво. «Je vous le fais bien, – переходит Вольфганг на французский, – a vous, si vous voulez, pourquoi pas? Pourquoi ne vous le ferais-je pas? Curieux! Pourquoi pas? Je ne saurais vraiment pas pourquoi… A propos7575
(фр.) Я вам это сделаю хорошо; вам, если вы захотите, почему бы нет? Почему бы мне вам это не сделать? Интересно! Почему нет? Я действительно не знаю, почему бы нет?.. Кстати…
[Закрыть] – и Вольфганг вернулся к немецкому, – mögten sie nicht bald wieder zum h. Gold”schmidt gehen…7676
(нем.) А не желает она скоро вернуться к золотому кузнецу…
[Закрыть] И мне слышится, как он, имитируя удары молота о наковальню, трижды повторил со значением: Gold”schmi”ied. Намек понятный только им обоим, и не доставшийся вечно голодным моцартоведам. Кто же он, этот золотой кузнец счастья, и почему его имя (скрытое от нас) занимало мысли Вольфганга? Это такая же живая тайна (нераскрытая, не выпотрошенная), как и сакральные «nun den Spuni Cuni fait7777
Выражение, лишенное смысла для нас, но не для Тёклы. Оно встречается и в его письмах к жене.
[Закрыть] fragen halt, прикрывающие своим загадочным смыслом, как фиговым листком, возможно интимнейшую часть их странных отношений.
Warum nicht?.. was? – почему бы нет?
БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ ЛУНЫ
Меня разбудила луна. Я все ещё испытывал темное топкое желание, ослепленный луной. О, Боже, где я? что это со мной? Ночью всё утихает – одиноко виднеется посреди темного запущенного сада безмолвная женская фигура, и луна, взойдя на небо, серебрится в её открытых глазах…
Вольфганг стоит, едва переступив порог комнаты. Пожелав ему «спокойной ночи», призраком удалился дядюшка Алоис. Вот тóлько сейчас еще были слышны его шаги. Лунный свет проник в комнату. Перед Вольфгангом кровать, туго запеленатая покрывалом. Жесткие, словно затянутые в корсет подушки, стены холодные, белые. Пьяная тень от горящей свечи. Если забраться под одеяло с головой, можно согреться. Но тоска пробирает нестерпимей любого холода и никаким одеялом не отгородиться от неё – вдруг стиснет там, стервозина, в коконе из черных мыслей (это луна, я не отвечаю за это) … Сиди – дрожи хоть всю ночь, нахлобучив на голову край одеяла, нет пути назад, даже за дверь не выйти – коридор темен и пуст, дом спит, только глаза – всё так же открыты и блестят.
Льдинка луны растаяла горькой пилюлей во рту и наконец-то бренная жизнь отпустила его, и вот-он óн – желанный мир… Скрипнула дверь. По лестнице вверх…
«Можно? Я тихо, тихо», – на цыпочках по ледяному полу к ней в кровать. Теперь оба сидят под одеялом, осиянные луной, и дрожат. Она: Вольфганг, он: Тёкла. – Какие у тебя холодные ноги, – шепчет Тёкла. – А у тебя, как горячие пирожки. – Ты éсть хочешь? – Особенно ночью. – Я принесу кусок пирога. – Обойдусь. (Конечно, сон, конечно, так не бывает, если только в мечтах желание вдруг перенесет вас за тридевять земель.) Полная луна притягивает, отталкивая металлическим блеском, держит на поводке. Ноги ледяные как у лягушек, вздрагивают. Они, разгорячившись, пинают друг дружку, не поймешь – не то в шутку, не то уже всерьез. Пятки, пальцы, лодыжки, подколенки и опять пятки. Ноги скользят, срываются – вдруг… Тёкла застыла, и он, точно парализованный… Что смотришь? – спокойно спрашивает Тёкла. Вольфганг пристыжен и болезненно щурится от ядовитого лунного света. Отмечаю про себя, сколько в его чертах материнского, женского, лукавого…
Один описывает жизнь, другой, что ему в ней привиделось, и неизвестно, что реальней. Это как стрела Эроса – вонзается в самое сердце, и я сдаюсь. Ничего всё это не значит, ни о чем не говорит. Если – с точки зрения документов, – их, слава богу, нет. Как нет у меня и чувства вины, что вошел к ним без спроса и разрешения, и брожу по коридорам, комнатам, лесам и почтовым трактам. Пишу что-то – и ухожу от этого в недоумении, в раздражении; пишу о другом – и опять тот же протест, недовольство собой; спешу дальше – может быть, там или там, может быть, где-нибудь и найду ту ариаднину ниточку, которую потерял. И не для того, чтобы делать далеко идущие выводы, или, упаси боже, обнаружить некий тайный смысл, или, уж это и вовсе нет, чтобы, не дай бог, уличить в чем-то. Это всё на моей совести, но… они мне так велели, они и этот преломляющий очевидное в невероятное лунный свет… Вон они сидят и разговаривают всю ночь. Тон ночи исповедальный. Они не стесняются друг друга, не подыскивают слова, не боятся молчания, им вместе легко. Они смеются, вспомнив, как их уложили в одну постель спать (родители засиделись зá полночь), а они, дурачась, толкались, ябедничали взрослым один на другого и наконец, обнявшись, заснули. Кто же напрудил в постель? – Тёкла усмехается. Вольфганг с возмущением отрицает: никогда за ним этого не водилось. Спроси у мамы, – и сам тут же начинает хохотать над той серьезностью, с которой только что отстаивал свою честь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































