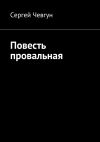Текст книги "Были"

Автор книги: Александр Минеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Гурий
В этом рассказе все имена и географические названия – настоящие, события – тоже, за исключением немногих эпизодов, которые мне пришлось додумать, чтобы не нарушать повествовательной связности. Искренне уповаю, что этим я не погрешил против светлой памяти Гурия Прокофьевича Ильина и всех названных в рассказе дорогих мне людей, у которых я, увы, уже не могу попросить прощения.
А.М.
Свежие холмики вспучивали плоскость укоса, сбегавшего к Волге от кладбищенского плато. На укосе – ни деревца, ни кустика, корнями своими удержавшими бы глину от оползания в реку. Одни колышки с прибитыми накрест фанерками. Каждая – в две ладошки, не больше, чтобы только поместилось на ней: «Г-83» или, самое большее, «Ж-245». Что на фуфайке лагерной было накрашено, то и на фанерке теперь – в ногах.
Гурий[3]3
Гурий – «львёнок» (евр.).
[Закрыть] Прокофьевич укосом этим восьмой год уже ходит: Дуню свою проведывать. Дуня, Евдокия Федоровна покойная, на ровном лежит – наверху, под деревьями, там, где вольных с постоянной пропиской кладут. Место хорошее. Плохо только, что одиночное – не подлечь к Дуне. Эльдар, директор кладбища, тогда Гурию Прокофьевичу сказал: «Хочешь двуспальное на ровном – давай стольник. За так – на косогоре ложись со своей бабкой, у зэков. Наверху – строго по одному инструкция. Строго-настрого, пойми».
Эльдара Гурий Прокофьевич помнил ещё пацаном, когда его звали Лёшей. Он был единственным ребенком в семье. Фамилия у них была Залимзяновы. Отец, Ильгиз Шавкатович, работал бухгалтером в ДРСУ, и однажды, году в пятьдесят пятом, Гурий Прокофьевич ревизовал его хозяйство. Была такая практика: ревизию поручали местным бухгалтерам, а старшим в бригаде ревизоров делали главбуха самого крупного из окрестных предприятий. Самым крупным в Нижних Вязовых, если не считать «зоны», был мясокомбинат, где главным бухгалтером до самой пенсии работал Гурий Прокофьевич.
У Ильгиза нарушений обнаружилось много: по тем временам – лет на восемь-десять. Из ревизоров этого никто не разглядел: у каждого в проверке был свой ограниченный участок. В целом картина тоже была настолько ловко закрученной, что вполне можно было ничего не заметить. В последний день проверки Гурий Прокофьевич позвал Ильгиза и показал ему до мелочей все его фокусы. Тот упал на колени и стал умолять маленьким Лёшкой: не губи. Гурий Прокофьевич не погубил, сказав только: «Ты, Иван Семёнович, больше так не делай, тебе ведь вправду сына растить».
Ильгиз помер на свободе лет десять назад. Эльдар похоронил его с размахом: когда опускали гроб, на Волге против кладбищенского холма гудел буксир «Муса Джалиль», специально пришедший по этому случаю из зеленодольской верфи, что на том берегу. На этом гудели грузовики ДРСУ, где трудился покойный, и все поселковые частники, по списку ГАИ позванные Эльдаром за ломившийся от яств поминальный стол. «Так, отец рассказывал, Сталина хоронили, – объяснял гостям Эльдар, – он сам в Москве был тогда – видел. Папа Сталина любил за справедливость, за порядок и за интернационализм».
На сороковины забор залимзяновского дома украсился изображённым на ватмане эскизом надгробия с бюстом покойного – по образцу тех, что выстроились между Мавзолеем и Кремлёвской стеной. Весь посёлок, проходя мимо, мог полюбоваться. Многие так и делали, иным из них выносили поесть и выпить за упокой Ильгизовой души. Тогда общественное обсуждение проекта памятника разгоралось с особой силой. Тогда особенно одобряли. Под сенью воплощённого в граните Ильгиза и хлопотал перед Эльдаром в день Дуниной смерти Гурий Прокофьевич.
«Да, может, ты ещё женишься, дед? – по-свойски осклабился начальник кладбища. – Ты ещё, гляди-ка, хоть куда мужик. Придет твоя новая тебя хоронить, опять двуспальное будет просить. А с твоей старой я кого положу, а? – он подмигнул. – У нас местам пропадать нельзя. Вон вас сколько – куда мне всех девать? Отец тебя сильно уважал, дед. Так и быть, дам тебе двуспальное – на косогоре. Там ведь тоже – инструкция. Но в память о папе – нарушу». И он благоговейно возвёл очи на каменное лицо Ильгиза.
На почти таком же косогоре они с Дуней прожили без малого десять лет: с сорок пятого, когда Гурий Прокофьевич с войны пришёл, по пятьдесят четвертый, когда стали заполнять Куйбышевское водохранилище и их землянка на приволжском склоне «запланировалась к затоплению». Как они радовались! Вспоминали, что в сорок пятом хотели отказаться от этой землянки – дескать, совсем уж под горой, да ещё ручей из серной кислоты прямо у порога тёк – с комбината. Умоляли хоть чуточку повыше! Те, что повыше, наверное, до сих пор в землянках живут. Хотя навряд ли, как-никак почти тридцать лет минуло – переселили и их.
Всем, кто оказался ниже расчётной ватерлинии рукотворного моря, дали по 1800 рублей подъёмных плюс столько же – на обустройство на новом месте. Место определили на окраине Нижних Вязовых – пристанционного посёлка, где железная дорога из Москвы подходит к мосту, чтобы тем берегом Волги через сотню километров налево добежать до Йошкар-Олы, а через полсотни направо – до Казани.
Гурий Прокофьевич помнил, как строился этот мост. Точнее, помнил, как проезжал под ним санным путем на рождественские каникулы в канун Нового, 1911 года из Казани домой – в родное Абашево под Чебоксарами. Просветитель Яковлев, сотрудник Ильи Ульянова, сам чуваш, устроил в Казани училище для инородцев. В каждом классе обучались по шесть мальчиков от четырёх православных народов Поволжья – мордвы, черемисов, чувашей и вотяков. Гурий учился от чувашей.
Он помнил возок, выстланный терпко пахнущими овчинами, который отец прислал за ним в Казань, помнил, что сам был укутан в беличью шубку, помнил, как возница, проезжая между вмёрзших в Волгу быков будущего моста, показал ему на готовые уже постаменты на левом берегу, где предстояло установить статуи императоров Александра III и Николая II, помнил, что мост назывался Романовским.
…Новую улицу для переселенцев из-под морской ватерлинии, не мудрствуя лукаво, назвали Куйбышевской – в честь водохранилища-моря, которым советская власть их не утопила. Выданных денег хватило на переезд, на фундамент да на три венца сруба. Пришлось занимать. Гурий Прокофьевич одолжил у сестры – Агриппины Прокофьевны.
Груня была старше на два с половиной года. Гурий Прокофьевич как себя начал помнить, так Груня – рядом, как мама. Потом, когда Груне исполнилось двенадцать, отец определил её в гимназию в Чебоксары, а Гурия – в яковлевское училище в Казани. Встречались в родительском доме на каникулах. После разлуки ещё светлее было с Груней. Она весёлая, не унывала никогда. Потом, лет пятьдесят с лишним, виделись от случая к случаю, случаев-то – на пальцах загнуть: считай, что и не виделись. А теперь, как овдовели оба, стали подолгу друг с другом бывать: то она на лето к нему приедет, а он – так каждую зиму у неё в Москве гостит.
У Груни – дочь с зятем, два взрослых внука. Оба – физики, в Академии наук работают. Груня в трёхкомнатной квартире на Ленинском проспекте живёт: зять выхлопотал за заслуги Василия Алексеевича, Груниного мужа покойного. Тот в партии с сáмой революции состоял, а квартиру не успел получить: прожили они с Груней в коммуналке жизнь. Правда, в Доме Правительства, напротив Кремля, но всё равно коммуналка. Зять Грунин тоже по партийной линии работает. Вот он и добился ей квартиры. Просторная, с двумя лоджиями, с большой прихожей. В ней Груня со старшим внуком, Володей, женой его, Олей, и двумя их дочерьми-школьницами теперь живёт. Ещё собаку колли, Джимом зовут, недавно завели. Ещё вот и Гурий Прокофьевич зимовать приезжает. Они с Груней в одной комнате помещаются – как в детстве, бывало.
Весной, как вернётся домой, в палисадничке – обязательно две-три дохлые собаки лежат подброшены. Как-то (на второй, кажется, раз) выгребал он собачьи трупы, стараясь пореже дышать, – соседка Роза из магазина идёт и вроде сама с собой, но довольно громко говорит: «Что, не нравится дохлятину нюхать? В Москве, небось, не пахнет. А у нас не Москва – культур-мультур мало будет. Поезжай, Гурий, поезжай в Москву – разгонять тоску. Зачем вернулся? Дуни нет твоей, не захотела Дуня с тобой жить. И тебе тут нечего делать. Продай дом да уезжай. Всё одно сгорит». Мимоходом так сказала, головы не повернув, и прошла.
А на следующую зиму телеграмма в Москву пришла от другого соседа – Толи: «дом горел все нормально». Гурий Прокофьевич среди зимы метнулся домой, увидел: угол один обуглился, но только снаружи, а в остальном – ничего, действительно всё нормально, жить можно. Главное – под окна на этот раз собак не подкинули. Даже настроение немного поднялось. Решил в Москву уж не возвращаться, у себя дозимовать.
С трупным духом первый раз Гурий столкнулся, когда индюк у отца пропал. Искали-искали, а через пару дней из-за сарая потянуло. Видно, полез зачем-то в щель, где дрова неплотно к стенке прилегли, да задохся. Из глупого своего индюшачьего любопытства. Закормленный до полного неощущения опасности. Отец их лущёными грецкими орехами откармливал – с мягкого одеяла, чтобы шеи у них при поклёве не отбивались. Слабые у них шеи. Вообще, никчемные существа – только мясо в них и ценно. Отец перед империалистической аж из Бельгии заказы на поставку своей индюшатины добыл. Год, что ли, всего и успел на экспорт поторговать…
Индюк тот, за сараем задохшийся, Гурию Прокофьевичу лет через десять привиделся. Били его долго, остервенело – и ногами, и табуретками, и прикладами – требовали сказать, куда бриллианты брат Николай спрятал. Били, пока Гурий Прокофьевич не бросился, совершенно обезумев от боли, на следователя ЧК. Помнит только, что кричал: «Я такой же, как вы, пролетариат, я по найму батрачил!» Или только хотел крикнуть?.. Последнее, что в памяти осталось, – злобно-удивлённые глаза следователя, его рука, схватившая со стола наган. Хорошо, он не за столом в тот момент сидел – из-за стола точно бы пристрелил. Прохаживался он перед столом, отдыхал от молотьбы по Гурию и орал: «Колись, кулацкое отродье!» Потому сподручней ему было – рукояткой по голове… Вот после этого индюк и привиделся.
Выбрался Гурий Прокофьевич из оврага – вся одежда смердит, в трупах соседних перемазалась. Так и шёл в ночи верст двадцать, давясь от запаха этого, даже боли и страха сквозь тошноту не чуя. К Груне в деревню шёл, где она учительствовала. Вы ходила его тогда Груня. Только после того допроса горб у Гурия Прокофьевича принялся расти. Вырос не очень большой, не такой, как бывает, – например, у Репина на картине, среди крестного хода в Курской губернии. Гурий маленьким первым делом мальчика-горбуна на репродукции в большой комнате глазами находил и холодел от ужаса – предчувствовал? У него поменьше вырос, и не посередине спины, а слева, но, как ни говори, – горб. Теперь вот могила исправит.
Краска на Дуниной оградке пооблупилась. Надо бы нанять подновить. Шура, соседка, мать Анатолия, сказывала недавно, будто Верблюд-могильщик недорого берётся. Верблюд страшный молодой ещё – у него на правой руке три пальца, на левой, кажется, и вовсе два. Проиграл в зоне в какую-то их воровскую игру. Интересно, сколько он запросит? Ну всё дешевле, чем если бы вокруг «двуспальной».
Почему он тогда Эльдару сто рублей не дал за «двуспальное»? Гурий Прокофьевич и сам с собой от объяснения уходил – спешил подумать: сволочь он, дескать, Эльдар этот. Он-то сволочь, конечно. Когда спросил, кого с Дуней положить, подмигнул. Гуляла от Гурия Прокофьевича Дуня. Весь посёлок знал. Да и сама покойная не скрывала: ни от людей, ни от Гурия. «Ну не огорчайся ты так-то, – утешала она бывало мужа, – ну что теперь поделаешь, если ты здоровьем для меня не вышел? Не хватает мне тебя. Это ведь часто и у других бывает. Зато я – спокойная, весёлая, по дому управляюсь, а то была бы нервная – разве бы это семья у нас была?»
По дому Дуня действительно управлялась хоть куда, ещё и шить успевала на продажу. Умирала она тяжело, врачи сказали – рак. Превозмогая боль, почти до последнего дня заказчиков принимала, что-то примётывала на них, потом строчила на своей ручной машинке, привычно пеняла Гурию, что вот у Груни «Зингер» с ножным приводом, а он ей ни к чему – так, в прихожей для мебели в Москве, пылиться чтобы. Отдала бы лучше любимому брату, сколько тогда клиентов можно было бы ещё обшить…
Теперь лежит вот здесь – отшила, отмучилась. Одна лежит, не подлечь рядом. Ни Гурию, никому. Отгуляла Дуня.
Напрасно она тогда про «Зингер» так-то. Эта швейная машина – память о брате Александре. Среднем. Он Гурия на целых пять лет старше был. Рисовал хорошо, бабочек коллекционировал, читал ненасытно. Отец, видя его книгочейство, распорядился выдавать ежемесячно сумму Александру – на семейную библиотеку. С той поры для Гурия с Груней самый большой праздник был, когда Александр в город бричку снарядит – за книгами. Что он на этот раз привезёт? Пахнущие типографией и сафьяном, ещё не разрезанные томики Майн Рида, Буссенара, Дюма-отца – для Гурия и Жорж Санд, Теккерея и Леонида Андреева – для Груни, как в прошлый раз? Или что-то новенькое, незнаемое ни по фамилиям писателей, ни по облику книг? Как вот однажды, когда из брички появились двадцать два тома «Большой энциклопедии» под редакцией С. Южакова, дюжина немного потёртых томов «Жизни животных» Альфреда Брэма и альбом «Все виды Неаполя и его окрестностей». Саша сказал тогда: «От букинистов». Так жизнь у Гурия Прокофьевича проходила, что нигде ему это слово не встречалось больше. А недавно вот в Москве из автобуса увидел вывеску «Букинист», и всё перед глазами встало. Вечером Груне рассказал. Повспоминали вдвоём…
Александра на империалистической убили. Тогда она Второй Отечественной называлась. Незадолго до этого он Груне машинку швейную в подарок прислал. С фронта. Прапорщиком двадцати лет погиб. Всего-то на пять лет старше, а вот ведь как черта времени пролегла с войной этой. Самый одарённый в семье был. Теперь вот Груниного младшего внука Сашей зовут. Провожает Гурия Прокофьевича по весне до дому, погостит день-другой, на огороде кой-чего вскопает, забор подправит, баню примет – и назад, в Москву. Понятно, дела. Да и что со стариком ему?..
Николай, старший, к революции у отца уже в компаньонах состоял. Дело развернул широко: хлебопекарню на баранки сориентировал – до Симбирска округу отоваривал. Кирпичное производство завёл: многие как раз тогда строиться вовсю принялись – кто на военных поставках в гору пошёл. Ещё маслобойню старую с конопляного да льняного на кедровое переделал – из Сибири орешки везли. Говорил Николай под большим секретом, будто из самого Питера ему заказ на кедровое масло пришёл, будто оно одно по своим оптическим свойствам годится для прицелов, что на подводных лодках собирались ставить. Он-то сам едва ли знал, что за свойства такие, но нюх и хватка у него посильнее отцовских выдались. Кабы всё шло по прямой, быть ему не меньше Путилова или Гучкова, а то и самих Рябушинских. Незадолго до Февральской Николай раза два, а то и три по этим делам в Петроград ездил. Под Архангельском помер в ссылке.
Дети, правда, выбрались благополучно. В Ленинграде теперь. Клава, старшая, красавица, их всех перетянула, когда за Петра Дмитриевича вышла. Он её беременную от первого мужа увёл. Тот в райкоме партии того самого района, куда Николая с семьёй выслали, работал. А Пётр Дмитриевич там секретарём был. Его в 35-м в Ленинградский горком на укрепление бросили. После Кирова укрепляли. А может, ещё при Кирове, когда после Зиновьева укрепляли, – точно Гурий Прокофьевич не помнил. Короче, Пётр Дмитриевич Клаву за собой позвал. Она как была в положении, так с ним и отправилась. Первый-то муж сейчас в Москве, замминистром, что ли. Женился, внуки уже, а Клаве каждое 7 Ноября и 1 Мая открытки шлёт. Ну и, конечно, на 8 Марта и Новый год. Как уж она их от Петра Дмитриевича прячет, неизвестно.
Клава как-то приезжала. В 60-м это было. Они где-то неподалёку, выше по Волге, в санатории отдыхали по путёвке. Гурий Прокофьевич тогда Петра Дмитриевича впервые посмотрел. Понравился он ему – видно, что умный человек, уважительный. Клава мало изменилась: волосы смоляные – в маму, бабушку свою, глаза – в отца, голубые. Говорит без умолку, хохочет звонко, заразительно: не захочешь – рассмеёшься. Будто не было девичества на таёжном поселении, будто и блокады не было с малой дочкой на руках. Говорили, правда, партийцам паёк полагался. Пусть так, но ясно, паёк-ат был – не зажируешь, да и Клава рассказывала, как они с Людочкой маленькой подорожник вокруг Смольного собирали – на суп.
Клава подкараулила его на задах участка в сумерках, когда Гурий Прокофьевич, протопив баньку, направлялся в дом сказать гостям, что можно уже идти париться. Воровато озираясь, Клава схватила его за руку и вложила в неё тряпицу, в которой было плотно завёрнуто что-то твёрдое, неровное. Зашептала: «Это наше, фамильное – дедушкино и папино. Тут ваша, дядя, часть. Я у папиной новой жены отняла: ружьё на неё наставила – говорю, добром отдай», – Клава закатилась своим заразительным смехом, на мгновение вся отдавшись воспоминанию этой сцены. Гурий Прокофьевич не удержался, тоже прыснул, засмеялся оторопело, закашлялся. «Вы, дядя, только тёте в Москве не говорите. Я тётю Груню очень люблю, вы знаете. И дядю Василия Алексеевича – тоже. Но они, дядя, за это не пострадали. Они от этого отвернулись сразу. Папа, когда понял, что нэпу конец, поехал к тёте в Москву с этим, чтобы она спрятала. Они с дядей тогда в “Национале” жили, в Доме Советов. У них бы сохранилось, у них бы искать не посмели – дядя ведь тогда с самим Калининым работал. А они отказались. Принять папу приняли – не выставили, конечно, но это не взяли».
Они вернулись на веранду, где Дуня с Петром Дмитриевичем о чём-то неспешно беседовали. Клава, обворожительно улыбаясь, прильнула к мужу: «Сейчас в баню сходим, в настоящую. Я тебе там кое-что покажу, чего ты у меня ещё не видел», – и залилась русалочьим смехом. Чтобы снять своё смущение, Гурий Прокофьевич сказал, обращаясь к Петру Дмитриевичу: «У нас баня не как в городе – по-деревенски всё, но Клава-то знает, покажет вам». Дуня, сидевшая до этого чинно, захихикала, отчего Гурию Прокофьевичу стало совсем неловко…
Он засунул тряпицу между старых горбылей, оставшихся от строительства, сложенных в самом дальнем углу сарая, куда Дуня не заглядывала никогда. Неделю после Клавиного отъезда всё не решался развернуть. Наконец, когда Дуня куда-то ушла (Гурий Пркофьевич знал, что не меньше, чем часа на два), прокрался в сарай.
Бриллианты были разные, от мелких, с просяное зёрнышко, до одного самого крупного, с горошину – ближе к середине неспелого стручка. Гурий Прокофьевич вспомнил, как маленькими они с Груней отправились на соседское поле воровать горох. Точнее, помнил он только заговорщицки блестевшие глаза Груни, когда она объявила ему свои планы, да огромного рыжебородого соседского батрака, гнавшегося за ними с палкой и воплем «убью-у-у!» почти до ворот отцовского дома. Помнил, как Груня делила добычу на сеновале, выдавливая большим пальцем из взломанных по шву зелёных ещё стручков сладкие глянцевые горошины. Но скорее он помнил этот случай по рассказу Груни, непременно звучавшему при каждой из их редких встреч во взрослой жизни и всякий раз не имевшему завершения – так она закатывалась в своём заразительном смехе, когда в повествовании появлялся рыжий гороховый сторож. Даже Клава так не смеётся.
Гурий Прокофьевич покатал бриллианты на ладони, с интересом заметил, как они играют радугой в пыльных лучах пробившегося сквозь щели сарая солнца. Груня выдавливала горошины по счёту – одну себе, одну Гурию на протянутую ладошку. Они становились сначала крупнее – к середине стручка, потом, к основанию, – мельче. Получалось наборно: разнокалиберные горошинки поблёскивали кожистым глянцем в таких же, как сейчас, прорвавшихся сквозь кровлю сеновала солнечных пыльных лучах. Только ладонь заскорузла да горб набили – вот за эти радужные горошинки, что перекатываются теперь по её мозолям и трещинкам.
Гурий Прокофьевич никогда прежде не держал в руке драгоценных камней. Подумал: сколько же они стоят? Ещё подумал: кому их оставить? Своих детей нет. Дунин сын от первого брака где-то по тюрьмам, да и не любил его Гурий Прокофьевич. О том, чтобы попытаться сбыть хотя бы один, хотя бы самый мелкий, даже мысли не возникло. Подумал о Груниных внуках. Да, наверное, так и следует сделать – коли самой Груне Клава запретила говорить: внуки-то ни при чём в тех страшной памяти делах, зато прямые наследники отца, Прокофия Ильича. Правнуки.
Гурий Прокофьевич завернул бриллианты обратно в Клавину тряпицу, запихал свёрточек в стеклянную банку из-под горчицы, стоявшую тут же среди прочего хозяйственного хлама, плотно завинтил её жестяной крышкой, взял заступ и зарыл всё это в углу сарая. Тщательно заровнял, закидал обрезками горбыля, потрогал свой горб и пошёл в дом.
Дуня вернулась весёлая, благодушная, с провизией – будто действительно из магазина. Он ей ничего не сказал о горстке зарытых в сарае камней. До самой её смерти не сказал: не захотел…
В то лето, когда Гурий отлёживался у Груни после ЧК, Василий Алексеевич уже ухаживал за ней не на шутку. Дело шло к свадьбе, а вокруг – к гражданской войне. Отец с Николаем где-то прятались, никто из родни точно не знал: живы ли? Квартировавший рядом с Груней учитель пришёл как-то вечером с просьбой спрятать его в погреб. Василий Алексеевич поинтересовался: зачем? Тот взглянул удивлённо: «Как же это, позвольте спросить, “зачем”? Лично к вам, милостивый государь, я имею честь относиться с полнейшими доверием и симпатией. Но вы ведь не станете отвергать, что предводительствуемый вами пролетариат ничего, кроме как грабить и убивать, делать не способен. Ни-че-го! И вы при всех ваших благонамерениях не сможете его от этого отвратить. Быстрее он поменяет себе вождей». Вскоре он нашёл-таки себе погреб, где и схоронился до конца гражданской. Арестовали его только в 30-х.
А той осенью Василий Алексеевич устроил шедшего на поправку Гурия в школу младших командиров РККА, открывшуюся в Казани. Гурий Прокофьевич и сейчас, столько лет спустя, не мог толком объяснить, что ему там не понравилось. Наверное, невоенный он человек. Так или иначе, когда школу из-за близости белочехов эвакуировали в Нижний, Гурий Прокофьевич запросился в госпиталь: потом стало ясно, что в костях уже пошёл туберкулёз, а тогда просто недомогалось. В госпитализации отказали, но зато комиссовали вчистую. Вот тогда и подвернулись курсы бухгалтеров. После яковлевского училища осилить счетоводческую премудрость оказалось несложно. Да и по душе пришлось Гурию Прокофьевичу это занятие. Успокаивало. Даже опьяняло слегка, давая забытьё.
Когда обнародовали, что социализм – это учёт, на бухгалтеров возник спрос. А вскоре и нэп подоспел. Отец с Николаем объявились живы-здоровы, слава богу, дела стали восстанавливать. Звали Гурия работать, даже в долю, но он отказался, сославшись на хорошее место в губкоммунхозе, которое он тогда получил. Место и вправду было неплохое – не столько зарплатой, сколько общежитием и спецмедсанчастью. Общежитие устроили в бывшей гостинице. В просторных номерах жили по трое-четверо – не тесно. Медсанчасть давала возможность находиться под постоянным наблюдением – недуг беспокоил всё сильнее. Но главное, Гурий Прокофьевич не верил, что «нэп – это всерьёз и надолго». Ленину он хотел верить, но больше верил Груниному соседу-учителю насчёт смены вождей. Укреплял эту веру её стремительно растущий символ – горб на спине Гурия.
Но, пожалуй, сильнее всего на решение Гурия Прокофьевича отказать отцу с братом повлияли воспоминания о первом опыте работы с ними. Гурий, которого отец незадолго до революции решил приобщить к делу, по замыслу Прокофия Ильича должен был без поблажек на сыновство отбатрачить по неделе на каждой из работ, производимых в их разноплановом хозяйстве.
Сначала Гурий колол и лущил для индюков грецкие орехи, потом выгребал индюшачий помёт, потом пилил и колол дрова – в печь для обжига кирпичей. На первой неделе почернели пальцы, к концу второй до запястий облезла кожа, третья принесла кровавые мозоли. Мама тайком от отца с Николаем давала ему мазать руки кедровым маслом. Отец заметил, выругал мать, а в ответ на её жалобные причитания отрéзал: «Пусть поймёт, пока не поздно, как копейка достаётся. На собственной шкуре. Шкурой-то лучше всего понимается. Содранной». На третью субботу Гурий жалованья не получил: отец вычел за кедровое масло. А в воскресенье объявил за обедом, обращаясь в основном к маме: «Ладно, рукам отдых дадим – ногами поработаем».
С понедельника Гурия послали месить тесто для сушек. Месила бригада из шести батраков, ходивших по кругу внутри плотно сбитого короба, куда время от времени всыпáли мешок муки или вливали бочонок воды. Занимались этим двое других батраков, старавшихся всякий раз подгадать своё действо к моменту, когда перед ними проходил Гурий. Волна колодезной воды перехватывала дыхание, облако муки забивало его окончательно. На жаре холщовые порты и заправленная в них (чтобы пот не стекал в тесто) рубаха уже через час работы становились на Гурии колом. Николай, подошедши как-то к месильне, заметил, как по-разному сидят рабочие одежды на Гурии и на ближайших к нему по кругу батраках: у шедшего в затылок Гурию рубаха заскорузла только спереди, у шагавшего перед Гурием – только сзади. У остальных рубахи были просто мокрыми от пота. Николай сразу всё смекнул и велел подносчикам встать в круг на место соседей Гурия, а тех определил на воду и муку. Гурия же поменял с диаметрально ему противоположным, самым «незамученным». Поначалу новые подносчики исправно окатывали водой и осыпáли мукой своих прежних мучителей, но затем, видимо, решив, что квиты, принялись исключительно за Гурия. Он понимал, за что, не сетовал. На вопрос Николая за ужином «помогло ли?» ответил: «Помогло». Николай аж просиял и принялся рассказывать о своей хозяйской смётке отцу. Тот выслушал, похвалил.
Вечерами той недели мама топила баню и почти силой загоняла его туда, не способного, казалось, ни на что, кроме как рухнуть на кровать. В бане он долго выкашливал замешанные на мокрóте сгустки теста, выбивал веником забившую все поры муку, отпаривал распухшие от постоянного вытягивания из вязкого месива ноги. Мама готовила отвары из трав, из смородинного и вишнёвого листа, которые поднимались от каменки благовонным целебным паром, возвращавшим к жизни.
Неделю за неделей Гурий вкушал батрацкий хлебушек, откусывая от разных краёв этого всюду чёрствого и несладкого каравая. Так продолжалось до поздней осени, пока в город не пришла советская власть. Её комиссар, приехавший в сопровождении дюжины пьяных дезертиров с винтовками, собрал батраков на митинг, объявил, что отныне всё производство принадлежит народу, и отбыл.
Ночью запылала маслобойня. Запах горящего кедрового масла оказался духовитее самого благовонного ладана. Отец порывался тушить пожар, но Николай удержал: убьют. Скоро огонь перекинулся на другие помещения. Когда занялся птичник, вся округа наполнилась удушающим смрадом горелой плоти. К утру от хозяйства не осталось ничего.
Батраки не стали убивать – разбрелись. Отец с Николаем вскоре куда-то исчезли. На оставленные ими деньги Гурий с мамой кое-как перебились зиму. Весной Гурия забрали в ЧК.
Следователь Сабандеев тоже был из батраков – из работников фабрики анилиновых красок, известной больше под именем «клопоморка» – за резкий тошнотворный запах, расходившийся из её труб. Совсем молодым он был осуждён за разбой на каторгу. Вернулся по амнистии после Февральской, апрельские тезисы заворотили его, в числе тысяч таких же, к большевикам. Сабандеев во время допросов непрерывно подкашливал, хватаясь за правый бок. А однажды бросился избивать Гурия, приговаривая: «Ты мне, сучонок кулацкий, за всё ответишь: и за здоровье моё, вами загубленное, и за братана моего, в краске утопшего, и за дочек, пацанками на панель с голодухи вышедших, когда папку йихого в Сибири гноили за дело рабочих и крестьян!» Гурий понимал, за что – за всё, и не сетовал на чахоточного следователя, ещё пуще зверевшего от понимающего взгляда подследственного. В ЧК Гурию Прокофьевичу открылся зияющий смысл неясного до той поры словосочетания классовая ненависть. Он сполна ощутил в себе обе стороны этого обоюдожуткого липкого чувства, изнурявшего несравненно сильнее любого страха.
Он хотел если не освободиться от него (догадываясь, что вряд ли это вполне удастся), то по меньшей мере держаться подальше от тех мест, где почва для расцвета классовой ненависти наиболее плодородна. Вот почему он отказал отцу с братом, когда они объявились в начале нэпа.
Гурий Прокофьевич осознавал неизбывность классовой ненависти: уничтожить её возможно, лишь полностью ликвидировав одну из ненавидящих сторон – как класс. Он понимал, какую из двух. Вот за это он уважал Ленина. Вот почему он не верил Ленину в том, что «нэп – это всерьёз и надолго». Из ленинских высказываний ему больше других была по душе фраза о социализме как учёте, и Гурий Прокофьевич всеми силами желал закрепить в себе это расположение, трудясь бухгалтером в губкоммунхозе.
В тот год Василия Алексеевича должны были избрать ответсекретарём губкома партии. Он уже входил в первую тройку губкома – со дня образования автономной области. Он был среди тех троих, кто ходил подписывать у Ленина декрет об автономии. И Сталин присутствовал – как наркомнац. Теперь Сталин запросил прежнего ответсекретаря в Москву, а на его место ЦК рекомендовал Василия Алексеевича. Груня за неделю перед пленумом губкома начала нервничать: по городу поползли слухи, что начальник губчека Сабандеев направил в Москву депешу о родственных отношениях Василия Алексеевича с врагами мирового коммунизма. До Гурия доходили и такие разговоры, дескать, вот она, власть трудящихся – кулацкий зять править будет; вот она и вся революция: отняли деньги у самых богатых в пользу ненаглотавшихся – теперь те своих во власть ставят. Сабандеева одобряли: видно, что из фабричных – всё сразу раскусил, этот спуску мироедам не даст – пострадал от них, хватит.
У Николая с отцом дела действительно шли в гору: вновь заработала хлебопекарня, вот-вот должна была задействовать лесопилка. Видно, не зря Сабандеев искал их сокровища в восемнадцатом: были они, не всё пожаром унесло. Гурий Прокофьевич всю жизнь потом задавался вопросом: кабы знал он, где они спрятаны, сказал бы тогда Сабандееву? И, не без удивления, приходил к ответу: сказал бы. В восемнадцатом – сказал бы, сразу. А в тридцатом, когда отца с братом раскулачили и сослали, разве только под пыткой. Сабандеева, правда, к тридцатому уже расстреляли (говорили: за изнасилование собственной дочери – процесс был закрытый, партийный) – но разве кроме Сабандеева не было кому попытать?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.