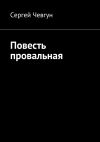Текст книги "Были"

Автор книги: Александр Минеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
Путина началась
В селе Ижма, укрывшемся где-то на восточном краю северодвинской дельты, около двухсот домов. Огромные, с необхватными бревнами нижних венцов, они расставились по берегам реки Ижмы, её ответвлений и притоков. Расставились в улицы, повторяющие в своей кривизне рисунок мног очисленных русел.
Кто не бывал в Венеции, оказавшись в Ижме, вполне может испытать искушение высказать тут какую-нибудь восторженную несуразицу. Я пока в Венеции не бывал, а в Ижме довелось. Дважды. В 1979-м и в 1982-м.
В первый приезд на дощатых тротуарах деревянной Венеции мне повстречался старик. Он сказал, что живет здесь ещё десяток старух. Соль да мучицу им сюда завозят летом, огород под рукой – кто может, лес рядом – кто ходячий, грибы-ягоды возьмёт, рыбы в речках тоже хватает, а ловить её все умеют. Сроду. А как же зимой? Зимой без молодых тяжеловато становится. Особенно если помрёт кто зимой-то. Летом бы шутя схоронили – всем колхозом. Но ничего: потихоньку доживём как-нибудь. Он осенился на деревянную церковь семнадцатого века, поклонился ей едва не до земли и принялся расспрашивать, в какую сторону я путь держу. Узнав о моих планах, он посоветовал заночевать на Пустынке – огромном Ижм-озере с островом посередине, верстах в пяти от села по моему маршруту.
Я так и сделал. Славянское прозвище Ижм-озера оказалось вполне подобающим его абсолютно безлюдным берегам. Вода, похожая на растаявшее в белой ночи железо, слегка дымилась по всей неоглядной поверхности, то застилая, то иногда раскрывая силуэт лесистого острова. Часто плескала крупная рыба, и невозможно было понять, далеко ли: так безупречно разносился по озёрной глади звук. Ночь прошла в тиши, нарушаемой только рыбными всплесками да потрескиванием головёшек в костре…
Через три года село Ижма было трудно узнать. В опустевших некогда дворах кипела работа. Почти в каждом сквозь изгородь был виден мужик, неистово роющий землю или машущий топором.
Мне вновь встретился тот старик. Он был грустнее прежнего и на мой вопрос, откуда такое оживление, ответил кратко: «Шпана понаехала». Потом, как-то не сразу нашедши взглядом храм, трижды перекрестился, шепча: «Прости Господи!»
Я пошёл по селу, приглядываясь к новым хозяевам. По всему было видно, что они не отсюда. Помимо размашистости, какой-то несеверной расточительности движений многие из них были раздеты до трусов, как дачники средней полосы. Отирая пот, они давили на себе легионы насосавшихся комаров, и это кровавое месиво размазывалось по их заголённым телам, бурея и вновь освежаясь до алого при очередном отирании. У многих сквозь этот окрас проступала обильная татуировка.
Поселенцы непрерывно и громко матерились, так же неэкономно и бестолково, как они вонзали в землю лопату, а в дерево – топор. Всё им было не по нраву: и место, и работа, и они не видели причин сдерживаться в выражении своего отношения.
Потом я узнал, что наблюдал воплощение очередной мысли партии о подъёме российского Нечерноземья. Она основывалась на тщательном созерцании партией картины итогов своей многолетней политики. Картина была понятная: сёла пусты, тюрьмы переполнены. Решение напрашивалось само. И напросилось: тысячи уголовников мелкого и среднего разбора были в конце 70-х – начале 80-х заселены в псковские, костромские, архангельские деревни в расчёте на…
На что?
Я вновь, как и три года назад, решил заночевать на Пустынке. Вдоль тропки, выводившей к озеру, теперь то и дело попадались окурки, бутылки, скомканные газетные обрывки рядом с кучами испражнений. Ближе к берегу стали слышны крики, треск ломаемого дерева, мужской хохот и женский визг. Дабы избежать ненужных встреч, я взял левее и стал уходить лесом на северный, дальний от села край озера, куда, я надеялся, пришлая цивилизация по своей лени пока не дотянулась.
Так и оказалось. Здесь было чисто и безлюдно, как три года назад. Но звуки новоявленного вертепа беспрепятственно покрывали всё необъятное пространство озера, достигая моих ушей во всей своей отталкивающей первозданности. Я было вознамерился отправиться дальше, но, вспомнив, что до ближайшей чистой воды надо отмахать ещё километров пять, заленился и принялся устраивать свой ночлег.
В этом занятии я отвлёкся. И хотя вопли иной жизни с дальнего берега ближе к вечеру становились всё громче и пьянее, мой открытый для них, тихий бивак создавал некоторую иллюзию защищённости, а хозяйственные заботы позволяли порой даже не слышать чýдных звуков дивных стонов и пропускать недобрую их половину мимо ушей. Так подошла ночь, точнее, время, когда летний дневной свет сменяется в тех местах лёгкими сумерками, какие бывают у нас сразу после заката или непосредственно перед восходом. Сопредельная мне по акватории держава начинала звучать как будто потише, озеро подёрнулось лёгкой дымкой, мой костёр из пылкого юноши, жадно пожирающего тонкие веточки, постепенно превращался в зрелого мужа, самодостаточного в неброской с виду груде переливающихся всеми оттенками жарких углей. Меня клонило ко сну, и я не хотел от этого уклоняться. Как-то вдруг наступила тишина…
Я проснулся не от тишины – кто-то её нарушил, задумчиво и отчётливо произнеся с того берега: «Двое троих убивать поехали». Вроде как: «чуднó!» И мне спросонья показалось: «Действительно чуднó – вот если бы трое двоих…» И я вновь заснул под частые всплески вёсел да поскрипывания им в такт несмоченных уключин…
Второй раз меня разбудила огромная, нездешних размеров рыба. Она плеснула так, что на озере поднялась крупная рябь. Вынырнув опять, чудище огласило окрестность грязной и неумело скроенной матерной тирадой, перешедшей в долгий крик ужаса. Я окончательно понял, что это не рыба, когда она стала орать, что тонет. Потом всё стихло.
Признаться, у меня было немного желания выходить из палатки, чтобы уточнить положение дел. Помаленьку я вновь стал погружаться в сон, но заснуть совсем не удавалось: кричала выпь. Её почти бычий мык разлетался над озером с удивительной палаческой мерностью: точно в тот момент, когда моя дремота уже готова была окончательно свернуться в сладкий предутренний сон, выпебык наполнял озеро невыносимо тоскливым рефреном: «Лю-уди-и, спаси-ите-е…»
Я выскочил из палатки и взглянул на воду. Примерно в полукилометре сквозь лёгкий туман проступал силуэт лодки и троих удильщиков в ней. Вновь разнеслось: «Люуди-и, спаси-ите-е…» Это не они. Я стал всматриваться правее, откуда, мне показалось, и доносился SOS. Глаз различил какую-то выпуклость на ровной воде. Присмотревшись, я уже был почти уверен, что это перевёрнутая лодка метрах в двадцати от увлечённо неподвижных удильщиков. И вновь: «Лю-у-ди-и, спаси-ите-е…» Сомнений быть не могло: за перевёрнутую лодку кто-то держится и взывает о помощи, а на неперевёрнутой лодке поблизости этот призыв полностью игнорируется.
Я не такой пловец, чтобы, одолев четверть мили, остаться в достаточных силах для спасения даже одного утопающего. Тем более – в десятиградусной воде приполярного озера. Но и бежать три версты до неандертальской стоянки в надежде добыть лодку мне казалось бессмысленной затеей: за это время в такой воде сможет выжить только снежный человек.
Вновь над озером разлетелся душераздирающий вопль о помощи. Удильщики на рейде не шелохнулись. Увещевать их с моего берега о сострадании ближним тем очевидно было напрасными хлопотами. Делать было нечего: из трёх безнадёжных вариантов я принял наименее бесперспективный – рванул что было мочи по прибрежной топи к тому месту, которое так тщательно обходил накануне. Чавкание моих сапог иногда прерывалось очередным криком о помощи – я замирал и вновь всматривался в озёрную дымку. Сквозь её разрывы проступала прежняя мизансцена: трое с удочками и горбик перевёрнутой лодки в двух вёсельных взмахах от невозмутимых рыболовов. Потом я перестал останавливаться на крик. Потом и крик начал звучать реже и глуше. Потом я перестал его слышать…
Первой, на что я наткнулся в стане детей природы, была палатка, из которой торчали две пары ног – мужская и женская. Как это нередко бывает в минуты большого напряжения, в мозгу всплывают на первый взгляд совершенно неподобающие моменту ассоциации: я вспомнил анекдот 70-го года издания о художественной выставке к 100-летию Владимира Ильича, на которой экспонируется картина «Ленин в Польше». На ней – лежанка с торца и четыре ноги подошвами к зрителю. Брежнев тычет в пятки и спрашивает: «Это кто?» Ему говорят: «Это Феликс Эдмундович Дзержинский». «А это?» – спрашивает недоумевающий Брежнев, тыча в другую пару пяток. «Это Надежда Константиновна Крупская». «А где же Ленин?» – вопрошает простодушный Леонид Ильич. «Ленин в Польше…»
С думой о Ленине я подёргал мужскую ногу. Из палатки что-то замычало. «Лодка есть?» – спросил я. После некоторого ворошения мычание членоразделилось в афоризм: «Будет водка – будет лодка». Не знаю, как меня осенило, но я вдруг заорал на него в неподдельной ярости: «Дурак, там шурья твои тонут!» Дзержинский вылетел из палатки как ошпаренный, и его пятки засверкали в направлении берега. Через секунду он уже выгребал на середину озера.
Из палатки вышла Крупская. Шалашовка. Судя по наугад мной сказанному – сестрёнка утопающих. Поглядела на меня, оправляя недорасстёгнутую кофту, и пошла вразвалочку к чуть теплившемуся кострищу. Присела на корточки и принялась что-то звучно хлебать из котелка. Не поворачивая головы, спросила хрипло: «Водка есть?» У меня с собой не было. Я так и сказал. Она окончательно утратила интерес к моей никчёмной персоне.
Тем временем Феликс Эдмундович доплыл до тёмного горбика на серых водах, и было слышно, как он матерится, сопя. Рядом продолжался лов – недвижные рыбаки по-прежнему были целиком поглощены путиной.
Мне вспомнилось, как однажды в парижском Музее современного искусства я оказался в зале аппликаций. Почему-то большинство из них были изготовлены из обрывков советских газет и распластанных пачек советских сигарет (особенно часто использовались «Российские» – вишнёво-красные в зелёную весёленькую крапинку со стилизованными под славянскую старину буквами). По-видимому, французскую художественную душу в тот, 1977-й год особенно будоражила непостижимая кириллица с её смесью латинской половины и невообразимыми европейскому уму Ж, Щ, Ы и особенно – И, которое так и хочется перевернуть в N, да не получается.
Центральным экспонатом этого модного зала на парижской набережной Кеннеди был огромный ватман, в левом верхнем углу которого, немного накривь, был прилеплен заголовок из какой-то камчатской газеты: «ПУТИНА НАЧАЛАСЬ». И всё. Редкие посетители так и замирали перед шедевром, заворожённо всматриваясь в таинственную вязь правдинского шрифта. Видимо, картина задумывалась как своего рода ответ этого гения-77 на вызов «Чёрного квадрата», который бедняга-француз, ко всемирному несчастью, принял однажды в свой адрес.
На Ижм-озере в ту белую ночь путина, начавшись с вечера, шла своим чередом без оглядки на обстоятельства. Между тем Дзержинский уже возвращался.
Его лодка при каждом гребке выделывала довольно крутой галс. Ясно было, что она сильно нагружена в корме. Уткнув судно в прибрежный песок, гребец козлом выскочил на сушу и, показывая на дно лодки, весело сообщил нам с шалашовкой: «Вон, лежат оба-два. До дерьма промёрзли!» Потом лихо, одним движением выдернул из недр лодки безжизненное тело одного из братьев Крупских, кинул его, как мешок с очистками, на плечо и понёс к палатке.
Я решил помочь и направился к лодке за вторым братом. Диагноз их зятя поразил меня: ведь глубже промёрзнуть просто нельзя! Полное охлаждение организма! С детства знаемое «до костей» уже казалось мне лёгкой зазяблостью. Я так задумался над услышанной метафорой, что не заметил, как из лодки поднялся переохлаждённый призрак. Вид его был грозен. В руке он держал топор и, медленно занося его для удара, неотвратимо надвигался на меня, беззвучно матерясь бескровными губами. Мы сближались. Я успел-таки перехватить топор на возможно роковом для меня замахе. Отбросив орудие нескольких несостоявшихся в ту ночь убийств на песок, я взвалил свой мешок с очистками на плечо и отнёс его к палатке.
Зять растирал шурина водкой, пробуя её на вкус всякий раз перед тем, как плеснуть на ладонь. Шалашовка сидела на корточках и не глядела на это. Я сложил с себя другого и отправился восвояси.
Взглянув на озеро, я отметил, что трое неубитых продолжают удить. Двое неубивших пребывали в надёжных руках. Да и мне грех было жаловаться на судьбу. Всё слава Богу.
1999
Саженцы
Сценка
Действующие лица:
Андрей
Фёдор
Голос из репродуктора
Действие происходит на автовокзале посёлка городского типа в сотнях километров севернее Москвы.
Посредине сцены на корточках сидит Фёдор. Он смотрит прямо перед собой и курит папиросу. По сцене бродит Андрей и курит сигарету. Всякий раз, когда пепел на сигарете требует стряхивания, Андрей шарит глазами вокруг и, не находя искомого, стыдливо, воровато и досадливо позволяет пеплу упасть на пол. Тем временем Фёдор докуривает папиросу и, с сожалением взглянув на чинарик, заплёвывает его, бросает перед собой и, не вставая с корточек, наступает на окурок и ногой втирает его в пол. Затем опять ставит ноги вместе и продолжает смотреть прямо перед собой. Из-за сцены доносится объявление.
Голос из репродуктора. Внимание отъезжающих рейсом Новый Посёлок – станция! Рейс к отправлению задерживается. Билеты можно приобрести в кассе автовокзала. (Слышен вздох толпы.) Повторяю: рейс Новый Посёлок – станция по техническим причинам к отправлению задерживается. Билеты будут продаваться в кассе за полчаса до отправления.
Андрей останавливается и смотрит на Фёдора с вопросом и надеждой. Фёдор продолжает смотреть перед собой, точно ничего не произошло. Тем временем сигарета Андрея догорает до фильтра, Андрей смотрит на неё, затем начинает суетливо озираться, потом, неловко плюнув на окурок, украдкой роняет его и как бы не специально наступает на него ногой, чуть задержав этот шаг, и принимается вновь ходить по сцене. Очередной раз оказавшись в поле неподвижного взгляда Фёдора, Андрей останавливается и обращается к Фёдору с вопросом.
Андрей. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь туалет? А то на автовокзале я что-то не нашёл.
Фёдор. (подняв голову на Андрея, затем повернув её вбок-назад и кивнув в том направлении.) А вон, за сараем.
А. (глядя, куда кивнул Фёдор.) За которым?
Ф. (не поворачивая головы.) А за любым.
А. Спасибо. (Принимается вновь ходить по сцене.)
Несколько «хóдок» спустя, вновь остановившись перед Фёдором:
А вы не знаете, во сколько поезд на Москву?
Ф. (подняв голову.) Точно не скажу, а какой-то встречный с нашим в аккурат разъезжается. Наш трогается, как тот подходит. Там-то дальше однопутка, вот наш и ждёт его. А московский он или какой – не скажу.
А. Понятно. А ваш во сколько отправляется?
Ф. А как раз – с автобуса. Только и успеваешь добежать, он и трогается.
А. Понятно. А следующий когда?
Ф. А как – когда? Не пойму. Какой следующий? Наш, что ли?
А. (после мгновенной паузы, чуть сдавленно.) Да, ваш.
Ф. А завтра.
А. А на Москву?
Ф. Какие-то вроде бывают ночью, но точно не скажу. Я здесь редко езжу. Раз в пять лет.
А. На юбилеи к родственнику, наверное?
Пауза.
Ф. (вставая с корточек.) Саженцы я здесь беру. У нас каждые пять лет заморозок приходит. До пятидесяти в январе опускается и недельку так и стоит. Ну, когда две. Берёзы, те всё равно весной распускаются, а яблоньки нет – они всё ж на пятьдесят не рассчитаны, как-никак фрукты. Вот я каждые пять лет их подсаживаю. А они только на пятый год и плодоносят. Яблони-то. И то – по два-три яблочка на дерево первый год-то. Зато крупные, сочные, если до холодов успеют вызреть.
А. А в остальные зимы сколько же у вас градусов?
Ф. В промежутках нормально: ниже сорока не понижается.
А. А разве яблони минус сорок выдерживают?
Ф. Тоже не все, конечно. Приходится вёснами прореживать, какие подсохли. Но в целом – нормально. Сорт такой морозостойкий тут один дед вывел. Он в молодости письма Мичурину писал, а тот ему семечки в конверте обратным адресом. Для подвоя. Подвой для яблони в нашей погоде – основа всего. Привой, конечно, тоже. Но подвой главнее. Хотели они до пятидесяти сорт этот довести, да Мичурин помер, а потом – война, а тут уж и дед в возраст вошёл. Короче, не успел он: только до минус тридцати восьми – тридцати девяти примерно так доработал, а дальше – ушёл. Теперь они с Мичуриным, наверное, опять вместе взялись. Может, и доведут вдвоём до ума – не знаю, правда, какие у них там зимы. А то, может, и задачи такой не стоит. Ну а я вот к его сыну каждые пять лет сюда езжу за саженцами.
А. И что – ровно каждые пять лет?
Ф. Ну нет, бывает, что и на шестую подморозит. Тогда – урожай, особенно если на яблочный год попадёт. Шестая-то. Один раз так было. А бывает, что и на четвёртую заморозок-ат придёт. Тогда, считай, девять лет кряду без яблочек сидим – на одной капусте да клюкве.
А. Сейчас, говорят, потепление климата начинается. В Москве уже несколько лет настоящей зимы не было.
Ф. (вежливо.) Ну понятно.
А. А в Голландии опасаются, что затопит их, когда лёд в Арктике растает. Может быть, и у вас тогда пореже хотя бы морозы такие будут.
Ф. Да хорошо бы. Может, глядишь, и отпустит малость. Голландию жалко, конечно. А нельзя так, чтобы и их не сильно, и нам яблочек маленько почаще? Может, мы им тогда споможили бы чем? У нас ведь тоже паводки – каждый год, считай, по две недели на плоту из избы выходим. Так что опыт есть. Что там у вас в Москве об этом слышно?
А. О чём?
Ф. Ну, может, им в Голландию плотовики нужны к потопу? У нас многие бы завербовались – с удовольствием. Вахтовым, конечно, – навсегда-то туда зачем? А вахтовым можно.
А. Я не слышал, но, если хотите, могу узнать.
Ф. Узнай, пожалуйста. Всё ж охота иногда на Голландию поглядеть. Её и по телевизору что-то редко показывать стали.
А. Раньше чаще было?
Ф. (убеждённо.) Почаще. А ты за сарай так и не сходил?
А. (немного виновато.) Да что-то расхотелось.
Ф. Это зря. Ты сходи. Я автобус задержу, если что.
А. Да он, наверное, не скоро – не объявляли ведь пока.
Ф. А чего объявлять? Не обязательно – завели и поехали. Все вон его ждут. Других тут нет.
Голос. Внимание отъезжающих! Касса в кассовом зале временно не работает. Продажа билетов производится водителем непосредственно на посадке. Автобус рейсом на желстанцию отправляется от входа в кассовый зал. Повторяю.
Пауза.
Ф. Ну иди, сходи, а то не успеешь. На дорожку-то надо. Он сейчас расписание примется нагонять – растрясёт. Когда нагоняют, они сердитые: хоть как проси, не остановят. К поезду поспеть он, конечно, не поспеет, а нагонять всё одно будет. Расписание – вещь строгая.
А. А где же ваши саженцы?
Ф. А моя с ними. Связка-то толстая – не обхватишь, а народу-то, сам видел – не знаешь, как все вобьются. Вот она со связкой там и… А твоя-то в Москве, что ль, ждёт?
А. Чего?
Ф. Тебя, чай!
А. А… Да вроде так.
Ф. Ну-ну. Ты всё ж сходи на дорожку. Ещё ведь покурить надо успеть.
Занавес.
2010
Красота природы
Я проснулся. Сквозь брезент в палатку уже втекал утренний свет. Двое моих друзей благостно похрапывали, натрудившись на вчерашнем волоке. Я тихо выполз наружу и едва не задохнулся ветерком, тянувшим с озера, – так он был чист. Первым желанием было растолкать друзей, чтобы и у них захватило дух от мерцающего в предрассветных сумерках озера, от редко выпадающего случая понять – хотя бы краешком – красоту мира. Но умственный гуманизм взял своё, и я отправился вдоль берега в одиночку наслаждаться мирозданьем в момент его истины – в момент восхода солнца.
Далеко ли, близко ли отошёл я от нашего лагеря, да только навстречу мне – стадо, а с ним двое верхами. Поздоровались. Тут я им возьми да скажи, всё ещё задыхаясь: «Хорошо у вас здесь! Красота!» А один из них мне отвечает: «Переезжай сюда, раз хорошо». Незлобиво так сказал, тихо…
Вечером они подошли к нашему костру на моторке, привезли наловленной на зорьке рыбы, много рыбы. Мы вложились в дело своим скромным уловом и спиртом городским, казённым, украденным. Уха была знатная – тройная, по всем правилам. Расположились вокруг костра, забеседовали ладно да сладко.
Тот, что меня пригласил на жительство в валдайскую красоту, рассказывал, как был он в плену. Лагерь их находился под Верденом. Помню, меня поразил этот звук – «Верден» – в устах новгородского пастуха. Я, московский образованец, знакомый с этим названием по сочетанию «верденская мясорубка» из другой войны, удивился: видно, что человек «с тремя классами» знает это название по этой, последней войне. Лично – годами своей неволи, пришедшимися примерно на тот же его возраст, в каком пребывал тогда я (у того костра сидели мы году в 1975-м).
Но больше всего удивили в его рассказе два места.
Первое такое. Каждому военнопленному четырёхсторонняя комиссия победителей предлагала заполнить анкету, где, среди прочего, надо было указать желанную страну проживания. И многие, с кем тачку вместе годами толкал, с кем пайку лагерную делил, закрывали ладошкой листок анкетный, когда до вопроса этого доходили. «Ну а сам-то ты чего?» – «Чего я? Россия, СССР, то есть. Куда ж я поеду? У меня же там отец с матерью старые. А братья живы, нет ли – кто ж знал? Все вместе ведь на фронт уходили… Так и вышло потом, что один я и вернулся из пятерых».
Помянули братьев. Ухой заели.
А второе место такое. «Как к границе нашей подъехали, всех через особиста повели. Помню, вошёл, он сразу орать принялся: предатель, так твою перетак! Тут за тебя другие кровью расплачивались, а ты на фашистских харчах морду отъедал! Не знаю, как так вышло, но и я на него как заору: гнида тыловая, ты чего раззевался?! Я-то кровь-то за родину пролил – меня в ранении захватили! И сапог стянул, а у меня там язва трофическая незаживающая, после минного осколка гниёт нога заживо: и вид, и дух от неё – страх! Я уж, верно, не соображал ничего, ору: покажи ты свою рану, гад! То ли он испугался, то ли не в привычку ему такой разговор от нашего брата, а только переписал он меня на бумажке в другой эшелон. А тот, наш, весь, говорят, так в Сибирь прямиком и пошёл».
Он снял сапог, размотал портянку, протянул ступню к костру, и мы увидели след того увечья: заросшую трофическую язву, проевшую с пятки вверх по икре ногу почти до кости. Много лет после войны мокла эта язва, ширилась и углублялась, пока по какому-то счастливому стечению не направили в район, а оттуда в область, а оттуда в Ленинград, где профессор («золотой мужик, дай Бог ему жить и жить!») вылечил её, язву-ту, – совсем.
Выпили за профессора…
Я поинтересовался о родителях. «Померли они обои, – был ответ, – слава богу, не в оккупацию – при наших уже, в зиму на 45-й». Другой вопрос застрял у меня в горле: не жалеешь, что ладошкой ту анкету так же, как иные, не прикрыл? Он словно услышал-угадал: «Да ну – чего там хорошего-то? Ни рыбалки тебе, ничего, а у нас тут глянь, как хорошо: и природа, и всё. Красота!» И подмигнул мне. Или мне показалось: просто отсвет костра так лёг ему на лицо в тот момент…
Мы выпили за природу. Потом за рыбалку. Потом за всё. За всё хорошее – за будущее, что ли. Вроде бы так.
Мы пили и разговаривали до рассвета. Когда над озером стало всходить солнце, мы даже не взглянули на него. Потом гости уехали.
Моторка уходила по открытой воде, закладывая крутые галсы. Мы смотрели ей вслед от затухающего костра. Нам было хорошо.
1999
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.