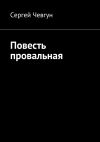Текст книги "Были"

Автор книги: Александр Минеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Пленум избрал ответсекретарём губкома РКП(б) Сабандеева. Василий Алексеевич был отозван в резерв ЦК – до особого распоряжения. Вскоре его отправили секретарём Минусинского укома: поручение почётное, если учесть, что в Минусинском уезде находилось знаменитое Шушенское.
Груня не писала Гурию с год. Потом пришла небольшая весточка, не почтой – оказией. Писала, что видела горы, с которых снег не сходит даже летом, что годовалая Лида перенесла переезд вполне сносно, что знает теперь, как промышляют кедровый орех, что ездили смотреть красноярские Столбы, что Енисей – не меньше Волги будет, хотя совсем другой. Потом – бегло о том, что были в Шушенском, что Василий Алексеевич думает запросить ЦК о создании там музея истории создания большевистского учения (ведь оно как раз в Шушенском окончательно додумалось, а об этом мало кто знает). И в конце – поклоны маме и отцу, приветы племянницам – дочкам Николая, обещание писать впредь почаще.
Гурию Прокофьевичу запало тогда слово учение. Ему захотелось понять для себя основной смысл большевистского учения, его определяющую суть. Он чувствовал, что они существуют, но выразить в немногих главных словах не мог, сколько ни старался. Он пробовал читать Ленина, но уставал прежде, чем успевал зацепиться своим разумением хоть за что-то. Троцкий и Бухарин воспринимались живее, но мысль не выкладывалась – распадалась: либо в простейшую очевидность, либо вовсе в ничто.
Но и поверить, что жизнь миллионов разом перевернулась и потекла в абсолютно немыслимом прежде русле просто так, без заранее глубоко продуманного и точно начертанного замысла, предвосхитившего мельчайшие и, казалось бы, непредсказуемые извивы нового течения, Гурий Прокофьевич не мог. Тем более допустить, что в фундаменте столь организованного здания лежит пусть и огромный, но один-единственный камень – классовая ненависть. Да и не сходилось: не могла голая ненависть призвать на сторону нового уклада столько хороших людей. А ведь призвала. Нет, тут точно было учение, очень верно у Груни в письме написано. Хорошо бы с Василием Алексеевичем об этом поговорить – он-то наверняка посвящён: такую идею в ЦК с бухты-барахты не предлагают.
Поначалу, как Груня уехала с мужем в Сибирь, Гурию страшно недоставало общения с ней. Но вскоре появилась Катя. Так вышло, что она заполнила собой как раз те два с небольшим года, что Груни не было. Заполонила. Катя была дочерью экономки в том доме, где Груня квартировала гимназисткой. Гурий, наведываясь в городе к сестре, часто встречал во дворе стройную девушку. Он смущался и отводил глаза, сталкиваясь с ней. Потом Груня их познакомила – за чаем на веранде. Общего разговора не получалось – говорили через Груню, но Гурий успел разглядеть, что глаза у Кати тёмные, с глубиной и оттого, казалось, диковатые. А иногда – весёлые, даже добрые. Тогда они светлели, обмелевали как бы. После знакомства, встречаясь во дворе, они стали здороваться. Бывало, что Катя говорила: «У себя, у себя» – имея в виду Груню, и чуть улыбалась. Гурий взгляд уже не отводил, но смущался по-прежнему.
Ну кто бы им тогда, за чаепитием сказал, что через семьдесят лет Катя, разыскав Грунин адрес по межгорсправке, напишет ей: «А помнишь, как мы однажды чаёвничали втроём с твоим братом Гурием? Какое это было счастье! Ты не подумай, Груня, что я так пишу, потому что у нас с Гурием потом был роман (не знаю, говорил ли он тебе об этом). Это другое. А тогда у тебя на веранде мы просто были счастливы и, как свойственно счастливым, совсем не осознавали этого. Не понимали, что так больше не будет никогда. Жив ли Гурий? Если жив, прочитай ему это место. А ты знаешь, что Гурий значит “львёнок?”»
Груня переслала ему всё письмо целиком. Катя, оказывается, прожила в том доме (в одной из комнат того флигеля, где они с матерью занимали второй этаж) до начала семидесятых, когда его поставили на капитальный ремонт, а жильцов «временно» отселили в бетонную девятиэтажку на окраине. Прошло больше года, ремонт не заканчивался. А вскоре кто-то из соседей, оказавшись в центре, обнаружил на их доме вывеску республиканского учреждения. Писали, жаловались, пока не приехала комиссия. Председатель – начальник той самой конторы, осмотрев все квартиры, сказал: «Я так вижу коллективное мнение – в центр обратно хотите, в коммуналки. Не вопрос. Только ваши уже заняты. Сами понимаете, по-живому резать мы не будем. Туда-сюда людей мотать против их желания не годится. Да и не в наших это правилах. А за выездом, где освободится, – пожалуйста. Подавайте заявки – удовлетворим, что называется, по мере. Государство как вам лучше хотело – жильё отдельное каждому предоставило. Ну, как говорится, была бы честь оказана». И уехал.
Стали опять подписывать коллективные письма – даже в Москву. Катя же подала заявление и довольно скоро получила комнатку в центре – минут пятнадцать по хорошей погоде пешком до родимого дома. Устроилась в ту контору гардеробщицей на двусменку, на полторы ставки и договорилась с комендантом, чтобы раскладушечку ей позволил держать, – дескать, старухе тяжело каждый-то день до службы и обратно вышагивать, особенно зимой. Так, в гардеробе, в переделанной людской и ночует частенько – спокойнее ей тут спать, место родное. Начальника того видеть не приходится – он в кабинете у себя раздевается, в людскую не сходит – прямиком на этаж идёт. Да и в остальном всё – слава Богу. Писала Катя, что мечтает, чтобы смерть за ней сюда пришла – где вся почти жизнь прожилась.
Там, в полуподвале бывшей людской, в двадцатых была каморка Катиной подруги детских лет. Звали её Реной. Как-то после войны Гурий Прокофьевич повстречал её в Куйбышеве на улице. Был он вместе с Дуней – за покупками – по сторонам смотреть некогда, да и навряд ли узнал бы Рену через столько лет. Но она узнала, окликнула по имени-отчеству, и сама Дуне представилась Матрёной Семёновной. Она занимала должность в электросбыте, о чём сразу и сообщила. Рассказала, что замужем, что муж непьющий – ему после ранения врачи строго-настрого запретили, тут Рена всплеснула руками – Гурий-то Прокофьевич наверняка его помнит, мужа-то: они ведь с Катей в двадцатых в аккурат вместе работали. Спросила и о Груне – она хорошо помнит, как та ещё гимназисткой у хозяев квартировала, а уж когда женой Василия Алексеевича… Тут Гурий Прокофьевич подбросил полешек в спасительно открывшуюся топку – вставил, что Груня с мужем в Москве, в Доме Правительства, живы-здоровы. «Ну ясно дело, дай Бог им, как говорится, – по-накатанному подхватила было Рена, но тут же соскользнула назад. – А вот Катя-то как, мне интересно? Я ведь её с тех пор что-то не встречала…» Был ли это вопрос к собеседнику, так и осталось, к облегчению Гурия Прокофьевича, невыясненным. Подошёл Ренин автобус, и она, извиняясь, что не приглашает в гости (мужу после госпиталей пока неможется), ловко затиснулась своим немалым объёмом в его переполненное нутро и исчезла, как появилась.
Ключ от каморки Рены, который та великодушно давала им иногда на целую ночь, они с Катей называли меж собой «золотым ключиком». Чаепитие на веранде у Груни, возможно, было мигом счастья, но скорее – преддверием счастья, наверное, единственного счастья взрослой жизни Гурия Прокофьевича, счастья, гораздо теснее связанного с другим местом в том же доме – с полуподвальной каморкой в бывшей людской.
Гурий Прокофьевич читал присланное Груней Катино письмо и не мог заставить себя понять, что вот сейчас, в том самом месте находится та самая Катя, его единственная Катя, Катюша, которая писала вот эти буквы, держала всего какие-нибудь две недели назад вот эти листочки, этот конверт. Жизнь, увернувшаяся шестьдесят с лишним лет назад от их счастья, самим фактом своей прожитости неоспоримо утверждала, что понять этого нельзя, да и пытаться не стоит. Гурий Прокофьевич читал Катино письмо и плакал – как в детстве: когда не страшно и даже не обидно, а навсегда, без объяснений, запрещено…
После Дуниной смерти одинокими вечерами прошлое вспоминалось неравномерно: то одно нахлынет, то другое. Яркими картинами всплывали вдруг польские деревни.
Осенью сорок четвертого, невзирая на возраст и горб, пришла повестка. В военкомате спросили, умеет ли он запрягать. Он умел, с детства. Ему дали день на сборы и направили в Горький. Там обрядили в форму младшего лейтенанта (вот где зачлись полгода на курсах младших командиров), дали под команду взвод таких же, как он, немощных «старичков» и фронтовым эшелоном отправили в Брест. По дороге замполит роты объяснил задачу: «Пришла пора поднимать разорённое врагом сельское хозяйство. На восстановление МТС понадобится время. Поэтому посевную сорок пятого решено проводить с упором на конную тягу. Фашистские захватчики увели с временно оккупированных советских территорий сотни тысяч голов скота, в том числе лошадей. Их надо вернуть Родине. Другой скотиной, в частности каэрэс, – замполит обвёл бойцов спецроты испытующим взглядом – все ли поняли? И, не дождавшись внятной реакции аудитории, пояснил: – Крупным рогатым скотом займётся смежное подразделение. Наше дело – конское. Работа предстоит большая и очень ответственная. Задание будем выполнять во взаимодействии, – замполит понизил голос, а лицо его выразило особую ответственность, – с подразделениями СМЕРШ. Так что сами должны понимать…»
Польские крестьяне плакали, некоторые пытались помешать. Этих уводили смершисты. Стреноженных лошадей отгоняли по одной за околицу, под охрану, а затем весь табун вели на станцию. Там разводили по стойлам, наскоро сколоченным внутри товарных вагонов, задавали каждой строго отмеренную порцию сена, также реквизированного у поляков, и цепляли конские вагоны к проходящему на восток составу. Другая команда собирала коров и свиней. Овец, коз и птицу не трогали – разве что на провизию для полевой кухни.
Гурия Прокофьевича поразила чистота в польских дворах – такой он не видел даже в детстве, хотя отец слыл самым аккуратным хозяином в округе. Когда их спецрота вступила на территорию Восточной Пруссии, к приусадебному порядку добавились выложенные брусчаткой сельские улицы. Это было просто невиданно для всех, кроме двоих, откуда-то из заволжских сёл Горьковской области, из староверов будто. Эти двое говорили, что у них и между деревнями дороги булыгой мощённые. Им не верили.
…А то вдруг вставал перед глазами белокаменный красавец Козьмодемьянский монастырь. Отец незадолго до империалистической приобрёл участок саженях в четырёх от южной стены монастырского собора – ближе только иноков хоронили. Весь даже как-то распрямился после сделки, долго потом ещё говаривал, шутя вроде, что удачно, дескать, получилось: шушер из-за Волги не достанет – храм Божий защитит от сквозняка идольского. Шушером называли северный ветер – по имени черемисского села, лежавшего на противоположном берегу верстах в семидесяти от города. Осенью шушер бывал особенно противен – набравший пронзительную силу на болотистой плоскости марийских лугов, он врывался в город, предельно насытясь на переправе через Волгу всеми её капельками, не успевшими нырнуть обратно в материнское лоно реки перед налётом безумного черемиса. В такие дни, пробыв на улице несколько минут, одежду можно было отжимать, как после летнего ливня, хотя никакого дождя с виду не было.
Отец не любил черемисов. Называл их даже не нехристями, а не иначе как идоловым отродьем, зная не понаслышке о приверженности этого народа языческим верованьям предков. Николай говорил, будто черемисы несколько раз крупно подвели отца в делах. Сам добавлял, что с людьми, у которых вместо Бога дуб, православному дел заводить нельзя: им только всласть христианина обмануть.
Отец помирал в ссылке в черемисской земле. По старости их с мамой не погнали ни на север, ни в Сибирь: доживали они в землянке на берегу Большой Кокшаги, за околицей того самого села Шушер. Гурий Прокофьевич помнил, как уже почти слепой отец любил сидеть на луговом склоне у порога своей землянки, обратясь незрячим взором вниз по течению речки – в ту сторону, где она сольётся с Волгой напротив его родного Абашева. Однажды спросил: «В монастырь заходишь? Место наше как? Не занял никто?» Гурий отвечал: «Никто». Не лгал, но и не мог он старику сказать, что взорвали Козьмодемьянский, что разбили там Парк отдыха трудящихся, что «их место» теперь под танцплощадкой.
А к концу двадцатых, когда стали закрывать монастыри, отец затеялся было взыскать за своё место. Хмель нэпа затуманил ясный практический ум Прокофия Ильича. Хорошо, что логика, которую он во всём ставил превыше всего, споткнулась и заколодилась на вопросе «с кого?» – с епархии или с ОГПУ? Не находя ответа, отец потерял темп, а тут вскоре и арест подоспел, конфискация, ссылка…
Где-то за год до смерти Прокофий Ильич поменялся к черемисам, даже об их подпольном язычестве говорил с уважением: раз от попов его сберегли, глядишь, и от этих веру свою упасут. Хитро придумали: церкви-то строить надо, и, сколько их ни настрой, все поломать можно. А дубы разве все вырубишь? Когда его хоронили на шушерском кладбище, черемисы высыпали на опущенный в могилу гроб двенадцать ушатов дубовых листьев. Сотрудник НКВД, присматривавший в Шушере за ссыльными, ничего на это не сказал. Он был из местных, из луговых марийцев, из язычников.
…В семидесятых место, где стоял Козьмодемьянский монастырь, ушло под воду вместе с доброй половиной старого города – ниже по течению Волгу запрудили под очередную ГЭС. Ветер шушер теперь в городе ещё промозглее прежнего стал. Большая Кокшага тоже поднялась, разлилась по своим пойменным лугам, но не так сильно, чтобы село Шушер подтопило. Так, где-то в марийской дубраве, где «сквозняк идольский» зарождается, Прокофий Ильич и лежит. И мама рядом. Не злой он там, сквозняк этот, как все младенцы. Гурий Прокофьевич, правда, очень давно не проведывал родительскую могилу, как, впрочем, и в своём полузатопленном ныне городе давным-давно не бывал.
А в города тянуло. Особенно как овдовел, почувствовал: если на людях не бывать, умом помрачиться недолго. По посёлку ходить – не помогало: грязно, уныло, все знакомые до тошноты. Кого ни встретишь, наперёд знаешь весь разговор. Хорошо, за мостом город вырос – Зеленодольск. Говорили, завод подводных лодок там построили – самых современных, ракетных. Гурий Прокофьевич помнил: на этом месте село было – Кабачище, казанские купцы там от забот отдыхали, гуляли – чертям тошно было. Теперь – рынок крытый, железобетонный, по московскому проекту, Дворец культуры огромный на площади, даже фонтан есть. От вокзала до центра автобусы – три маршрута. Вокзал новый, светлый. Все московские поезда останавливаются – не меньше десяти минут стоят, а бывает, и до двадцати.
Зеленодольск лечил Гурия Прокофьевича: днём – живой суетой улиц, легко растаскивающей любые нагромождения мыслей и воспоминаний, бессонными ночами – предвкушением завтрашней поездки. Но сначала в ход шло снотворное послабее: укладываясь, Гурий Прокофьевич обдумывал увиденное и услышанное в программе «Время» и в «Последних известиях».
Если же не помогало, Гурий Прокофьевич представлял, как утром он выйдет из дома к электричке, отправляющейся на Казань в 8.52, завтракать не будет, чтобы в Зеленодольске в вокзальном буфете взять у Тамары кофе с молоком и крутое яичко, а если будет, то и кольцо с орехами – с собой – вернувшись, пополдничать. (Там его всё равно не получится съесть: орешки обязательно забьются под протез, а в туалете вокзальном не промоешь – неловко при людях челюсть-то вынимать.) Потом, выслушав Тамарино «на здоровье, дедуля, заходи ещё», выйти на привокзальную площадь и сесть на «второй» – до рынка минут за пятнадцать довезёт. Или лучше на «единичку» – прямо до площади перед ДК? Нет, лучше сначала на рынок, а уж затем на площадь – там посидеть можно в скверике, если дождя не будет, отдохнуть после рынка. Потом в книжный за углом, интересно, что-нибудь новое в отделе политической литературы появилось? Прошлый раз Гурий Прокофьевич приобрёл там «Историю фашистского режима в Италии» – прочитал с интересом, удивлялся совпадениям: выходило, что Муссолини организовывал и женское, и молодёжное, и профсоюзное движения очень сходно и практически в те же месяцы, что и наши. (Наши нововведения в двадцатых Гурий Прокофьевич помнил хорошо.)
Обычно, представляя себе прилавок в книжном магазине Зеленодольска, он засыпáл, заметив среди переплётов на полке какой-то пронзительно знакомый ещё с детства корешок, который никак не удавалось хорошенько разглядеть. За миг до сна, даже за полмига, Гурий Прокофьевич всё же узнавал эту книгу – скорее не по виду, а больше по запаху или даже по чему-то другому, ведомому прежде детства и, может быть, как раз поэтому – ускользающе неосмысляемому, присуще неизъяснимому… Но в самый момент, казалось, свершившегося уже опознания сон разверзал под ним свою мягкую пучину, и Гурий Прокофьевич слетал в неё, чтобы, проснувшись, не вспомнить.
Ничего подобного наяву не случалось: книги продавались только новые. Вообще, Зеленодольску не хватало прошлого: на голом месте вырос – от Кабачища не осталось ни брёвнышка. Но, обнаружив это однажды, Гурий Прокофьевич подумал вдруг, смущаясь собственной мыслью, что и хорошо, наверное: весь облик Зеленодольска настраивал на уход от старого. Вот так, в таких городах будут жить дальше, не сожалея о прежнем, без оглядки на него. Зачем? Редко кого не сорвало с родного места за эти почти семьдесят лет. Плохо ли, хорошо ли – а только так оно есть. Можно, конечно, как Катя, правдами и неправдами пытаться выпросить раскладушечку на пепелище. Зачем? Чтобы видеть изнуряющие своей невозвратностью сны? Кому это под силу? Есть всё же что-то глубочайше продуманное в политике строительства новых городов, милосердное.
Как-то, ожидая обратной электрички, Гурий Прокофьевич разговорился на вокзале с человеком, отставшим от поезда и вынужденным в ожидании следующего погулять часа полтора по Зеленодольску. Виктору Ивановичу – так звали незадачливого пассажира – город понравился: просторный, новый и товарами неплохо снабжается. Сам же Виктор Иванович жил в Казахстане, на берегу озера Балхаш, в городе, которого, как он выразился, «в áтласах не отыщете: туда пропуск нужен – на въезде шлагбаум и КПП». Так там – в точности как в кинофильме «Белое солнце пустыни» – павлины разгуливают. Прямо по газонам. «Об остальном я уж не говорю», – сказал Виктор Иванович, направляясь из зала ожидания на прибывающий поезд Кемерово – Москва. Он очень переживал, какие ему соседи по купе достанутся, будет ли в туалете чистота, хорошо ли проводник в этом кемеровском поезде моет стаканы – ведь непонятно, какие у него к этому стимулы. Виктор Иванович очень давно не ездил в поездах, на которые продают билеты по ту сторону шлагбаума. В разговоре с Гурием Прокофьевичем он предполагал, что последнюю ночь до Москвы ему придётся провести в не очень комфортабельных условиях. Гурий Прокофьевич не мог убедительно утешить своего собеседника – на кемеровском он никогда не ездил, но свой йошкар-олинский хвалить опасался, поскольку боялся показаться Виктору Ивановичу невзыскательным провинциалом. Хотя в йошкар-олинском всегда бывало чистенько и вежливо, а чай – практически никогда не спитой.
Но в чём они с Виктором Ивановичем безусловно успели сойтись до посадки на кемеровский, так это в том, что Москва – тяжёлый город. По всему тяжёлый: дымный, торопливый, невежливый. Это Виктор Иванович так говорил. Гурий Прокофьевич соглашался, примерами из собственного опыта вслух поддерживал, но про себя думал в этом разговоре другое.
В тот день, вернувшись домой, он даже не включил пятичасовые «Последние известия» и не стал сразу, как он это делал обычно после возвращения из Зеленодольска, ставить чайник. Отложив свою клеёнчатую кошёлку с покупками – колечком к чаю и «Россией накануне Смутного времени» Р. Скрынникова, Гурий Прокофьевич решил додумать, чем же всё-таки Москва тяжёлый город. Это было важно понять.
Подумалось: Москва не развеивает, а наоборот, нагнетает мутные, смурные раздумья. Пожалуй, все они закручиваются и безысходно вихрятся около одного и того же вопроса: зачем так много народу? Никто ведь специально не скучивал, не сгребал, а вот скопился. Что тянет-то? Нет, не прилавки – это только так самому себе говорится, чтобы не додумывать. Додумывать – муторно. И уж, конечно, не музеи и театры. Так уж точно никто даже себе не врёт.
Тогда подумалось ещё: раствориться людям потребно в других – многих и многих, незнакомых, безразличных к тебе. Едешь ли в метро, ходишь ли по универмагу огромному, по улице ли московской идёшь – точно никого знакомого не встретишь, а всё же все живые люди. И чужие. Никому до тебя дела нет. И тебе до них. В безлюдье так не успокоишься – там небо растревожит: огромное оно и всюду. Побудешь под ним наедине – заноет что-то за грудиной до невозможности: захочется бежать – хоть куда-нибудь. Захочется хоть кого из знакомых встретить, хоть о чём поговорить, унять ной внутри. Так ведь и в Москве так же, подумалось, только под открытым небом быстрее это наступает, чем в чужой лицами сутолоке.
Вот тут и додумалось. У себя в посёлке – никого не повстречаешь, чтобы поговорить. Всё со всеми давно переговорено, нового не успевает нарасти от встречи до встречи. И ещё неба много – давит отовсюду, не истрачено домищами огромными. В Москве тоже не погреешься об разговор – не с кем: снуют все, не приступишь. Но всё же не так страшно: и неба немного, и мысли на одном месте не задерживаются – знай перескакивают, мелькают – как люди вокруг. Вот чем Зеленодольск хорош: и город вполне – небо скрадено, нутро не больно рвёт, и нет-нет среди толпы доброго знакомого повстречаешь – не часто и не редко, самый раз. По размеру город, впору. А москвичам природным – вон Груниным внукам, Володе и Саше, – верно, Москва в самую пору. Не жмёт она им, не трёт нигде: не замечал Гурий Прокофьевич.
Как раз к семичасовым «Последним известиям» додумалось. Даже минут пятнадцать ещё осталось, чтобы не торопясь, по всем правилам заварить чай – не заливать в чашку, а промыть от заплесневевшей, спитой не меньше недели назад заварки фаянсовый чайничек, ополоснуть его для прогрева крутым кипятком, всыпать в него две ложечки чая (смеси, как было написано на упаковке лучших сортов грузинского и индийского чаёв – соседка Роза где-то умела его доставать) и по щепотке мятного и смородинного листьев, заготовленных Груней, когда она летом здесь гостила, водрузить чайничек вместо крышки на большой чайник с кипятком и покрыть это сооружение ватной юбкой целлулоидной куклы, сшитой воедино ещё Дуней покойной. Пока настаивается, оттереть замызгавшуюся в небрежении клеёнку на столе перед телевизором, выложить на отдельное блюдце вокзально-буфетное колечко с орехами, а на другое – варенье вишнёвое, тоже Груней летом сваренное, – без косточек (сегодня есть его прямо из банки душа не принимала). Сполоснуть холодной водой чашку и подумать, что содой он её от налёта обязательно отчистит в следующий раз. Всё сегодня хотелось делать основательно – как только что додуманное про Москву, но затеваться с содой – значило опоздать к семичасовым, а их тоже хотелось прослушать вдумчиво.
Была тому и дополнительная причина. Утром, ещё до знакомства с Виктором Ивановичем, Гурий Прокофьевич наблюдал на площади перед горкомом странную картину: в обращённом лицами к фасаду портретном ряду членов Политбюро производили перемещение. Он застал тот момент, когда снимали Пельше – демонтировали его портрет. Первое, что подумалось: помер, ему ведь за восемьдесят – старше всех в руководстве, да и в партии – единственный среди них, кто с «дореволюции», с пятнадцатого года. Хотя при чём тут партстаж? Ещё не успев толком изобличить себя в нелогичности последней мысли, Гурий Прокофьевич заметил, как рабочие принялись затаскивать Пельше назад, но на одно место левее прежнего – рядом с Кунаевым. Теперь уже левее Романова стало пусто из-под передвинутого Пельше. Несмотря на моросящий дождь, Гурий Прокофьевич решил посмотреть, что будет дальше. Перенесли и Романова. На его дырку – Тихонова, председателя Совмина. Так, по одному сдвинули всех оставшихся, вплоть до красавца Щербицкого, замыкавшего ряд по алфавиту. Когда опускали Черненко, рабочий, придерживавший его снизу, поскользнулся и, пытаясь удержать равновесие, с силой брызнул сапогом из лужи прямо на лицо секретаря ЦК. Руководивший операцией человек в хорошем плаще негромко выбранился и бросился оттирать грязь с портрета носовым платком. Вроде получилось. В остальном всё завершилось благополучно, как сказал бы Виктор Иванович, «штатно».
Раскрывшийся из-под Щербицкого никем не заполняемый проём создавал ощущение неполноты, которое усиливалось от пристального взгляда скульптурного Ленина, так же как и Гурий Прокофьевич, внимательно наблюдавшего за происходящим под мелким октябрьским дождём. Пока шло это удивительное перемещение, Гурий Прокофьевич всё пытался вспомнить, кого же недостаёт левее Пельше. Брежнев тут, Андропов на месте, Горбачёв, Гришин, Громыко – тоже. На «д» – Демичев, но он – кандидат в члены Политбюро, это другой ряд, его следом располагают, и то не везде. На «е» – никого, на «ё» и «ж» – тем более. На «з» – Зимянин, но он даже не кандидат, а просто секретарь ЦК, это уже вовсе третий ряд. И на «и» вроде нет. На «к» кроме Кунаева был Кулаков (Гурий Прокофьевич даже помнил его имя-отчество: Фёдор Давыдович – так же звали их соседа в Абашево, который пытался продавать отцу горох на корм индюков). Но Кулаков умер четыре года назад, хотя и был моложе всех в Политбюро, а теперь вместо него, вон, Горбачёв висит – ещё моложе. По сельскому хозяйству секретарь, а по промышленности… Кто же у нас по промышленности?
И тут Гурия Прокофьевича как пронзило: Кириленко! Как же он мог подзабыть? Самый соратник. Ещё помнил Гурий Прокофьевич, как в послевоенные годы, когда рапорты Сталину на первой странице «Правды» шли, так Брежнев с Кириленко один за другим стояли – от Днепропетровского и от Николаевского обкомов. Не было Кириленко: за Громыко на зеленодольской центральной площади в конце октября 1982 года сразу шёл Кунаев, а Кириленко не было! Не веря глазам, Гурий Прокофьевич ещё раз внимательно просмотрел весь ряд портретов. Нет, все на местах: первый – Брежнев, затем – остальные, по алфавиту. Все, кроме Кириленко.
Вдруг, под изрядно облетевшими кустами, толстой, стриженной «под скобочку» бровкой обрамлявших внутренний асфальт площади, Гурий Прокофьевич увидел лежащий ничком на газоне портрет. Дождь равнодушно мочил его холщовую изнанку, и даже Ленин, казалось, не замечал его. Человек в хорошем плаще в последний раз окинул придирчивым взором новую композицию, слегка задержавшись на лице Черненко, удовлетворённо кивнул и коротко о чём-то распорядился, указав в сторону снятого портрета. Рабочие подняли его за углы и понесли, как лежал, ничком в сторону горкомовского здания. Руководитель пошагал рядом. Вскоре процессия скрылась во внутреннем дворе.
Гурий Прокофьевич тоже пошёл и, пока не повстречал Виктора Ивановича, всё время размышлял. Разговор с новым знакомым отвлёк его от вопроса: умер или освободили? Разговор увёл Гурия Прокофьевича к важному раздумью. Теперь, по его плодотворному завершению, вопрос о Кириленко возник вновь. Утром послушать радио не удалось – под зарядивший с ночи дождь он чуть не проспал свою электричку, торопился. Сейчас в семичасовых он надеялся получить ответ. Правда, когда в феврале умер Суслов, первое сообщение прозвучало лишь в программе «Время», а до этого весь день в новостях передавали что-то неинтересное, а в промежутках – невесёлую классическую музыку, даже по «Маяку».
Действительно, в семичасовом выпуске ничего особенного не сказали. Все сообщения на внутренние темы касались успехов производства, которыми «коллективы предприятий ознаменовали канун 65-й годовщины Великого Октября». Это могло быть в пользу смерти, но по окончании всё пошло по программе передач, как она была напечатана в субботней газете. Включив телевизор, Гурий Прокофьевич и здесь не обнаружил никаких отклонений от нормы. Информационного сообщения о пленуме ЦК КПСС тоже не передали.
Не передали его и на следующий день. К его исходу Гурию Прокофьевичу стало очевидно, что до «октябрьской» ждать ясности о судьбе Кириленко не стоит. Освободили – не сообщат, чтобы не нарушать предпраздничный настрой, умер – тем более. Подержат в морге, «на льду», а спустя пару-тройку дней (там ведь ещё День милиции десятого с очень хорошим концертом по телевизору – в нём ещё Пугачёва обычно поёт) объявят и схоронят как полагается. Интересно где? За Мавзолеем – в ряд Свердлову, Фрунзе, Дзержинскому – теми, что под бюстами? А что? Суслова ведь туда положили, а он в точности в тех же чинах, что и Кириленко. Ну, может быть, Суслов – особый случай: дольше, чем он, никто в секретарях ЦК не проходил, даже Сталин. Тогда что же? Кремируют – и в стену? Вроде маловато для секретаря по промышленности – второй всё-таки после генерального, да и друг ему старинный. Может быть, под стеной – без бюста, в братскую – как Ногина, как Инессу Арманд, как Джона Рида? Так, правда, давно что-то никого не клали: видно, неэкономно. Ну вот и наэкономили как раз: кого же другого ещё найти, чтобы под стену положить, хоть и без бюста?
Размышляя над этим, Гурий Прокофьевич вспомнил, как однажды в Москве Петя, Грунин зять, рассказывал в семейном застолье о недавних похоронах своего старинного сослуживца. Петя описывал, как выглядит Новокунцевское кладбище, сравнивал его с Новодевичьим. Володя спросил отца: разве Анатолию Прохоровичу (так звали покойного) не полагалось Новодевичьего – должность-то вроде немаленькая? И Павел Александрович на такой же умер года два назад – а он точно на Новодевичьем. Петя ответил коротко: «Вовремя надо умирать». Оказалось, Анатолий Прохорович недели за две до смерти был отправлен на пенсию.
Вообще, разговор тогда получился запомнившийся. Груня вспомнила, как Лидина одноклассница, дочь председателя Госплана, попала под поезд и её хоронили на Новодевичьем, на той же делянке, что и Надежда Аллилуева и другие члены кремлёвских семей лежат. А вот отца через полгода арестовали, и где он лежит – бог весть. Фамилию эту, такую звучную, что казалась извечной, вычеркнули отовсюду, а на дочкином надгробии на Новодевичьем не тронули – так она там и до сих пор. Сейчас-то реабилитировали, а долгие годы странно было: фамилия врага народа – среди таких фамилий у всех на виду – и ничего. Лида сказала: «Да кто эту фамилию теперь помнит! А Алку жалко – такая хохотушка была. Интересно, что сама-то она уже рельсы перешагнула, а поезд ударил по велосипеду – она велосипед на плече через пути переносила».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.