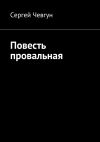Текст книги "Были"

Автор книги: Александр Минеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Тут, наверное, стоит сказать, что наша последняя стоянка, откуда я стартовал на загон гусей, располагалась на водоразделе Северной Двины и Мезени. Из всех предыдущих на нашем маршруте озёр речки вытекали нам навстречу, на запад. Это же было первым, на подходе к которому мы не только не повстречали никакого водного русла, но, напротив, выйдя к сáмому озеру, обнаружили сухой берег, полого спускавшийся к воде, на подступе к которой даже желтела узкая, с метр шириной, полоска песка. Все эти физико-географические наблюдения позволяли утверждать, что теперь, отойдя от нашей стоянки на сотню шагов, я мог быть достаточно уверенным, что моя геолокация отныне надёжно пребывает в бассейне реки Мезень. А на том, восточном, конце озера, где мне предстояло пугать гусей, с большой вероятностью находится исток речки, также принадлежащей этому бассейну.
Размышляя эдак, я поглядывал то на воду слева от себя, не появились ли на ней гуси, то на сушу справа – с её поистине африканским контрастом красного и зеленого на просторе брусничной пажити и умиротворяющими своей величавостью лиственницами, но главным образом – перед собой и под ноги, дабы не угодить в объятия некоего Нга, который, я помнил, «ждёт тащить меня вниз».
Мшаник предупредительно почавкивал в такт моему шагу, изредка чирикала с ветвей какая-нибудь птаха, озеро и лиственничная гряда медленно проплывали за мою спину, совершенно не меняясь своим видом. Вдруг откуда-то из прибрежного ольшаника на меня выскочила собака. Я мог поклясться, что это тот самый пёс, который сопроводил меня от костерка ненца до крика сойки, хотя знал, что все ненецкие лайки неразличимы пришлому глазу, и только ненэй ненэч знает каждую из них в лицо, как и всех оленей в пасомом им стаде. Собака точно так же, как и при первой нашей встрече, повела меня каким-то своим, одной ей вéдомым маршрутом, постоянно нетерпеливо оглядываясь, словно недоумевая, отчего я мешкаю. Направление её хода было почти вдоль береговой линии, лишь чуть отклоняясь вправо, и я счёл вполне приемлемым принять приглашение. Так мы вскоре вошли в брусничник, пересекли его и оказались у самого подножия гряды с растущими на ней лиственницами. Я обернулся: озеро, поблёскивая стальным холодом сквозь редколесье, было хорошо видно отсюда.
Собака улеглась на землю и принялась вычищать зубами собравшиеся у неё между пальцами стебельки мха. И тут я заметил стоявшего неподалёку деревянного идола в человеческий рост. По обе стороны от него на земле параллельно друг другу лежали два исполинских – метра два в длину – щучьих скелета, абсолютно не повреждённых, а напротив, обглоданных с какой-то поистине ювелирной тщательностью. Чуть поодаль была видна землянка, покрытая аккуратно пригнанными друг к другу скорее жердями, чем брёвнами – сантиметров не более десяти в диаметре ошкуренными стволами здешних низкорослых елей. Лаз, служивший входом в землянку, был завешен изнутри куском грязноватого вида брезента.
То ли собака своим поведением каким-то неописуемым способом давала мне основания, то ли моя возбуждённая происходящим фантазия, но я вдруг ясно ощутил, что в землянке кто-то есть.
Помню, я не испытал страха и даже беспокойства, а лишь любопытство и потому решил подождать развития событий и тем временем получше рассмотреть идола и скелеты гигантских щук. Подойдя вплотную к капищу, я обнаружил на нём следы давно не разводившегося костра. Рыбьи костяки, лежавшие на боку по обе стороны от подёрнутого отавой кострища головами к изваянию, а спинами друг к другу, слегка приминали росшую под ними траву, что говорило о сравнительно недавнем их размещении на этой позиции: в противном случае некоторые стебли уже пролезли бы между костей, по крайней мере рёбер нижних боков, лежащих прямо на земле. Но ничего подобного заметно не было.
Истукан был выделан из комля лиственницы. Для изображения правого глаза мастер использовал довольно толстую ветку, которая торчала бы на высоте лица человека среднего роста, кабы не была срублена заподлицо, и теперь годовые кольца сучка действительно напоминали глаз с радужной оболочкой зрачка, буравящего вас пристальным взглядом. Левый глаз был высечен на гладком участке ствола и был по-азиатски раскос, отчего казалось, слегка подмигивает.
Помню, я подумал тогда, что, доведись мне вытёсывать из этой лиственницы нечто человекообразное, я скорее использовал бы ветку как заготовку для носа и срезал бы её чуть подальше от поверхности ствола, используя в дальнейшем как точку симметрии для глаз, ушей, щёк, ваяя их по возможности попарно одинаковыми. Но тут же ощутил, насколько мой идол оказался бы безразличнее к прихожанам, мертвее этого, сразу затевающего заинтересованный диалог о чём-то непонятном, неизъяснимом, противополагая друг другу выражения своих столь противоречивых глаз.
Я подмигнул истукану и воззрился на него, тоже стараясь выглядеть в его глазах максимально требовательным, но тут боковым зрением заметил, что брезентовая занавесь в землянке отодвинулась, отворив вглубь чёрный провал, в котором секунду спустя возникло лицо. Я резко развернулся в ту сторону и увидел тяжело выползавшую из преисподней старуху, не обращавшую на меня никакого внимания, хотя я и стоял прямо перед ней шагах не более чем в пяти. Надо сказать, я не сразу обозначил в своём сознании появившееся существо как женщину: безбородое лицо в этих краях – весьма ненадёжный половой признак, а обилие крупных бородавок на лбу, скулах и вокруг носа – нигде таковым не служит. К тому же негромкое покряхтыванье, издаваемое существом, по тембру было скорее стариковским, чем старушечьим. Но в интонациях этих звуков отчётливо угадывалось женское начало, да и в движениях встававшей с карачек особи оно проступало в полной мере.
Собака прекратила маникюр и распласталась у ног старухи, часто-часто метя хвостом, уткнув морду в её пимы, а затем и в малицу где-то на уровне коленей. Старуха потрепала собаку за ухом, отчего собачья морда, задравшись вверх, выразила нечто наподобие «премного довольны-с!».
Я по-прежнему был лишним на этом празднике: никто из его участников не обращал на меня ни малейшего внимания. Посему я решил незаметно ретироваться и, вернувшись к озеру, продолжить своё соучастие в убиении невинных гусей. Но не успел я ступить и трёх шагов, как пёс оторвался от ласкавшей его хозяйки и, нешуточно рыча, преградил мне дорогу. Вообще-то я умею ладить с собаками, даже с собаками на сене, мотивация которых многим представляется загадочной. Вот и здесь я попытался объяснить бравому барбосу совершенную ненужность моего присутствия в его со старухой почтеннейшем собрании, но по всему было заметно, что он со мной не соглашается. Делать было нечего: я отступил обратно к капищу, но пёс оттеснил меня от него ещё на несколько шагов и лишь после того, как я присел в указанном мне месте на корточки, перестал рычать и сам прилёг рядом, продолжив маникюр, время от времени строго поглядывая в мою сторону.
Тем временем старуха неспешной поступью отправилась в направлении лиственничной гряды. Мне было видно, как при каждом шаге её сутулая спина под малицей идёт лёгкими волнами от поясницы к шее – наискось, то слева направо, то справа налево, в зависимости от шагнувшей ноги. При этом руки висели плетьми, никак не вторя ходьбе, лишь слабо покачиваясь всякий раз, как очередная волна достигала плеча. Возможно, именно вид столь необычного телодвижения породил во мне неясную тревогу, которая по мере удаления старухи почему-то лишь усиливалась. А когда та остановилась у первой лиственницы и стала обламывать сухие ветви, доступные ей по росту, я ощутил уже вполне отчётливый страх. Когда же она, оголив низы пяти или шести деревьев и соорудив из своей добычи огромную вязанку, лёгким не по возрасту движением взметнула её себе на спину и двинулась обратно, до меня, кажется, дошло, что она хочет меня сварить и съесть, что она – не кто иная как Баба-яга, а собака – местный вариант гусей-лебедей, доставляющих ей иванушек, егорушек, емелюшек, словом, всех этих незадачливых русских ребятишек, одним из которых на сей раз оказался я.
Словно в подтверждение моей гипотезы, старуха, подойдя к капищу и свалив вязанку на землю, громко втянула носом воздух, вроде как отпыхиваясь после большого физического напряжения, а на деле – я-то всё понял! – принюхиваясь. И наконец, повернувшись ко мне, спросила и вправду глубоко надтреснутым голосом:
– Русский?
Я сумел лишь слабо кивнуть в ответ. Подобие улыбки тронуло сморщенную кожу вокруг её губ, и она удовлетворённо выдохнула:
– Я русских люблю.
После чего так же не спеша двинулась через брусничник к болоту, достигнув которого, принялась выдирать багульник и кассандру, пока не сложила огромный ворох, который тем же манером, что и хворост, забросила за спину, притащила к капищу и сложила неподалёку от первой кучи. Помню, наблюдая за этим действом, я невольно подумал: «Наверное, для приправы».
Старуха принялась раскладывать костёр, собака продолжала выгрызать и вылизывать меж пальцев, я пытался собраться с мыслями.
Когда растопка из тонких веточек была накрыта несколькими слоями сучьев, утолщавшихся кверху, старуха, достав откуда-то из недр своей малицы допотопное кресало и пучок сухого мха, встала на колени, ловко высекла на него искру и быстро раздула затлевший трут до слабого огонька, легко перекинувшегося на кучку сухих лиственничных хвоинок, а оттуда – на растопку, от которой вскоре занялась уже и остальная масса сложенных в костёр ветвей.
«Сейчас в землянку за котлом и треногой слазит, – подумал я. – А где она воду возьмёт? Из болота?»
Перспектива быть сваренным в болотной воде показалась мне, помню, неприятной настолько, что я готов был сходить за водой к озеру, но тут же понял, что собака этого не допустит.
Старуха действительно наклонилась к чёрной дыре входного проёма, запустила в него руку и извлекла наружу котелок – к моему облегчению, явно маловатый, чтобы сварить меня в нём целиком, разве что в несколько приёмов, предварительно разделав моё тело примерно по той схеме, которая в советское время украшала мясные отделы продуктовых магазинов и которая была единственным указанием на специализацию данного прилавка, поскольку самогó мяса на нём давно не водилось. Затем она уселась на корточки и сорвала один из тех, не припоминаемых в среднерусской жизни грибов. Понюхала и, засунув его в рот, принялась жевать. Тщательно прожевав, сплюнула в котелок. За первым последовал второй гриб, за ним третий, после чего она подняла на меня щёлочки щедро обрамлённых бородавками глаз и протянула мне котелок:
– Пей.
Я инстинктивно помотал головой.
– Пей, русский, легче станет. Лучше водки. Водка сначала вверх, а потом вниз. Глубоко-глубоко вниз – там, где Нга. Гриб только вверх, всегда вверх. Высоковысоко – там, где Нум. Полетим вместе – увидишь.
Я опять отказался. Старуха ничего не сказала, только пожевала губами и сплюнула в котелок последки столь нехитро изготовленного ею зелья. Затем она поставила котелок перед собакой, а сама, покряхтывая, направилась к костру. К моему удивлению, собака перестала наводить марафет и принялась жадно вылизывать содержимое посудины, урча от удовольствия. Помню, я успел подумать, что, если собака сейчас взлетит высоковысоко, то мне, возможно, удастся вырваться из-под её надзора, но в этот момент старуха, обернувшись ко мне от огня, поманила скрюченным пальцем.
Я подошёл. Костёр к этому времени уже вполне разгорелся и обещал вскоре потребовать добавки хвороста, чтобы не начать угасать.
– Будешь моя помогать, – старуха прочесала меня с головы до пят острым взглядом прищуренных глаз, словно желая окончательно убедиться, не ошибается ли она, выбирая меня помощником. – Огонь дымить будешь. Нум, – она указала на идола, – слышать меня, когда дым много.
С этими словами она кинула в огонь пучок болотной травы из принесённой ею кучи, и из костра поползло густое облако пахучего дыма, застив на несколько мгновений и идола, и саму старуху, которая радостно заурчала от этого – ничуть не хуже собаки, алкавшей сдобренную грибным дурманом слюну.
– Бабушка, – неожиданно для самого себя обратился я к старухе этим словом, – бабушка, милая, мне идти нужно, давайте я в другой раз вам помогу. Меня друг ждёт, он беспокоиться будет. Он же не будет знать, что я у вас тут загостился, подумает, не случилось ли чего. Искать меня примется, из ружья стрелять. Это нам надо, бабушка?
Старуха в ответ хрипло засмеялась, отчего бородавки на её лице заплясали, мне показалось, даже закружились вокруг прижмуренных век, следуя какой-то тщательно выверенной хореографии. Вслед за этим глаза вдруг неправдоподобно широко распахнулись, на мгновение отогнав от себя бородавки, пробуравили меня насквозь ярым взором и вновь почти скрылись в непроницаемом монголоидном прищуре.
– Моя помогать будешь – твоя твой друг живой дойдёшь, моя помогать не будешь – Нга твоя вниз тащить. Дым мало – Нум моя не слышать – гуси Нга служить. Дым много – Нум моя слышать – гуси Нум служить, твоя твой друг живой дойдёшь.
И, не дожидаясь моего ответа, она принялась приплясывать вокруг костра, время от времени наклоняясь, чтобы ухватить охапку хвороста или травы и бросить её в огонь. Пламя то разгоралось, то захлёбывалось в густом до непроглядности дыму, округлыми клубами окутывавшем и недвижного истукана, и прилегших возле него некогда проворных исполинских щук, и самозабвенно пляшущую старуху. Я наблюдал это действо со смесью страха и любопытства, не зная, принять ли в нём большее участие или оставаться завороженным зрителем.
Вдруг прилетели гуси, уселись, похлопывая крыльями, совсем близко от костра и стали сливаться с дымом, вытягивая его клубы в птичьи очертания, с каждой секундой всё более отчётливые и растущие. И вот уже два огромных дымовых гуся восседают на всём пространстве, куда хватает взгляда, их неспешно хлопочущие крылья овевают всё вокруг сладковатым благовонием курящегося багульника, а их шеи устремлены к небу – всё выше, всё глубже в него – так, что кажется, будто мерно пощипывающие его клювы вот-вот ухватят небо по-настоящему, и оно уже не сможет вырваться. К благоуханию сгорающего багульника всё отчётливее примешивается горький аромат истлевающего в пламени болотного мирта, и я помню, что его почему-то называют ещё кассандрой. Из дыма вырастает старуха, она тоже огромна – почти до неба, и оттуда, из-под самых небес звучит её хриплый громоподобный глас:
– Женись на моей внучке! Женись – получишь гусей в приданое!
Я оборачиваюсь и вижу присевшую на корточки девушку в джинсах и в клетчатой ковбойке с завёрнутыми манжетами: на обнажённых запястьях браслеты – ниточки речного жемчуга. Она держит в одной руке гриб, другой поглаживает по загривку блаженно спящую собаку. Котелок стоит рядом, он пуст. Должно быть, досуха вылизан собакой, а девушка то ли не успела сплюнуть в него очередную порцию зелья, то ли сглотнула её. У неё смоляные длинные волосы, расчёсанные на пробор, прихваченные вокруг головы берестяным обручем-почёлкой, глаза чуть раскосые, смотрят куда-то чуть мимо или даже за тебя, постоянно не то что бегают – скорее подрагивают. И оттого кажется – посмеиваются, подзывая, или подзывают, посмеиваясь.
– Пойдём полежим в землянке, – певуче говорит она, и я не уверен – мне ли она это предлагает: настолько неуловим её взгляд.
Я оглядываюсь, чтобы убедиться, что приглашение адресовано мне, а не кому-то сзади меня, и вижу старуху – уже в натуральную величину, над которой снуют в воздухе два гуся – тоже вполне обычного размера. Костёр то разгорается, то начинает мощно дымить, старуха, приплясывая, колдует над ним и, не оборачиваясь, говорит – тут я точно знаю – мне:
– Иди-иди, сладко будет, – и после паузы: – Гусей получишь, на небо летать будешь.
Она подбросила в огонь очередную порцию травы, отчего тот исчез, заменившись на разрастающиеся облака дыма, скрывшие от меня и подмигивающего идола, и девушку с подрагивающим взором, и самоё старуху. Я почувствовал, что лечу, но полному ощущению полёта мешала нулевая видимость, не позволявшая понять, как высоко я оторвался от земли. И одновременно – нарастающий с каждой секундой страх врезаться со всего маха моего неочевидного мне полёта во что-то препятствующее, в ствол одной из невидимых мне в дыму лиственниц, например.
Вдруг раздаётся голос девушки – я слышу, что она где-то совсем рядом:
– Не хочешь лежать – давай полетаем. В Москве можно летать?
Я, как учительнице на уроке, отвечаю:
– Нет.
Хотя до конца не уверен в правильности ответа. Голос девушки звонко смеётся:
– А костёр жечь?
– Нет, – чуть уверенней, чем на первый вопрос, отвечаю я.
Она опять смеётся где-то совсем неподалёку – из дыма.
– А из ружья стрелять?
– Нет, – твёрдо говорю я.
Она сквозь смех певуче протягивает:
– Аресту-уют. А у нас – нет. Летай! Ты бабушке понравился и мне – летай пока.
– А потом вы меня съедите? – почему-то без страха, в упоении полёта спрашиваю у девушки.
Она звонко смеётся в дыму.
– В Москве – арестуют. А у нас не-ет. Летай пока. Зачем так далеко приехал? Летай, раз полежать со мной не хочешь!
Завеса дыма то там, то тут вдруг на какие-то секунды рассеивается, и в просветах я вижу то девушку, то крону лиственницы, то гуся – они возникают совсем неподалёку и вновь скрываются в дыму. Я резко взмываю вверх – вот уже лиственницы мелькают в редких прогалах дыма где-то внизу, но гуси – по-прежнему рядом. Слышу поскрипывание их перьев на взмахах крыльев. И девушка, скорее угадываю, чем вижу, – тоже рядом. Негромко, но звонко посмеивается. Или мне это только слышится?
Вдруг дым подо мной исчезает до самой земли, и я вижу Греда. Он вскинул ружьё и целится. Выстрел. Заряд дроби, как рой бешеных шмелей, проносится в каком-то полуметре от меня. Второй выстрел – из другого ствола. Рой шмелей прожужжал на этот раз совсем вплотную.
– Не стреляй, дурак! – ору я что есть мочи.
Но дым вновь зáстил мне вид на землю и, должно быть, скрал мой крик. Гред не услышал и спустя секунды, видно, перезарядив ружьё, вновь выпустил в небо – в меня! – один за другим два свинцовых роя. Голос девушки заливисто зазвенел прямо у меня над ухом – мне даже показалось, что я ощутил тепло её дыхания:
– Он тебя не видит, он по гусям. Какой смешной у тебя друг! Хорошенький такой – мне нравится. Приехал стрелять – здесь не арестуют. Он голодный?
Вновь прозвучали два выстрела, и я почувствовал, как в плечо мне впилась дробинка второго калибра, диаметром 3,75 мм, рассчитанная на гуся и предназначавшаяся ему.
– Не стреляй, дурак! – вновь проорал я без особой, правда, надежды быть услышанным.
– Давай пониже спустимся – он так не слышит, – смеясь, предложил голос девушки. – Смешной такой – не слышит, стреляет. Сладкий! Так бы и съела! И бабушке, думаю, понравится. Давай пониже спустимся – хочу получше его разглядеть – такой хорошенький!
– Пониже – он меня точно убьёт, не разобравшись. Он же не понимает, что я летаю, подумает: гусь. Он, когда ружьё в руки берёт, перестаёт соображать.
– Убьёт – здесь не арестуют. Съедим. Всех угостим – у нас сегодня праздник, много людей придут, угощаться будем. Бабушка костёр на праздник разожгла. Ты ей не помог. Лежать со мной не захотел. Захотел, чтобы съели тебя. А потом его – сладенького такого. Вот все и угостимся. В Москве не узнáют. Подумают, Нга утащил. Нга тех, кто к нам стрелять приезжает, к себе утаскивает. Глубоко-глубоко – никогда не найдёшь. Не любит он, когда вы здесь стреляете, – голос вновь звонко и весело рассмеялся. – Ну, спускаемся? Хочу с другом твоим полежать, пока его не съели, сладенького. Полетали – хватит.
…Я сидел на том самом месте, откуда взлетел. Рядом без задних ног дрыхла собака. Девушки нигде не было. Возле идола хлопотала старуха, подкидывая в костёр сухой валежник.
– Ненэй ненэч на праздник придут, много ненэй ненэч придут час-два, белый олень убивать, сами есть, Нум кормить, – она указала на идола. – Нум добрый быть, когда белый олень ест. Все добрый быть – праздник. Будешь с нами олень есть – добрый станешь. Друг твой гуси стрелять не будет, олень поест – тоже добрый станет.
Из-за лиственничной гряды показался мой знакомый ненец. Собака во сне благостно заурчала. Приблизившись, он поднял руку в приветствии:
– Салют, Москва! Ну как там у вас Китай?
– Вроде нормально, – ни секунды не раздумывая, отвечал я.
– Хорошо, хорошо, – удовлетворённо произнёс ненец, – я китайский народ уважаю. Братья они.
И принялся помогать старухе с костром.
Из землянки с крайне довольным видом и ружьём наперевес выполз Гред. Заметив меня, он, ещё не встав на ноги, возмущённо закричал:
– Куда ты, к чёрту, провалился? Я весь берег исходил – думал, ты утоп.
Я ощупал плечо – там, где в него угодила дробь, но ничего не обнаружил.
– Поешь белого оленя и успокойся. Часа через два, бабушка говорит, изготовится. Все подобреют.
Из землянки выбралась девушка. Заправив слегка выбившуюся из джинсов рубашку и поправив на голове почёлку, она улыбнулась не то мне, не то кому-то позади меня:
– Какой сладенький!
Гред на эти слова едва приметно приподнял подбородок и расправил плечи, стараясь при этом делать вид, что сказанное к нему не относится, но и не опровергая этого категорически.
– Ты не передумал? – теперь-то уж точно у меня спросила девушка. – А то пойдём. Полетали, теперь хорошо и полежать. В Москве за это не арестуют? – она негромко и заливисто рассмеялась и опять поправила почёлку и скользнула вниз по прямым чёрным волосам, чуть набросив их со спины на плечи. – Ну ладно, давай позже, – заключила она, не дожидаясь моей реакции, и пошла к костру, добавив, не оборачиваясь: а то как бы он тебя не застрелил. Тогда точно придётся тебя съесть, чтобы его в Москве не арестовали, – и засмеялась.
– Ты зачем в меня стрелял, гад?! – теперь уже закричал я.
Но Гред словно не услышал. Присев возле спящей собаки, он с такой же блаженной, как у той, мордой принялся ерошить густошёрстый загривок, извлекая таким образом из псиной утробы звуки, напоминающие ночную серенаду и триумфальный марш одновременно.
…Праздник удался. Убили белого оленя, сварили его и съели. Женщины в праздничных одеждах, украшенных монистами из царских серебряных полтинников и нитками речного жемчуга, хороводились вокруг костра, иногда прерывая танец, чтобы обнести всех присутствующих лепёшками с яичницей. Все постоянно прихлёбывали из большого котелка, стоявшего возле идола, а тот только по-доброму улыбался, глядя на всё это. Потом запели хором что-то не столько мелодичное, сколько ритмичное. Время от времени на бреющем полёте с громким скрипом крыльев над нами проносились гуси. В тот момент, когда я почувствовал, что все окончательно подобрели, я понял: пора откланиваться. Отыскав свой можжевеловый посох с крюком, я окликнул Греда, самозабвенно отплясывавшего с девушкой какой-то совсем не народный танец, который, впрочем, видно было, нравился не только ей, но и всем наблюдавшим за танцующей парой и даже пытавшимся подпевать в такт невиданным им прежде па. Запыхавшийся Гред крикнул мне, не переставая плясать, чтобы я шёл, – он догонит. Я попрощался со всеми, с глубоким почтением приобнял старуху и собрался в обратный путь, намереваясь выйти сначала к озеру, а затем берегом вернуться к нашему лагерю. Проспавшаяся собака, к моему радостному удивлению, вызвалась меня проводить. Нетерпеливо виляя хвостом, она дожидалась, пока я распрощаюсь со всеми участниками праздника. Старый знакомый ненец, пожимая мне руку, напутствовал меня словами:
– Сойка кричать не жди, сам повернёшь, когда собака назад пойдёт. Нга берегись, под ноги гляди. Нга в маленьком ручейке тебя ждёт – ручеёк перешагни, в воду не наступай.
Я согласно покивал, показывая ненцу, что я понял его наставление, и тронулся в обратный путь. Идя вдоль берега, я действительно аккуратно перешагивал все ручейки и даже стоячие лужицы, которых здесь было великое множество. И когда путь мне преградил ручей, который было не перешагнуть, а можно лишь перепрыгнуть, я так и сделал, не заметив, что точка на том берегу, куда я собирался приземлиться, тоже находится в едва заметном русле крохотного ручейка-притока. В одно мгновение я оказался по самые подмышки в объятиях торфяной грязи, и она продолжала неотвратимо всасывать меня всё глубже и глубже. Инстинктивно задрав лицо к небу, я увидел там подмигивающего мне идола – очень похожего на того, что стоял у костра, только уголки губ у этого были не приподняты в приветливой улыбке, а напротив – опущены, выражая всепонимающий скепсис. «Нга, – подумал я, – вот и всё…»
Каким последним усилием я накинул крюк моего посоха на растущую в метре от меня берёзку, вспомнить не могу. Я ухватился за бедное, совсем ещё юное деревце обеими руками и, ежесекундно рискуя обломить его в своём судорожном цеплянии за жизнь, буквально сантиметр за сантиметром принялся вытаскивать себя из трясинных объятий. Когда я выкарабкался по пояс, идол в небе досадливо поморщился, обещающе подмигнул мне и скрылся, а то место в зените, где он только что красовался, молнией прочертили силуэты двух гусей. И скрылись так же внезапно, как появились.
…Сушился я у нашего костра в одиночестве. Гред, похоже, вконец затанцевался на празднике. Я подумал, как бы он в таком расположении духа тоже не угодил в ловушку Нга, и собрался выйти ему навстречу. Но тут я услышал его шаги по берегу, звук которых легко долетал до меня по глади озера – спокойного и безмятежного.
Гред шёл, мурлыча что-то фольклорное, ружьё висело у него за спиной, совершенно не готовое к бою, а на свинцовом зеркале озера величаво вырисовывались вдали силуэты двух неспешно плывущих гусей. Кажется, Гред их вовсе не замечал.
2021
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.