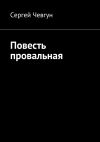Текст книги "Были"

Автор книги: Александр Минеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
За ужином, когда Лена уехала, Галя сказала:
– Дядя Гурий, не расстраивайтесь, может, оно и хорошо, что с ювелиром не выходит – время сейчас и вправду нехорошее, чтобы такое дело через третьи руки решать. Да и далековато. А вот про Рудольфа она мне напомнила – спасибо. Мы хоть и расстались, а иногда встречаемся. Думаю с ним потолковать – тут надёжно должно получиться. Только тут, дядя Гурий, вам уж придётся мне довериться. С вами-то он не станет, вы уж извините. Дело не в вас, а просто у него, у Рудольфа, я имею в виду, такая работа всегда была, что он мало с кем вообще. Хотя связи у него большие. Ну вы понимаете.
Гурий Прокофьевич понимал. Если даже не всё, то мог представить, догадаться – всё-таки жизнь прожил, повидал кой-чего. Он и сам уже пришёл к решению передоверить всё Гале. Ну как он сам сумеет найти покупателя на горошины? А даже если найдёт, какую цену запросит? Не знает он этих цен. Да и как такой разговор вообще строить – с такими людьми? В каких выражениях, чтобы они вообще с тобой разговаривать стали? Жизнь-то прожил, повидал, но с этими людьми вплотную на их темы никогда не общался. Бог миловал. А может, наоборот – наказал? Чтоб на старости лет беспомощно вот так не уметь себя защитить. Оказывается, что без этих людей не защитишься. От них же и не защитишься – быстро прямиком в могилу сведут. Не специально, а просто по отторжению от них, по чужизне к их жизни. По-другому надо, оказывается, жить, чтобы среди них выжить. Другие они. Вернее, это он, Гурий, другой. А их вот, как оказалось, больше. Спасибо Гале, что шефство взяла. По доброте ли, по расчёту – неважно. Да и вряд ли стоит так уж противополагать: не точные это слова теперь стали – «доброта» и «расчёт». Нет такого, чтобы они в чистом виде определяли. Вышло, что нет. Пусть её и заработает на своём шефстве. На доброте. Ей же тоже непросто выживать приходится…
Через месяц Гурий Прокофьевич перебрался в Глашин домик. Галя всё устроила: и с горошинами, и с Глашей сторговалась, и с пропиской новой договорилась – как только старый участок продастся. И тут она включилась – искала покупателя, нашла даже нескольких: приходили смотреть, но пока думают вроде как.
Груне он писал, чтобы этим летом не приезжала – не обустроился-де пока как следует на новом месте. Не написал, что негде будет ей тут разместиться – тесновата Глашина комнатка была для двоих. Не хотел Груню расстраивать. А как на следующее лето поступить, так что-нибудь придумается. Дожить ещё надо. А пока писал, что удобное у него жильё, только немного обжить ещё требуется. Вот обживёт, тогда и даст знать, что можно приезжать. Раньше-то следующего лета, понимал, всё равно не получится.
За стеной, в другой половине избы, похоже, никто постоянно не жил – ни звука не доносилось, ни огонька в окнах. Но однажды, возвратившись уже в сумерках домой, Гурий увидел перед соседним крыльцом несколько фигур. Разговора меж ними не было слышно, да и стояли они будто поврозь – смотрели кто куда, кто под ноги, кто на небо, кто вдаль, но точно не друг на друга. Войдя в калитку, Гурий поздоровался. Никто не ответил, головы не повернул. Гурий заметил, что были тут и женщины. Одна курила. Чуть помедлив – не откликнется ли всё же кто на его приветствие – и не дождавшись, он прошёл к себе и запер дверь на оба замка. Прислушался – тихо. Весь вечер было тихо, редко только какой-то слабый звук – не то плач, не то смех – казалось, всё же проникал из-за стены. В тот вечер Гурий на двор не выходил – использовал ведро, как он среди ночи это делал. Когда рассвело, вынес ведро, осмотрел площадку перед соседним крыльцом и ничего особенного не заметил. Даже окурков не валялось. Уж не почудилось ли вчера?
Спросил у Гали. Она обещала узнать у сведущих людей. Дня через три сказала: прежде тут малина воровская была, а теперь уж лет семь как прекратилась, а только стали наезжать какие-то, не поймёшь, но вроде не блатные. Говорят, наркоманы – из Зеленодольска, а то и из Казани. Точно Галины информаторы не знали. Ну не шумят, и то хорошо. Как-то, подходя к калитке опять в сумерки, вновь увидал у крыльца эти малоподвижные силуэты. Сильно испугаться не успел – заметил среди фигур участкового Федю. Молодой парень – недавно его поменяли на прежнего – заходил как-то насчёт прописки уточнить, когда-де Гурий собирается её оформить. Ну ещё о том о сём поговорили немного. Понравился ему Федя – вежливый, не чинится, не грозится.
– Валил бы ты отсюда, – услышал Гурий, подходя к калитке.
Голос явно принадлежал не Феде.
– Вон дед пришёл, к нему иди и разнюхивай, что тебе надо, – работай.
Раздался чей-то одобряющий эти слова смешок.
– Эх, запереть бы вас и спалить всех разом, да вот деда жалко, а то бы сегодня же спалил! – Федя почти кричал отчаянно и зло. Потом резко развернулся и зашагал прочь.
– Вали, вали, ментяра, – негромко и почти безразлично раздалось ему вслед.
Гурий поспешно вошёл к себе.
Вечером было тихо. Гурий раздумывал за чаем, что вот и тут он ничего не понимает: как же это так – какие-то неизвестные взяли и вот так просто прогнали милиционера? А может быть, наоборот, хорошо известные? Милиции, Феде известные? Иначе чего бы он их послушался против своей воли?..
Поделился своими раздумьями с Галей. Гурий теперь всё чаще с ней обсуждал при встречах самое разное, что его волновало. Сроднился за время, что квартировал у неё, и особенно – в ходе всех хлопот, что она на себя взяла. Галя сказала:
– Бросьте вы, дядя Гурий, об этом думать. Они вам что, сильно мешают? Сами мне говорили, что тихие. И Федя вам не мешает. Вот продадим участок, оттуда выпишетесь, сюда пропишетесь – вы с ним и вовсе задружитесь. А там они меж собой пусть сами разбираются, я имею в виду Федино начальство и этих, у кого ваши соседи дурь покупают. Не берите в голову.
Вот и объяснила. Но как-то поверить в такое не хотелось, хотя ничем другим не объяснишь. Не сходится.
В феврале сообщили, что умер Андропов. Лёха, как и год с лишним назад, пришёл с бутылкой и колбасой толковать про Никанорова. Вскоре объявили опять, как в тот раз, до похорон, что Черненко. Иван Спиридонович, повстречавшись на улице, горестно махнул рукой:
– Только-только порядок наметился – и вот опять!
Гурий Прокофьевич покивал вежливо, хотя и не наблюдал, чтобы за год какой-то особенный порядок наметился. На том и разошлись с Иваном Спиридоновичем – каждый своим путём дальше зашагал.
Когда Андропова хоронили, Черненко с мавзолея на всю страну сказал:
– Шапки можно не снимать.
Не успели микрофоны отключить на этих словах. Да и кто мог предвидеть, что он такое скажет? Понятно, с заботой о товарищах сказал – старенькие они в большинстве, а на мавзолее дует наверняка. Февраль как-никак. Простудиться – пару пустяков. Вон Клемент Готвальд у Сталина на похоронах даже в марте простудился. Помер вскоре. Но всё равно слова про шапки резанули неприятно…
К лету жизнь на новом месте потихоньку вернулась в прежнюю колею. Постепенно приобрёл утраченный после пожара житейский скарб. Опять Галя сильно помогла. Правда, пришлось ещё одну горошину для этого отрыть. Гале он объяснил что-то вроде того, что на колечко Дуней была припасена, те две – на серёжки, а эта – на колечко. Шила-то Дуня много, считай, весь посёлок обшивала. И Галю в том числе. Вот удалось скопить. Галя ничего не сказала, видом показала, что поверила, и через неделю явилась с деньгами. На них – сколько принесла – и рассчитали вместе, что да что приобрести первым делом, а что можно и потом. Понемногу она всё и прикупила. Кой за чем даже в Казань ездила. За подушками, например, – в Зеленодольске было не купить. В общем, без неё тяжело бы пришлось…
А осенью Гурий занемог. Сначала почувствовал, что уставать стал не в пример прежнему. Старался не обращать внимания. Да как тут не обратить, если невмочь даже простейшее дело сделать? К зиме боли в животе пошли. Сильные временами: кричать хотелось. Галя позвала врача. Та, благо много лет с Галей проработала, внимательно отнеслась: долго слушала и спереди, и со спины, прощупывала живот, назначила анализы и рентген…
Галя пришла после работы, поставила чай, таблетку дала обезболивающую и, когда сели за стол, за чаем уже, сказала, чуть отводя взгляд:
– Елизавета Аркадьевна по анализам и рентгену диагноз вам, дядя Гурий, поставила. Нехороший, хотя, говорит, может ещё уточниться к лучшему. Дополнительные анализы надо взять. А пока она думает, что рак у вас. Я решила вам сказать: лучше вам знать, в любом случае. Я много за раковыми ухаживала, вы знаете. Вот и за Евдокией Фёдоровной тоже, покойной. Но там вы рядом были до конца. Я только с уколами приходила да с добрым словом – как уж умела. А у нас с вами по-другому. Сестра ваша ведь к вам не приедет, хоть она, вы говорили, и врач у вас. По всему понятно, что не сможет. И годы не те, и условий ей тут нет. Да и вы на это не пойдёте, чтобы её так обременить. Я же понимаю. Надо, дядя Гурий, реально на вещи смотреть.
Он посмотрел на всё реально. На следующий вечер заглянул к Гале и сказал, что оставляет ей эти пол-избы и тот участок с сараем и банькой, и всё, что внутри, а её просит за это ухаживать за ним до самого конца и схоронить. Галя согласилась. Про баночку из-под горчицы Гурий ей не сказал.
Новые анализы подтвердили начальный диагноз. Гурий всё больше лежал, всё чаще пил обезболивающие. К январю таблетки заменили на уколы. Галя часто заглядывала сама, организовала сиделок – трёх нянек из поликлиники. Сидели возле Гурия посменно круглые сутки.
Гурий писал Груне, что немного хворает, но приезжать пока не нужно – Галя ухаживает заботливо, профессионально. Денег хватает, а к лету, дескать, посмотрим…
Похоронили Гурия Прокофьевича на укосе. Так вышло, что за несколько дней до смерти Гале удалось выписать его с прежнего адреса, а прописать по новому – не успели. Эльдар сказал, что без постоянной прописки «на ровном» нельзя – строго-настрого. И запросил пятьсот рублей. У Гали столько не было, во всяком случае, она Эльдару не дала. Верблюд вырыл могилу между двумя свежими – с фанерками «Е-741» и «Ж-88». Лёха пообещал Саше, что, если тот пришлёт ему бандеролью пластинку из нержавейки, он выгравирует на ней, что полагается, и установит. На поминках Иван Спиридонович сказал тост, что если бы все прожили такую жизнь, как Гурий Прокофьевич, то у нас давно установился бы настоящий порядок, а не вот это вот, – он широко повёл рукой с зажатой в ней рюмкой, едва не расплескав. Несколько соседей-наркоманов постучались в дверь и попросились помянуть «деда». Им налили, они молча выпили и ушли. Участковый Федя был тут же и выпил с ними, как и все.
Саша, когда они с Володей стали собираться на московский поезд, отозвал из-за стола Галю в сторонку и сказал ей, где надо копать в сарае.
1995; 2022
Северные рассказы
Гуси
Мите
Не то чтобы мы были очень голодны. Нет, поесть хватало. И взятого с собой в рюкзаки из города, и подножного, таёжного: грибы, рыба, ягода, в конце концов. Вот ягода, наверное, и не давала Греду покоя. Её под ногами была тьма, а он битый месяц перед нашим отпуском при первой возможности потчевал меня перспективой запечённого на костре гуся, под завязку набитого брусникой. В худшем случае – утки. А в лучшем – глухаря. Взгляд Греда по мере озвучивания этой мечты становился безумным и радостным, одним словом, блаженным.
Утки попадались, но пока это были скорее утята, едва вставшие на крыло. Однажды Гред подстрелил двоих, по-детски неосторожно выпорхнувших из прибрежных зарослей. Нам с трудом удалось собрать то, что осталось от нежных телец после влетевшей в них дроби. Гред с тщанием старателя выбрал из этого всё, что посчитал съедобным, и закинул в варившийся суп. Гороховый, кажется, концентрат из пакетиков. Помню, никакого дополнительного качества это действие супу не придало.
Глухарь, как это ни покажется странным, встречался даже чаще уток. Он вдруг бесшумно отделялся от кроны замшелой и по-северному пожухлой ели и в высшей степени не спеша перемещался каким-то инопланетным шаром в направлении другой – такой же полумёртвой, шагах в пятнадцати-двадцати поодаль. Времени вскинуть ружьё и прицелиться, как казалось, должно было хватить с избытком. Но всякий раз глухарь успевал исчезнуть в ветвях на миг, прежде чем оказывался в прицеле. Вроде можно было бы и выстрелить наудачу в то место, куда он только что скрылся. Но странное дело: палец будто сам отказывался нажимать на курок, точно вторя своим бездействием непреодолимому ощущению глаз, не просто потерявших из виду мишень, но и напрочь позабывших, что она существовала. Пусть даже всего какое-то неисчислимо краткое мгновение назад.
А брусники было неправдоподобно много. Мы варили из неё компот, добавляли гарниром практически ко всем незамысловатым блюдам походного рациона, просто паслись иногда в её зарослях, простиравшихся, казалось (а скорее всего, так и было), на сотни вёрст окрест нашей стоянки. Такая неисчерпаемость брусничных запасов обостряла и без того болезненную мысль Греда о гусе. Трудно гадать теперь, каково могло быть течение этого недуга, но как-то под утро я был разбужен жарким шёпотом моего друга, оглашенно повторявшего только одно слово. И слово было «гусь». Точнее – гуси. Ещё точнее (когда я окончательно пробудился) – два гуся. Вскоре я уже пришёл в разум настолько, что сумел осознать всю предысторию происходящего.
Греду не спалось. Он прилёг возле тлеющих угольков нашего кострища на берегу вытянувшегося на добрых полкилометра озера и напряжённо размышлял, не стоит ли наполнить брусникой полуведёрный котелок, чтобы таким заклинательным способом явить-таки нашим взорам гуся, очевидно находящегося где-то неподалёку, но почему-то до сих пор не пожелавшего обнаружить своего присутствия. Всё более укрепляясь в этом намерении, Гред решил, пока суть да дело, вымыть этот самый котелок, валявшийся на траве после вчерашнего ужина, для чего надо было сделать пять шагов к воде в сумерках отступающей под неумолимым натиском утра короткой северной ночи. И вот, когда он уже принялся оттирать прибрежным песком пригоревший котелок, ему явились два гуся: они с поистине лебединой грацией медленно выплывали на Греда из озёрной дымки, готовой уже окончательно растаять под лучами восходившего на том берегу солнца.
С учётом нечеловеческого внутреннего напряжения, в котором пребывал мой друг предшествующие часы, в эту секунду от него можно было бы ожидать всего чего угодно. Но как это случается с натурами цельными, произошло то, что только и должно, и могло произойти: Гред бесшумно выпустил из рук котелок и гусиным шагом принялся отступать вглубь берега, имея в виду не спугнуть птиц, прежде чем он допятится до палатки, где, не считая моего спящего тела, лежала ещё и двустволка. Всё же волнение взяло вверх, и где-то шаге на третьем Гред развернулся спиной к озеру и оставшуюся дистанцию проделал уже не гусиными шажочками задом наперёд, а одним прыжком, сделавшим бы честь гепарду, а то и самомý саблезубому тигру. Когда же миг спустя выверенным движением Гред выхватил из палатки орудие столь желанного убийства и обратил его к воде, оказалось, что гуси успели развернуться несколько раньше и их силуэты были уже едва различимы в устилавшем поверхность озера тумане. Греду хватило сообразительности не спустить курок в сложившихся обстоятельствах. Возможно, сыграло роль и то, что родом он был с югов, и мысль о пяти-, максимум десятиградусной северной воде, в которой в случае удачного выстрела пришлось бы преодолеть столь изрядную дистанцию, сама по себе родила хладнокровие. Так или иначе, Гред положил ружьё и принялся горячо меня будить.
Когда он растормошил меня настолько, что я сумел высунуться из палатки и взглянуть в том направлении, куда непрерывно указывал его перст – при поддержке нечленораздельного словоизлияния, переходящего то в утробный свист, то в горловое бульканье, и сверкания покрасневших навыкате глаз, – гусей видно уже не было.
– Уплыли, – с облегчением объяснил я Греду и собрался было нырнуть обратно в палатку.
Ничего более неуместного произнести в тот момент было невозможно. Я спросонья не отдавал себе отчёта, какую рану я нанёс этим словом моему другу. Он окончательно потерял дар речи и лишь принялся часто-часто потрясать руками, стараясь при этом убить меня взглядом. Намерение выглядело столь выраженным и подлинным, что я, помню, даже взял двустволку и положил на место – поглубже в палатку.
Когда минут через десять Гред немного остыл, а я тем временем закончил умываться и возвратился к палатке, мне пришлось выслушать сначала всестороннюю оценку моих умственных способностей, а заодно и моральных качеств, после чего, без паузы, – план незамедлительных совместных действий.
Вкратце он состоял в следующем.
Я должен отправиться на тот конец озера и потревожить (спугнуть) гусей, которые, конечно, прохлаждаются именно там, ибо им просто негде больше пребывать. Гуси, испугавшись меня, должны двинуться обратно к нашей стоянке – точно так, как они сделали, испугавшись Греда, только в обратном, зеркально отражённом направлении. Гред должен поджидать их приплытия с двустволкой наперевес. Вечером у нас должен быть роскошный ужин (меню по умолчанию). Изложив, Гред даже не спросил «ну как?». Все, включая гусей, должны были немедля приступить к исполнению.
Признаться, мне давно хотелось осмотреть наше озерцо, не озабочиваясь на прогулке сбором грибов, высматриванием глухарей, поисками удобного места для рыбалки или сухостоя для костра. Просто пройтись вдоль берега – возможно, даже обойти озеро кругом. Поэтому я не стал задавать Греду простых, но от этого не менее каверзных вопросов вроде «а что, если гуси плавают посередине озера?» или «а что, если они, завидев меня, и не подумают пугаться, а продолжат водные процедуры на том конце озера прямо у меня под носом, невзирая на все мои старания направить их на убой в сторону Греда?» Потому я молча поднял до паха голенища болотных сапог – мой путь, скорее всего, обещал быть топким, взял в руки крепкую можжевеловую клюку и, пожелав Греду не промахнуться и при этом не угодить шальной дробью в меня, благо я могу в тот момент уже оказаться на подходе к стоянке, отправился на выполнение очевидно невыполнимого, как мне казалось, задания. Всё-таки мы в отпуске, думал я, а в отпуске полагается отдыхать, а не критиковать друга за его утопии.
Случалось ли вам ступать по болотам так называемой европейской части России? Если нет, то поверьте, что от Вислы до Лиссабона навряд ли найдётся хоть один гражданин, который, будучи перенесённым на поистине богоспасаемую в веках почву наших топей, согласится по доброй воле признать, что он находится в европейской части чего бы то ни было. Но это их трудности, а коль скоро родину, увы, не выбирают (а мы, русские, особенно), то надо стараться получить елико возможно наслаждения, прогуливаясь по любой её части, в том числе и европейской.
Похоже, мы с Гредом исходили именно из этого напросившегося из жизни вывода. И потом, скажите на милость: разве хоть где-то от Вислы до Лиссабона возможно за полчаса насобирать полуведёрный котелок брусники? Не думаю. Я уж не говорю о глухарях!
Лес в тех местах, куда мы забрались, непривычен глазу уроженца средней полосы: ни дубов, ни клёнов, ни орешника, не говоря уже о липах и вязах. Только замшелые, точно заплесневевшие, ели да чахлые осинки с берёзками и низкорослые заросли ольхи. Ботаники, я слышал, определяют такие леса как угнетённые. Я бы назвал их скорее угнетающими.
Очень интересна их способность заставить вас усомниться в здравости собственного рассудка. Я хорошо запомнил, как мне пришлось столкнуться с этим испытанием уже на первом нашем привале. Отошедши в поисках дров шагов не более пятидесяти, я вдруг с пронзительной отчётливостью осознал, что полностью потерял ориентацию. Надежда, обернувшись, разглядеть сложенные на землю рюкзаки сквозь весьма редко стоявшие деревца оказалась тщетной. Зов, адресованный Греду, словно растаял в воздухе, не успев отлететь и на метр. Я крикнул громче – короткий смешок сойки с ближайшей ели был мне ответом. Вновь повисла ватная тишина, приправленная болотным туманом, тут и там поднимавшимся между стволов. Захотелось побежать – всё равно куда. Я всё же взял себя в руки, пытаясь каким-то образом угадать направление к нашему ещё не разбитому лагерю – к рюкзакам. Я отёр лоб и обнаружил, что ладонь сплошь покрыта кровью: за первый день пути мы уже научились не чувствовать укусов комаров, что, впрочем, никак не повлияло на их аппетит. Это потом мы поймём, что репелленты хоть и крайне вредно действуют на кожу шеи и лица (особенно на марше с 50-килограммовыми рюкзаками), но уж лучше забитые токсичным зельем поры, чем постоянно извлекаемая из них мириадами комариных хоботов наша кровушка. А в тот миг стремительно и мощно наступавшей паники у меня не было никаких средств химзащиты – они остались в рюкзаке, и в ближайшем будущем я был обречён на трудно прогнозируемую потерю крови, весьма обильно и зримо окрашивавшей ладони и, как я догадывался, лицо, что, конечно, не добавляло ни подъёма настроения, ни крепости рассудка.
Что до рассудка, то главная угроза его утраты исходила всё же не от кровососов, а от накрепко захватившей его мысли об абсолютной невозможности вернуться к рюкзакам, хоть когда-нибудь увидеть Греда, поужинать, наконец. Воспоминания о былых заблуждениях в подмосковных лесах не помогали: там, идучи в любом направлении, вскоре наверняка выйдешь либо к людям, либо на дорогу. Здесь это было далеко не очевидно, скорее наоборот. Здесь надо было избрать единственно верный, спасительный азимут: все остальные были смертельными. Чуть утешало точное знание: до рюкзаков не больше пятидесяти метров. Но в какую сторону? Я снова крикнул что было лёгких. Вновь мой голос утонул на расстоянии вытянутой руки, но на сей раз сойка уже не удостоила меня ответом. Хорошо ещё, что ночи в эту пору здесь светлые – только и подумалось мне сквозь отчаяние.
И тут я почувствовал запах дыма, невесть каким ветром преподнесённый моему обонянию в качестве волшебного дара, утверждающего надежду на скорое спасение! Ну конечно: это Гред разжёг костёр! Волглый болотный сухостой задымил, прежде чем как следует разгореться, и дым медленно стал расстилаться по плоскости болота – просто за счёт диффузии, а никак не перемещением воздушных масс, которого здесь, похоже, сроду не наблюдалось. Оставалось только разобраться, с какой стороны подкралось это сказочное благовоние.
Я вытянул собранные ниже коленей голенища болотных сапог на всю высоту и опустился на четвереньки, принюхиваясь попеременно то в одну, то в другую сторону. Должно быть, в этот момент я представлял пугающее зрелище: если это зверь, то зачем он выломал наоборот суставы на задних лапах? Если прямоходящее, то зачем оно припадает лицом к земле? Не из жажды же. Это как надо взалкать, чтобы пить прямо из болота! Так опуститься! (Ох уж это взращённое на чтении книг прекраснодушие!)
Наконец мне показалось, что я определил нужное направление. Поднявшись на ноги, я пошёл, стараясь уследить за одинаковостью своих шагов, дабы не закруглить траекторию моего хода, поскольку других средств избежать этого – солнца на небе, или малейшей возвышенности на горизонте, или хотя бы высокого дерева – не было: сплошное низколесье угнетённо-угнетающей болотной тайги под почти плоским однородно сумеречным небосводом.
Костерок появился вдруг: он уже не дымил, а, видно, недавно разгоревшись, бодренькими оранжевыми язычками то здесь, то там вытягивался вверх, слабо потрескивая в такт всякому новому усилению взвивающегося пламени. Верно, я так возрадовался этому зрелищу, что не сразу осознал: наших рюкзаков ведь нигде не видно, не говоря уже о Греде. Огонь был тревожаще одинок. И тут возник ненец. Я и сейчас не могу с уверенностью сказать, сидел ли он перед костром в момент моего пришествия или вырос из-под земли мгновение спустя. Он как-то сразу именно возник в моём поле зрения: глухая малица с пыжиковым капюшоном, трубка в руке, взгляд, поглощённый игрой огня, на ногах пимы. Пока я, остолбенев, разглядывал его издали, он ни разу не поднял на меня глаз, продолжая словно в задумчивости изредка попыхивать своей трубочкой. И лишь когда я, справившись с оцепенением, сделал несколько неуверенных шагов в его сторону, он, всё так же сидя на корточках, поднял ко мне своё безбородое в глубоких складках загорелое лицо и отвёл от него руку с трубкой.
Я поздоровался. Он ответил мне по-ненецки и жестом пригласил устраиваться напротив него. Я присел на корточки с другой стороны костра.
Некоторое время мы сидели молча.
– Гуляешь тайга хорошо?
Я, признаться, озадачился: спроси меня кто, что мы делаем в тайге, среди первых пяти слов, пришедших мне в голову для ответа, навряд ли нашлось бы «гуляем». Но ненец, похоже, спрашивал о другом: хорошо ли по тайге гулять? И я после короткой заминки кивнул:
– Хорошо.
«А чем плохо?» – попытался я мысленно оправдать очевидную долю своего лицемерия.
– Болото топчешь хорошо? – лицо ненца в морщинах-трещинах при этом никак не пыталось выражением подсказать мне правильный ответ.
– Когда как, – уклончиво ответил я и попытался как можно более примиряюще улыбнуться.
– Хорошо, хорошо, – он тоже чуть улыбнулся мне одними глазами, отчего морщины вокруг них стали ещё глубже. – Ненэч молодой был, Москва на выставка олень возил. Москва гулял, асфальт топтал. Москва гулял – заблудил – не знаю Дом колхозника назад идти. Милиционер спросил, он дорогу показал. Китайский народ – братья сказал, помогать надо. Хороший человек. Больше Москва ненэч не видел.
Я знал, что «ненэч» – это человек, ненцы часто так называют себя в третьем лице. А «человек» – это другой, не ненец. Вот принявший его за китайца московский милиционер, к примеру. Хороший, но не ненец. Был бы ненец, про него следовало бы сказать: «ненэй ненэч» – «настоящий человек». А так – просто хороший: не арестовал, дорогу показал, к китайскому народу братски относится. Всё это успело пронестись в моей голове, прежде чем я зачем-то уточнил:
– Асфальт топтать хорошо?
– Много нет, а один раз хорошо. Когда молодой, надо один раз, – убеждённо ответил мой визави. Потом, помолчав и пососав трубку, спросил: – Тайга гулял заблудил – не знаешь назад идти?
Прежде чем ответить, я заметил, что на лице ненца нет ни единого комара. Я провёл ладонью по щеке – тоже нет, по лбу – нет. Вспомнил, что читал про индейцев Южной Америки: москиты их не едят. Ну хорошо: это в конце концов сфера комаро-ненецких и москито-индейских отношений. Но меня-то почему перестали кусать? В какой-то момент начали принимать за ненца? Принял же тот милиционер по ошибке моего собеседника за китайца. Я кивнул.
– Собака иди. Сойка кричать – дальше собака не ходи, право ходи: скоро друг твой видеть.
Откуда-то из-за ненца вышел крепко сбитый тёмно-коричневый барбос с умным лицом и смахнул лапой с чёрного кожистого носа двух здоровенных присосавшихся было к нему комаров. Ненец что-то кратко объяснил собаке, и та, повиливая хвостом, не спеша двинулась прочь от костра, через каждые два-три шага оглядываясь на меня. Опасаясь, как бы она не передумала быть моим шерпом, я поспешно поднялся и поблагодарил ненца, хотя, признаться, не очень поверил в столь странный алгоритм навигации: откуда ненцу знать, в каком месте мы наткнёмся на сойку? Да уж, если на то пошло, мог бы сказать своей собаке, чтобы напрямую вывела меня к Греду – по гипотенузе, чем катеты вышагивать.
Ненец словно услышал мои мысли и, всё так же задумчиво глядя в костёр, произнёс:
– Прямо твой друг не дойдёшь, прямо Нга твоя ждёт: вниз твоя тащить ждёт. Собака иди – собака Нум служить. Нум собака приказал ходить, Нум сойка приказал кричать.
Потом я узнáю, что Нум – это главный бог ненцев, который, в частности, управляет всяким природным объектом – озером, рекой, рощей – через духа-хозяина, способного воплощаться в то или иное животное или птицу, а Нга – повелитель подземного мира, источник и покровитель всех зол. Но тогда я понятия не имел, про кого говорит ненец, а лишь запомнил произнесённые им эти короткие имена. Ещё раз сказав ему спасибо, я отправился вслед за собакой, которая всем своим видом выражала недоумение, отчего я медлю.
Сойка трескуче вскрикнула над нами через сотню шагов. Я обернулся, но не увидел ни костра, ни ненца. Собака с шага перешла на мощные прыжки и быстро удалялась от меня вглубь таёжного редколесья. Я взял вправо и шагов через сорок увидел Греда, разжигавшего костёр. Он был так увлечён этим делом, что не выказал никакого удивления, где это я так долго пропадал. Думаю, он предвкушал скорый ужин, а это ощущение, я знал, выводило моего друга за пределы обычного пространственно-временнóго мировосприятия. Возможно, по этой причине я решил не рассказывать ему о своём приключении.
Итак, вооружённый палкой из ствола можжевельника, на одном конце которой обрубок ветви торчал так, что вполне мог сойти за рукоять трости или, на худой конец, клюки, я двинулся вдоль берега озера, стараясь держаться от него несколько поодаль, дабы не увязать на каждом шагу по колено в торфяной жиже, но и не слишком отдаляясь, чтобы держать в поле зрения водную гладь, на которой, по мысли Греда, мне вскоре предстояло увидеть гусей.
Тем временем солнце приподнялось настолько, что сладковатый аромат багульника выполз из его бесчисленных остреньких листочков и теперь щедро разливался над болотом, дурманя голову. Вперемежку с багульником за ноги то и дело цеплялся его близкий родственник по семейству вересковых – болотный мирт, почему-то называемый также кассандрой. Его кожистые, как и у багульника, листья были, однако, покрупнее, но зато не столь расточительны в распространении дурмана: они его не испаряли, а напротив, таили в себе. В тех местах, где кассандра доступна овцам, говорят, среди наиболее неумеренных в еде случаются даже летальные исходы. Возможно, та же участь нет-нет да и постигала и некоторых незадачливых протоскандинавов, изготовлявших из болотного мирта так называемый нордический грог. К сожалению, современные скандинавы, сообщившие миру об этом напитке в «Датском археологическом журнале», не привели в своей статье статистику смертности. По-видимому, потому, что не знали, от какой общей численности поголовья угостившихся настойкой из кассандры следует исчислять процент отдавших богу душу.
Среди подножной флоры глаз отмечал изредка розовевшие недозрелыми бочками шарики клюквы да торчавшие ввысь бледные от избытка воды редкие осочины. Изрядно было грибов – от вполне среднерусских подосиновиков до множества каких-то незнакомых или просто настолько невзрачных, что они не припоминались из прогулок по подмосковным лесам, а здесь, встречаясь, почему-то настоятельно бросались в глаза. Всё это располагалось на сплошном мшаном ковре, пружинящем под сапогами, с лёгким чавканьем выделявшем в ответ на каждый шаг лужицу чуть пузырящейся мутной влаги. Справа от меня, в сторону от озера метрах в тридцати, видно, становилось посуше, о чём свидетельствовали красные пятна брусничных кустиков, всё гуще окрашивавших почву по мере удаления от берега. А ещё дальше еле заметно глазу местность приподнималась до невысокой гряды, по гребню которой цепочкой росли лиственницы – дерево здесь редкое и, должно быть, оттого особенно красивое на фоне остального угнетённого леса.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.