Текст книги "Саваоф. Книга 1"
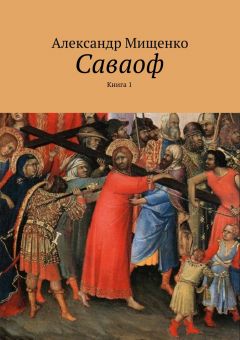
Автор книги: Александр Мищенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Мгла неразделенного одиночества подъедала, как ржа, самого Саваофа, и его жилище, прошлое их жизней, ставших теперь слитными в прозябании, разрушало само себя в меланхолической красоте разрушения, затягивало так или иначе упорядоченного по своему некогда времени их паутиной забвения.
Саваоф причесывает волосы, разграбливая, как казалось ему, пятерню негнущихся пальцев, и вновь продолжает горестную свою речь:
– Один я среди стен, как травинка. Три, семь раз в день поплачу. Они со мной, Сеня, не разговаривают, онемело все в доме моем. Я плачу, как Иремия, и из-за тебя матря твоя плачет каждый день. Я-то вижу все со своей лавочки. Надо жить и радоваться такому молодому человеку, а ты один. Мучает, испытывает тебя судьба. Какую имеешь радость в жизни своей? Или ты сыграл песню, или с дитем порадовался.
Сеня с кряком вздыхает и ерзает на табуретке.
– Тяпнем, дед!
– Тяпнем, милок.
Крякнул после рюмки Сеня, скользом руки губы утер и сказал:
– Не понимает меня жена, вот и ушла.
– У ней сердце к тебе охладело. Ее господь бог вперед тебя покарает за это.
Саваоф еще налил.
– Ты, дед, все подливаешь и подливаешь, – сказал молодой сосед.
– А ты, Сеньк, все выпиваешь и выпиваешь, – ответил дед с веселинкой. Как сваты в анекдоте оба они иль герои из крыловской басни: ведь подчивал сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыха, ни сроку. Хотя сколько можно, прощаться давно пора. У Чехова в записной книжке есть веселка-замета о таком: «И от радости, что гости наконец уходят, хозяйка сказала: Вы бы еще посидели».
Сеня сидит мрачный, насупистый.
Участливый к людям, а к родным с детства таловцам тем более, Никита молвит лишь мысленно про себя: «Эх, жизнь жистянка. У всех свои беды. Но у нас на Северах все ж веселей. Энергии больше бодрящей».
– Был я дома вчера, – говорит Сеня, – дочь притулилась ко мне и жмется, глаза у нее стонут. Была тут у моего Сени приговорка: блин. Имеет она место быть, как говорится, в жизни. Прочел роман-эпопею «Самотлорский Спартак» в рукописи не в последней редакции философ наш Федор Андреевич Селиванов и устыдил меня: во какую культуру будет нести в массы писатель Мищенко. Меня в жар бросило после этих его слов, и постарался я вымарать все эти «блин» из текста. Публично приношу самую искреннюю благодарность Селиванову за своевременную, блин, подсказку. Последний рецидивный всплеск со злополучным лексическим сорняком. И сыну и внуку закажу теперь на будущее, чтобы избегали подобных «блинов». А Федора Андреевича в отдарок за редакторскую помощь свожу в блинную. Там и гора блинов, да с маслицем, с медом, с вареньями разными будет кстати.
– Вернется твоя сударушка, поклонится, – успокаивает Саваоф молодого соседа. – Она себя понимает сильно. Я, мол, писариха, а он пашет и навоз возит. Ты шею подставил – залюбила она тебя, и они все на тебе катались. Такое хозяйство держать, коров трех, овечек и коз! Приймак – что батрак. Батрачье ж дело хуже, чем телячье. Того худая будь корова, а лизнет. Черен хлеб батрака. Веником ты у них состоял, Сеня. Ты думаешь, что я сижу тут на лавочке один и ничего не вижу? У меня глаза не повылазили. Я за два километра наскрозь все вижу. Воспротивился ты жизни такой – и разлад в семье наступил. Ты еще и сам пока не разберешься в себе, как не разобралась моя Настенька. Душа взбунтовалась – до головы когда дойдет… Ушел ты от тестя. Вырвал жену на самостоятельную жизню, а в голове у ней мысли старые еще живут.
Старик выворачивает душу Сени наизнанку, мнет ее так, как мнут и дубят кожи.
– Локотки еще будет глодать, но поздно, будет, – отзывается застуженным от горя басом Сеня. – Тяпнем, дед!
Оба горемыки выпивают с кряками. Саваоф, пожевав хлеба, вытирает губы.
– Жить надо, – рассудительно говорит он. – Жена блюди мужа, будь женою ему и матрью, а муж жену сохранять должен, пока даеть ему господь жизень. Астров. Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг (Из «Дяди Вани» Чехова).
Самое последнее дело по чужемужним женам шалаться, как кобелю-пустобреху. Праздного бес качает.
Старик повел рукой, словно отодвигая от себя незримую нечистую силу.
– Вторая жена не жена. Чада бросить и по сударкам ходить – не дело. Вон Шалыгин дурак четвертую взял, детей порассеял – что это? Мотовство. Смолоду кривулина – под старость кокора, вот мой сказ. Что из злаков вырастет этих? Дети злаками добрыми должны расти, а не сорняками. Нет, не будет жизни твоей жинке, и тебе – нет. К тебе быстро прилипнут, дорогой мой. Нужда заставит жениться, жизня возьмет свое. Пипирка не без чувствия.
Сеня рывком, сорвав пуговицу, расстегивает ворот рубахи.
– Душно здесь, дед, выйдем на крыльцо.
Наружи все так же безжалостно палит солнце, земля дышит сухим жаром. Светило будто вздумало прокалить кирпичи жизни для прочности, и в таком жару пребывала и душа Сени. Воспаленно он жил и просвета не видел в будущем. Бессилен был кто-либо помочь ему в чем-то.
Саваоф глядит из-под руки на солнце.
– Как жгет стерва. По улице пойдешь, так ноги гудут и гудут…
И с так сказал он это, что Никита жар пламени в словах его даже почувствовал. Саваоф, может, и жары всего тысячелетия на Русской земле вспомнил: слухом же полнится и полнилась она всегда, на бедствия народные память у людей не коротка. А было на земле нашей за тыщу лет все, как беспристрасно записывали летописцы: «Сухмень велика и знойно добре», «Жары вельми тяжкие», «Изгараше земля», «Сухмень бысть», «Боры и болота згораху», «Сухмень и зной велик и воздух курящеся и земля горяше». От дыма «много дней солнца и звезд не было видно». В период «бездождия» в начале Х11 века почти дотла сгорают Киев, Новгород, Чернигов, Смоленск, что фиксировалось в «Повести временных лет». Американские ученые утверждают, что выяснили истинную причину исчезновения цивилизации майя. В их гибели виновны климатические перемены на Земле, которые и вызвали катастрофическую засуху. В 5—7 вв. н.э. в Центральной Америке было благоденствие из-за большого количества осадков. Аграрная цивилизация майя быстро развивалась, однако затем, до 11 в. н.э. климат резко сменился на засушливый, и зависимые от погоды города майя пришли в упадок. Урожай резко снизился, что повлекло за собой голод и резкое сокращение числа жителей. Все это привело к социальной раздробленности, междоусобной вражде и обострению разных религиозных течений. А период самой сильной засухи пришелся на время между 1020 и 1100 годами нашей эры. К этому времени демографический и экономический кризис цивилизации достиг апогея, аристократия стала резко терять власть, а люди уходили с обжитых территорий, оставляя ее диким зверям… Итогом стал закат некогда мощной цивилизации. Итожно можно сказать, что цивилицацию майя убила засуха. Неурожай, вызванный засухой в начале ХУ века, которая сменилась проливными дождями принес такие беды на Русь, о каких новгородский летописец горестно восклицал: «И како могу сказати ту беду страшную и грозною, бывшую в весь мор, како туга живым по мертвых, тем же едва успеваху, живни мертвых опрятывати, на всяк день умераху только, яко не успеваху погребати их, а дворов много затвориша без люди». Свежая засуха, в 1839 году в Заволжье: «Ветры дули и обливали жаром», «Собаки, волки и другие животные выли от жары».
Саваоф с Сеней присаживаются под тень забора на лавочке. Никита, сославшись на язвенные боли в желудке, чтоб не принуждали его на выпивку, устраивается на траве рядом и достает из заднего кармана брюк подаренный ему поэтом-буровиком Виктором Козловым томик Рембо. Раскрывает книжку, но ему не читается: внимание приковано к разговору двух горемык.
Старик отрывает полосу от газетки и скручивает, слюнявя, козью ножку.
– Дай-ка, дед, и мне махорочки, – оживляется Сеня.
Старик затягивается и глядит в какие-то ведомые ему дали. В глазах его появляется сизая, как струйка дыма от табака, наволочь.
– Ходил я на поле, – не поворачиваясь к Сене, – говорит он. – Пылью занесло пашеницу. Вот что ветра сделали. Сам ты был трактористом и знаешь, как пашут сейчас. Завернули по самый пуп лемех, пески мертвые наружу вывернули и ждут хлеба, глупцы, так иху растак.
– Для бурь песчаных самый раз это, – оживляется дед. – Почва закопана, солнца не видит. Мы-то без солнца блекнем. Земля – не рыжая. А вы почву закопали, как похоронили живое, и урожай ждете. Раньше на таловских песках по двадцать пудов ржи на круг брали, теперь – по десять с трудом наскребают. А ныне вобще все сгорит, хоть скот выгоняй на потраву хлебов. Ох, хо-хо!
Старик встряхивается, раскрывает ладонь и показывает Сене.
– Раньше на четыре пальчика пахали мы.
На Сеню словно напахнуло раздольем степи с серебряными ковылями, острым запахом изморосно-белой полыни, ворвались в его душу неумолчные хоры кузнечиков и звоны жаворонков. Вспомнилось ему, как в детстве шагал он тут цепью с ребятами постарше, Никитой и его сверстниками и со взрослыми полем цветущего картофеля и, шныряя между кустов, вылавливал, снимая с листа оранжевых колорадских жуков, маленьких таких полосатых полумячиков, как поставил тогда рекорд на облаве этой, как сказал полевод, что утерли мы нос Америке (оттуда же завезли колорадиков), как пел со взрослыми потом песню о колорадском жуке и о том, что «Трофим Лысенко думает о нем» (надо ж, и эта малява сработала на торсион взлета этого жука в отечественной науке), как познал впервые, может быть, празднично-возвышающую силу труда, светлые узы его, связующие людей в интернационал единого человеческого братства.
После службы на флоте Сеня женился и согласился уйти в приймаки к новым родственникам, в клетях на базу которых хрюкала, визжала и мычала всякая живность (по-нонешнему хорошая миниферма или ИЧП). Любуясь скотинкой и садом, большим подворьем, тесть говорил ему: «Умрем – все ваше будет». Сколько молодого народу, клюнув на эту сакраментальную фразу, сломало свои судьбы, неисчислимо, наверное!
Говорил тесть в общем-то жизненно и всю-то свою речь он строил из обычных, казалось бы, каменьев быта, не было в них ничего порочного. Неровности камней, однако, образовывали при соединении, накладываясь одна на другую, такую симметрию какая живет в лицах покойников, когда возлежат они в гробу по ритуалу в похоронный день, по которой дома превращаются вдруг в остроги, и тогда только приходило понимание, что камни надо внимательно различать, когда берешься за стройку.
В доме тестя по-бычьи работали, так же по-бычьи и пили: гулянки с могучими возлияниями и обильной снедью олицетворяли достаток (ментальность та еще!). Приймак-батрак работал на всю скотину, как тот жилистый хохол из присловья – на быка, поил, кормил ее, чистил хлева, косил сено. Получалось, как в том присловье: корми быка – он тебя прокормит. Держи, в общем, карман шире… О душе своей забывалось, и зарастала она грязью и копотью (ни дать, ни взять, классическая энтропия духа). Механик таловского откормочного совхоза (соседствовали тут вместях, как говорили в Таловке, колхоз и совхоз) пьянчугой был, опузырившем животом, и искал только случая, где рюмку сшибить. Агроном попал ни рыба, ни мясо, не умел постоять за свое. Предшественник его Ефим Копытка покоился на погосте, и можно было лишь вспоминать, как исправно и честно тянул он, копытясь, воз со своими агрономическими заботами и как коняга же, невзирая на ранги и должность, регалии разные, мог лягнуть копытом каждого, кто без раздумья совался в его службу, которую он исполнял так, как исполняют службу с думой о боге в церкви.
Без Копытки все пошло наперекосяк, раскопытилось, скажем, играя словом. Трактористы не раз высказывались, что мельче надо пахать. Но их одергивали. Ранжир инструкций: есть, мол, норма двадцать два сантиметра глубины зяблевспашки, и будьте добры, извольте, милейшие, ее соблюдать. В тресте откормсовхозов тоже не дураки сидят. По-нынешним размышлениям Сене подумалось бы, а где же тогда кучкуется эта орда дурачья, которая бритвенно срезала социализм со всем добрым в нем до бучи Перестройки, как не в недрах государственной бюрократической машины. Мое авторское бы подхлестнулось к мысли героя рассказываемого об одной из течимостей судеб людских в нашей жизни: монстру бюрократии не до нее было, отделился он уже от страны, от народа и пребывал в своем бесовском бытии самостоятельно, как система подобная галактике, выхолащивая человеческое, радости, страдания, чувства и эмоции до параграфа, инструкции, до галочки, до безжизненной буквы. Поэтому и боронили и культивировали поля тоже по дурацким инструкциям тех, кто полей не видывал и не нюхивал, живя в заасфальтированности городов, а видел лишь поля из бумаг, просторы которых в стране стали катастрофически множиться, и мог сдуру начать поливать асфальт в надежде, что на нем вырастут лилии. У поэтов и святых они, правда, могли вырасти. У этих же обалдуев бюрократии харь анафемских, коих по рылу видно, что не простых свиней свиненки, как мог бы назвать их не очень зло Сан Саныч Фридман, эти, о ком речь сейчас, ничего кроме чертополоха не вырастало и на нормальной-то земле.
«Мелем мы землю, никакой структуры почвы не остается, – возмутились механизаторы. – Зубной порошок один, пыль. Пройми-ка ее дождями. Вода свертывается и вглубь не идет. Столько ее набирается – хоть рыб запускай и выращивай их, выполняя Продовольственную программу».
«Есть указания свыше, из откормтреста – исполняйте», – одернули их. А есть еще установка весело провести новый год, как говаривал Бывалов в «Волге-Волге».
Тогда-то и взбунтовал Сеня.
«Языком зубы выхлестать можно, и все равно никому ничего не докажешь, уйду в город, – решил он, – там порядку больше, не клятый, не мятый, отработал восемь часов и король сам себе, захотел – кино тебе, телевизор смотри, хочешь – книжки читай, рыбку езжай ловить, Хопер рядышком, под кручей берега городья»
Сеня устроился трактористом в мехколонне, но случилось ему вскоре провожать в армию младшего брата, выпил он тогда на похмелье, сел за руль пьяный и повалил телеграфный столб, и не где-то, а перед окнами райкома партии. Отобрали права у Сени, и пришлось ему идти в такелажники.
В первый день понял Сеня новую свою службу, о которой с мрачной шуткой сказал:
– Служба КП – куда пошлют.
Народ в службе КП был из тех, кто от села отстал и к городу не пристал, любители выпить и подхалтурить. О каждом из таких только что и скажешь по-русски: ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Ни трезвь, ни пьянь, полведра выдудлит и ни в одном глазу. Ловушка жизненная, ни в коробе, ни в хомуте бюстгальтере, как сказали бы на молодежном сленге. И не мне говорить, вам об этом, читатели, сельские в особенности, не вам меня слушать: вам понятней ситуевина эта – врежусь тут чисто Авторски. Втягивался и Сеня в эту стихию. Он стал попивать, да круче с каждым днем все и круче и однажды застал свой жилой вагончик, в какой временно поселили его до ввода благоустроенного дома, пустым. Жена собрала вещи и уехала с детьми в Таловку. С этого времени и началась у Сени, как он определял позже, дикая, волчья жизнь, подобная той, какую вели серые в хоперских лесах. Не выдержав кошмарности своего существования Сеня перебрался к матери в Таловку и ездил в город на велосипеде.
А жизнь все туже и туже завязывала на его судьбе узел, и не простой, а морской, если говорить на былом его по матросской службе языке. Ватага такелажников, пользуясь бесконтрольностью, пустила налево машину первосортного кирпича из каких-то особых глин с преобладанием каолинита. Калым был дружно пропит. А коль это дело сошло с рук, ватага шуранула на сторону еще несколько машин кирпича.
После недели угарно-похмельных дней Сеня проснулся ночью однажды в змеино-холодном липком поту и, глядя в черноту ночи, с ужасом понял, что стал вором. Совесть, этот стоящий на страже интересов посол общества в человеке, счет предъявила, и пробудился, заструился в кровотоке вен Сени страх. На улицах, в центре, у присутственных мест, магазинчиков, расположенных в зданьицах бывших купеческих лавок, ему казалось, что люди глядят на него подозрительно, с мыслью, что вор он. Сеня ознобно ежился, ему мерещились милиционеры с красными околышами фуражек, по телу пульсировал холодок страха. А ментовский же народ такой, проницательные они, унюхливые, как собаки. Служащий в сыскном отделении приезжает домой в деревню; он в калошах, штаны на выпуск, родне его приятно, что он вышел в хорошие люди. Глядит на одного мужика и все беспокоится: «У него рубаха краденая!» Оказалось, верно (А. П. Чехов. Записная книжка). В таком встревоженном состоянии он и приехал домой.
Залечивала раны после войны страна, и все чаще стала приходить радость в новую семью дяди Ильи. Нет уже его самого на белом свете, рак вдобавок ко всем невзгодам доел его жизнь дончака и хоперца, что было для того едино. И говорила теперь баба Поля:
– Только и жить стали. А у тебя, сынок, радости как коровьим языком слизнуло. Хоть че ж не радоваться. Хлеб в магазинах и белый и черный, и сайки есть, и плюшки, каральки разные, и другие еще пундики.
Пундики бабы Поли являли собой конфеты, халву и другие сласти, всякую галантерею и вообще все, что выходило за рамки самого необходимого человеку, без чего не прожить.
Сене вспомнилось его детство. Дальний Восток зацепил он краешком своей жизни и мало помнил. Для него заря жизни занялась в хоперских краях, где царил в ту пору в природе «золотой век»: зайцы и лисы по деревням бегали, дрофы, как гуси, стадами бродили в травах, в реке водились голавли и подусты в руку и на медные пятаки даже клевали. Золотой век сонмы людских поколений смутил и смущал, и каждому человеку он живописался в воображении и мечтаниях, конечно, по-своему. Пленил меня Даль со сказкой своей о Роговольде. Чудесный сладкий остров. Пастила в лоточках на деревьях растет. Мед липецкий густым потоком клубится. Хрусталь сахарные его берега устилает. Квас малиновый рекой судоходной протекает. Калачи горячие московским паром своим воздух согревают. Мороженое аж тридцати пяти сортов (в моем богоспасаемом граде до этого еще не дотянули, в нашей Тюмени горазды на пельмени). На подносиках золотых девушки русокосые их разносят. «Не хочу и рая, – сказал Могучан, – буду здесь жить и умирать». Во как, хлеще рая бывает в веках золотых на чудных-то островах. Мать Сени, спустя не один год уже после расстрела мужа как «врага народа» вышла замуж в городе амурских угольщиков Райчихе. До этого была замужем второй раз, но муж новый на фронте погиб. Первый – от пули своей, советской, второй – от пули немецкой. Одна бедовала, пока муж сестры не вывез ее с детками в Райчиху. Тут и новый поворот случился в ее судьбе. С отчимом, веселым по натуре мужичком-живчиком Ильей детям ее повезло. Жена его попала под бомбежку где-то под Курском. Он же оказался на фронте в окружении и, пережив несколько страшных атак, вплоть до рукопашной, попал в плен. После фашистского плена бобылевал, будучи сосланным в город угольщиков. В скотском вагоне все Россию просек… Не мог рассказывать никогда о Майданеке, плакал всегда, выпив вина и развспоминавшись с другарем по плену Ваней Ватеечкиным. Осколком ему повредило глаз, вывернутый наружу красным исподом века, он вообще-то всегда слезился… Я лично как автор этого повествования прочувствованно думаю, что не выплакал бывший казачий сын с Хопра горе свое, принесенное ему войной, вот и сочилась у него вечно слеза. Так со стороны могло казаться хоть и на веселый его глаз. Влюбившись в хохлушку Полину, очень привязался к ее ребятишкам.
– Морозец прихватил землю однажды, – рассказывал Сеня Саваофу. – Отчим, папка наш ветку полынную сунул за шиворот мне: вставай, пастушок, мол, – а мы в шалаше жили, когда скотинку пасли. Костер развели, позавтрикали. Над рекой туман заклубился.
Волновало это все бесхитростную, как степь здешняя, Сенину душу.
– Белотальник засеребрился и осокорь, – продолжал он. – Как свечки в церкви, загорелись огоньки солнца в измороси на траве и листьях деревьев. И такой свет лился с неба, что глаза у Сени стали узкие, как щелки, как видится мне это из сибирского своего далека. Такие же они у Ирины-лисички, какую я вознамерился поселить в городке солнечников, когда нагрянули на мое сознание подобные Уэллсовским страницы об экспедиции в морозную страну одного из пятен на Солнце. Магия свечения глаз захватила меня недавно и в ТОИРе у Василия Петровича Федотова. Объявился У него на «рабфаке» его души, как я называю собирание молодых под свое крыло Федотовым, моряк из порта Ванино, который живет и в моей солдатской судьбе. Саша служил там в морской авиации. Родом из Юрги с почивающей в тутошних весях психбольницей, а по моему образному чувствованию из юргинского коммунизма в этой глуши о каком вспоминать и весело и печально. Так глаза у него – звездно сияют. «Досияют, Саша, – сказал я ему, что попадешь ко мне в роман: минералы-самоцветы и глаза всегда пленят меня…» Чудо прямо, а не утро! Я кнутом щелкаю: поднимайся, куцехвостое племя, кушать вам подано. Рядом зеленя были. Загнали мы коз на них, они и давай уписывать их. А корка земная не мнется, посеву не вредит стадо, еще лучше структура у почвы становится. Козы жирными, как коты, за неделю стали у нас.
Забывался в эти минуты рассказа своего Сеня в день, когда зазвал его Саваоф с Никитой помянуть дочь свою Настю, о тяжести, что давом давила его душу. Но кончались слова – власть переходила к другому его настрою. Как в Гражданскую случалось тут у него, но по-своему, естественно: на красную, как заря утренняя, песенную душу Сени наваливалась тоска зеленая. Но лучами света небесного, как сквозь кущи тальника, прорывалось в его сознание детское, то, что знал он больше со слов матери.
Впечаталась в сознание Сени щемящая его душу такая картинка. Мальчонка смотрит, давясь слюной, как маленькая девочка у хлебного магазина ест пончик с золотистой корочкой. Потом он с бурундучьей живостью следит, как она пьет самый сладостный в мире напиток – розовый морс, а у него слепляется все от жажды в горле. Сеня глядит на благоухающую будто майская кисть сирени в шелку своем женщину, стоящую рядом с девочкой и хочет крикнуть ей: «Ну, почему, тетя, вы не моя мама?» Он, маленький голодный зверек-эгоист забывает, что мама с опухшим и желтым от болезни лицом стоит рядом и у нее так же, как у него, кружится голова от голода и пересыхает в горле.
Рядом с ними в железнодорожной слободке жила тетя Нюра, и это новые уже картинки. Сеня помнил желтые сливы, которыми та угощала их. Мужа у нее убили на фронте в первые же дни войны. Она несколько месяцев держалась, потом в разгул, как на ножи, бросилась. Заплевали ее мужички – очнулась, встала, снова жить строго стала. Теперь она умерла и покоилась где-то на кладбище: мертвые не без могил. Се, равенство природных прав! (князь Долгорукий, Завещание). Память Сени же хранила те времена, когда связалась тетя Нюра с сектантами. Затащила однажды на моления Сеню с другими ребятишками. В доме Душкиных, а там собирались сектанты, велись разговоры о пламени геенном до неба и о том, что вся земля будет гореть, а люди – в котлах кипеть. Эти страсти напомнились Сене через много лет, когда позвал его в гости отпускник-северянин Никита Долганов, и отец его старый дед Петро проговорил как-то после телевизионного репортажа о боях на Ближнем Востоке:
– Не дай бог термоядерная война случится. Как плесканут баллистическими! Запылают земли и воды. Капиталисты полезут в бункеры. А нам ребятишек терять. Война вещь сурьезная. Война, война! Когда ж век золотой тот наступит, что забудем мы это мерзейшее слово, и радость и искательство разольются по весям планетным. Будущее не за воителями, вскормленными войной, а за созерцателями-натуралистами, артистическим человечеством. Касается ли это одного человека, маяка, или – коллектива. А это ж структура, они – разные: «песчаная россыпь» – ветер дунул, «мягкая глина» – внутренние связи, «мерцающий маяк» – я здесь, чтобы придти на помощь, и наконец, «алый парус» – символ устремленности, неуспокоенности. Это воспламененность на такую ярость свершений, которой в одиночку редко достигнешь. Истинно, кто не работает на завтра, тот слеп сегодня.
О ВОЙНЕ
Война – гигантский омут нигилизма. и даже демобилизованный с фронтов первой мировой войны Макс Эрнст /1891—1976 г.г./ ваяет полотно с акварелью «Битва рыб» после каковой остаются лишь голые хребты позвоночные. Появляется у него 8 литографий с двигающимися манекенами. Темами его становятся застывший космос – звезды, неподвижное море, города, леса минералов, окаменевшие цветы. «Неделя доброты» разрывает его нигилизм, но потом он сильнее еще овладевает художником, творения которого определяет приближающаяся новая уже мировая война. и парализованной кажется жизнь в этапном его полотне «Европа после дождя». Это подобие фантасмагорического леса из текучих каких-то людских тел и фигур. Лишь в 50-ых годах рассеиваться начинает, как туман под жарким солнцем, нигилизм Эрнста, и кисть его рождает живописные композиции («Козерог»), которые сочетаются, как писали о художнике, с реминисценциями из его прирейнского детства. И это симптоматично. От чего? Да от того, что война противоестественна, это такая направленная прямолинейность, которая сродни стволу тагильского танка, занаряженного лишь на стрельбу. И насколько же богаче жизнь, явлющая себя в малом даже как вселенское явление. Это подобно тому, как капля воды несет в себе свойства океана. Восхитителен, по моему восприятию, этот кусок записей в дневнике В. И. Вернадского от 15 августа 1893 года, что звучит антитезой «Битве рыб» Макса Эрнста:
«…наблюдая морскую жизнь, находишь гораздо больше, точно присматриваясь. здесь ее удивительно много. Особенно ясно чувствуешь установившееся равновесие в этой жизни и как-то больно чувствуешь свое незнание. В момент проявляется такое свойство жизни, какое являет собой взаимодействие между душой человека и природой. Фернан Бродель подчеркивал, что глвной сферой его исследовательских интересов является «почти неподвижная история людей в их тесной взаимосвязи с землей, по которой они ходят и которая их кормит, история беспрерывно повторяющегося диалога человека с природой, столь упорного, как если бы он был вне досягаемости для ущерба и ударов, наносимых врменем». И грех не привести из записей Вернадского в августе 1892 года это: «Гармония в природе – как следствие равновесий. Равновесие не есть ли основной механический принцип в сложных разнородных срединах?» Но ведь таковое, динамическое равновесие характерно и для всей разнородной Вселенной. Вчера поймал целый ряд самых разнообразных раков, рыбок и – не знаешь, не знаешь.
Я никогда не думал, чтобы на берегу была такая обильная жизнь. Здесь берег покрыт сплошь огромными и мелкими валунами, камнями. В большое волнение моря (так было и недавно) они перекатываются, изменяются. Слышишь тогда, кроме шума волн, грохот от движущейся громады камней. В зимние бури передвигаются камни в сотни пудов весом. и среди этих камней богатая жизнь водорослей, среди них многочисленные моллюски,… раки – крабы, креветки, раки-отшельники, актинии, нередки медузы; два сорта мелких рыбок – одни присасываются к нижней поверхности камней, другие держатся на плавниках по камням и ползают по ним. А приплывают посторонние пришельцы – камса, кефаль, медузы – появляется масса бакланов на камнях, вдающихся в море. А мелочи сколько! Подобное обилие жизни узрел я в живописаниях звезд и созвездий, звездностей, астероидов и комет в писаниях поэтов астрофизики Тхвана и Стивена Хокинга, в книге нашего И. С. Шкловского «Звезды: их рождение, жизнь и смерть». Так страстно хочется одно какое-нибудь лето посвятить изучению жизни моря, пожить около какой-нибудь станции. Так сильно чувствуешь недостаток этого образования. В жизни земли органическая жизнь моря – самое важное». Воочию убеждаешься, как разжигает человека разнообразие мирной жизни. И это ведь не случайность какая-нибудь или просто личные свойства натуралиста Владимира Вернадского: хомокриенсные искания присущи «человеческому веществу» и являют собой закон природы. Пишет же сам Владимир Иванович в своих дневниках о проявлениях сознания, когда «сами явления жизни получают характер непреложных з а к о н о в, слагающихся как под влиянием сознания отдельной личности, так и с о з н а т е л ь н о й однообразной работы массы мелких человеческих единиц». И далее о законообразном характере (выделение – А. М.) сознательной работы народной жизни. И что ж мы видим во всей истории? Отвечает Вернадский же: «…постоянную борьбу сознательных (т. е. «не естественных») укладов жизни против бессознательного строя законов природы, и в этом напряжении сознания вся красота исторических явлений, их оригинальное положение среди остальных природных процессов. Этим напряжением сознания, способностью «вслушиваться в пульс материи» (Маринетти) может оцениваться историческая эпоха». Миром она оценивается: все дела меча под силу перу, но мечу дела пера не под силу, как говорили древние…
– И рожь в такой колосище вымахала после нашей пастьбы! – продолжал Сеня. – Самый большой урожай с этого поля взяли. С землей работать – надо черепком думать.
Старик устроил самокрутку в расселину между зубов и попыхивает сиренево-сизым дымком, не вынимая ее изо рта.
– Верно, Сеня. В наших местах можно богатые урожаи брать. Я ж хлебосев и знаю, что пашеница у нас, как ленок, может быть, рожь прекрасная, овес, просо хорошо растут, надо знать только, как сеять. Подсолнухи я выращивал – стопка по пояс, а шляпка – во-о!
И Саваоф развел руки шире плеч, показывая это «во-о».
Сеня уткнул взгляд в землю, скосив его потом в сторону Саваофа, спросил:
– Кто такие подсолнухи вырастит сегодня?
И ответил себе ж страдательным голосом:
– Никто. Оболтусов много в совхозе. В городе стал работать я – как на ладошке вижу: посевная, уборочная – они торчат в Новопокровске. А хлеба, мяса, картошки, петрушки разной всем надо.
Старика разобрало на солнце, но он пьяно оживляется:
– Нам нужны и мяса, и рыба, и овощи. Надо поменьше выпивать и побольше закусывать. Выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей, как говорил Беня. А потому тяпнем, Сеня-милок.
Они ныряют в избу и вскоре снова выбираются на вольный воздух. Лицо Сени подобрело, глаза его стали маслянистыми. Будто сменил маску и Саваоф: в уголках губ его застыла бесовская какая-то полуулыбка, взгляд старика стал огнистым, как у крольчихи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































