Текст книги "Конторский раб"
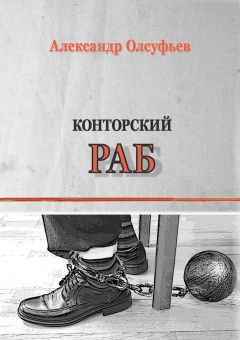
Автор книги: Александр Олсуфьев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Вошел в комнату я с опущенной головой, ни на кого не смотрел, сразу же прошел на свое место, плюхнулся на стул с обреченным видом, поджал под себя ногу, закрыл глаза и, откинувшись на спинку стула, постарался прикинуться невидимым, но это у меня, как обычно, не получилось.
– Зачем директор-то вызывал? – раздался голос «деда».
Я открыл один глаз, закрытый глаз потер пальцем.
– Предлагал мне ваше место, если соглашусь с ним ехать в Н-ск, – не моргнув, ответил я.
Слышно было как в углу тревожно завозился вначале сам «дед», а следом начала нервно шуршать бумагой, словно мышь, и Аграфена Фроловна.
– И? Согласился? – хриплым от волнения голосом спросил Богдан Осипович.
– Пока нет… Сижу, вот, думаю… Далеко этот Н-ск, все-таки. И про жилье мне ничего не сказал, и про условия…
– Нет там никакого жилья, – буркнул «дед». – Собираются только строить.
– Плохо… – резюмировал я.
– А с чего вдруг этот разговор про Н-ск у вас случился? – осторожно спросила Аграфена Фроловна.
– Да! Кстати… – подхватил «дед» и молодежь тоже насторожилась.
Как я уже говорил, человек я простой, привык, знаете ли, говорить правду. Вот и сейчас не смолчал, резанул по живому.
– Директор намекнул, что, мол, там, – я указал пальцем на потолок, – порешили перевести административный аппарат в Н-ск, поближе к стройке, а то, как-то неловко получается – строят там, а командуют отсюда.
В комнате на мгновение повисла тяжелая пауза, очень похожая на то состояние ожидания, когда в грозу мелькнет молния, и поневоле замираешь, ожидая раскатов грома.
– Как переезд? – испуганно пролепетала Юлечка.
– Какой переезд? – уточнил Юрочка.
– Не может быть… – пробормотала Аграфена Фроловна и опустила спицы.
Один «дед» не сказал ничего, сидел в своем углу, опустив глаза, словно умер. Вот, даже в театр ходить не нужно – «Ревизор» в исполнении моих сослуживцев.
– А такой… – уточнил я, – собираем манатки и в поезд. Вагоны люкс для директора и секретариата, купе для начальничков пониже, а нам плацкарт или теплушки. По дороге питаемся, чем удастся отовариться на станциях, всю дорогу пьем водку, играем в карты и домино, гоняем до одурения анекдоты.
– Я так и знал… – тихо, но внятно произнес Богдан Осипович, и все мы посмотрели в его угол. – Чуяло мое старое сердце, что что-то должно случиться, что так продолжаться долго не может. Недаром мне на днях снились какие-то вокзалы, буфеты… Странный сон… Так не должно быть, что строят в одном месте, а все конторы сгрудились вокруг Большого Театра и Метрополя – это неправильно. Даже в прежние времена такого не было.
Я удивленно взглянул на «деда». Вот те на, и кто излагает эти рациональные и разумные идеи? Человек, которому до пенсии осталось менее года, кто старался изо всех сил досидеть до «звонка» в теплой и сонной конторской атмосфере – воистину чужая душа – потемки.
– Я бы и сам поехал… коль так случится… Но… не мне же предложили, и староват стал для таких переездов… – сознался «дед». – Поговаривают, что сокращение будет… Ничего он тебе про это не говорил?
Я отрицательно покачал головой.
– Как, однако, неудачно получится, если нас здесь разгонят… – крякнул от досады он. – Чуть больше полугода осталось мне до пенсии, а тут такой разворот – прямо удар ниже пояса. Верно я говорю, Аграфена?
– Да… уж… – подтвердила та.
Юрочка с Юлечкой, не сговариваясь, встали и один за другим вышли из комнаты.
«Пошли звонить по своим. Пошли перепроверять что я тут наговорил», – подумал я не без злорадства.
– Так… Может… ничего и не будет, все обойдется, – попытался соврать я, но у меня это плохо получается.
– Ладно, ладно… – он отмахнулся от моих оправданий. – Коль разговоры пошли – значит это неспроста, значит что-то затевают. Круги на воде сами по себе не появляются. Был бы помоложе, как ты, например, поехал бы не раздумывая. А теперь придется новое место подыскивать. Хлопотать, просить, умолять, чтобы взяли, ползать на коленях… Эх-х … – крякнул он с досады. – Соглашайся… – продолжал он прощупывать меня. – Деньжат там будут платить больше, чем здесь – подзаработаешь. Край там таежный, зверья водится всякого немерено.
– Под словом «зверье» вы кого имеете в виду? – ехидно переспросил я.
Но «дед» не поддался на провокацию.
– Медведи, лисы, волки, зайцы… – начал перечислять он, – птицы много всякой: утки, гуси, тетерева… Это на тот случай, если ты охотник.
– Нет! Нет, – замахал я на него руками, – не охотник я до зверья всякого. Мне и в этом городе его хватает. Но, все же, нужно подумать. В наше время работой не разбрасываются. Надо подумать…
– Ну… думай, думай… – с тревогой в голосе пробормотал «дед» и затих в своем углу, а Аграфена Фроловна, подперев голову рукой сидела молча и смотрела на стену напротив, потом, тяжело вздохнув, вытянула из ящика длинный кусок нити и продолжила постукивать спицами. Юрочка и Юлечка так и не объявились до самого вечера.
Ну, и я стал думать, но думал не о переезде, а о том, как этот Владимир Иванович смог меня «вычислить».
«Здесь, в стенах этой конторы, работает около сотни людей всяких – публика самая разношерстная, но вызвал именно меня. Не мог он распознать меня без чьей-то подсказки. Не за что зацепиться. Абсолютно не за что. Все было сделано гладко, и я ни чем не выделялся из этой толпы. Такой же, как все. Шел со всем стадом и ни вперед, ни вбок не уходил и не отставал. Значит, у Петра Семеновича завелась «крыса», и об этом ему надо будет доложить сегодня же вечером. Пусть тоже вычислениями займется. У них там, в верхах, сразу информация по цепочке передается, сразу все знают кто на кого как взглянул, кто на кого сослался, кто кем прикрылся, кто кому слово не то сказал, кто место не уступил, кто дорогу перешел, … по этой цепочке можно и в обратном направлении пройти, до самого первого звена.
Интересный разговор, однако, получился у нас с этим Владимиром Ивановичем. Любопытный он тип, не глупый, не истеричный, вдумчивый, но какой-то вялый, что ли, не инициативный. Может потому что сытый, все у него имеется и с большим запасом, а потому нет необходимости шевелиться лишний раз, придумывать… и так все сойдет… и оно сошло бы, если бы не я…
Зря я, конечно, начал перед ним распинаться про звездное небо, про космос… Черт меня дернул за язык. Надо было придумать что-нибудь попроще, например про сельское хозяйство, про парники и грядки, а то теперь начнет рассказывать кому не надо, что агента заслали к нему какого-то блаженного, болтуна-романтика… Или не будет ничего такого говорить, потому что не в его интересах болтать про это – уберут, если болтать начнет. Ну, да это его личное дело. Мне-то надо о себе подумать. Как теперь быть? Придется опять дома сидеть в ожидании нового назначения, терпеть косые взгляды, скрытое недовольство, самому придумывать для себя разные занятия, чтобы не болтаться по квартире день-деньской, не путаться у них под ногами, не мешать им жить…
Деньги мне Петр Степанович будет доплачивать, немного, но не позволит с голоду подохнуть – вознаграждение за верную службу, однако не в деньгах, ведь, счастье.
И что же это за дом у меня такой, что туда и возвращаться не хочется, а? Говорят, что так все живут. А мне так не нравится.
Вот, ведь, как получается – для себя сам и вырыл эту яму. Ходил бы на службу спокойно, как все, год за годом, и проблем бы не знал этих, а время шло бы потихонечку, шло и шло, старел бы понемногу, глупел бы, дурнел, превращался бы в такого, как этот Богдан Осипович, ничего бы вокруг не видел и не слышал, дремал бы в углу, как паук, но чувствовал себя спокойно и даже уверенно, поскольку хозяин считал бы меня своим, почти собственным… или даже не почти, а считал бы именно собственностью, одушевленным предметом…
Так нет же… Нужно было перевернуть здесь все вверх ногами, и самому оказаться опять на улице. А почему?..»
Я нервно затряс ногой. Зачем-то несколько раз двинул «мышью» при выключенном компьютере.
«А потому что я ненавижу все здесь – вот зачем! Этот стол и этот стул, всю эту комнату со шкафами, этих персонажей: и молодых, и старых, с рабской покорностью прибегающих сюда, чтобы ничего не делать, всю эту контору, осевшую за тысячи километров от стройки, и руководящую почти вслепую отсюда, из этого города, набитого по самые крыши такими же конторами, где все бегут к своим столам с каким-то самоотречением, свойственным только рабам, понимающим, что жизнь их целиком и полностью зависит от воли хозяина и его надсмотрщиков. Злятся, негодуют, ругаются, стараются, по возможности, ничего не делать, демонстрируя тем самым свое несогласие и недовольство, но все равно с привычным усердием бегут по протоптанной миллионами похожих ног дорожке, чтобы добраться до дверей к указанному служебным расписанием сроку.
И что? Скажете что это не рабское существование? Разве про такое не писали раньше, когда ленивый раб делает определенную для него работу из под палки, безо всякого интереса, опасаясь лишь за целостность своей шкуры и из страха, что жизнь его могут испортить еще больше, отправив на галеры или швырнув в какую-нибудь яму с голодными львами на потеху тем же хозяевам?
Писали и много раз. Ставили это в качестве примера, чтобы не повторялось и каков же результат? А результат все тот же.
Те отношения, когда один или несколько человек могут распоряжаться жизнями многих других людей – ох и сладкое, ох и упоительное ощущение безграничной власти над чужими жизнями – те отношения никуда не исчезли, они просто немного видоизменились, приняли, так сказать, цивилизованную форму подавления воли индивидуума, усадив его за стол и приучив к этому, к его месту, посредством рефлексов вначале на кусок «хлеба насущного», затем на комфортное существование, что расширяется от получки к получке, от одного места к другому, делается более мягким, более теплым, более пушистым и одновременно затягивая в бесконечную гонку за комфортом, словно в трясину, откуда выбраться без посторонней помощи не получается.
Скажете: чушь! Скажете, что раньше у раба выбора никакого не было – горбать спину на хозяина и сдохни в таком согнутом состоянии. А сейчас, если что-то не понравилось – всегда можешь уйти.
А куда, позвольте задать вам вопрос? Что, много вариантов где можно пристроиться?
Вот и этот говорил, что бьется об заклад, но большинство все равно вернутся за стол или удавятся… или утопятся… не помню, как он там сказал. Впрочем, какая разница. А он здесь и не хозяин вовсе, а всего лишь надсмотрщик – должность почетная, ответственная, но доверие хозяев еще нужно заслужить, нужно постараться. А он, вот, как-то заслужил…
Уйти? Попробуй, уйди. В другом месте и на порог не пустят. Раньше беглых рабов ловили, наказывали и опять возвращали хозяевам, поскольку деньги были за него уплачены. А нынче? А нынче этих беглых видимо невидимо. И что они делают? Сбиваются в новую армию под предводительством второго Спартака? Не смешите! Они с отчаянием в глазах пороги обивают, чтобы им опять позволили усесться за стол.
И что, это поведение должно вызывать уважение и быть примером, потому что человек самоотверженно ищет место, где бы можно было пристроиться, и пятого и двадцатого получать обещанные гроши, чтобы забыть на некоторое время навязчивое чувство страха, доходящее до ночных кошмаров, когда человек просыпается посреди ночи в холодном поту и не оттого, что видел во сне конец света и всадников Апокалипсиса и пассажиров «черного воронка», а от того, что подошел срок платить по счетам за квартиру, за свет, за воду, за газ… или вышел на пенсию…
Не вызывает это уважение… Не вызывает и все… Глядя на это и не смешно вовсе, и плакать не хочется. Скорее рождает чувство презрения, злости и даже ненависти.
Я где-то читал… или слышал… сейчас и не вспомню… Как в Австралии, что ли, на одной фармацевтической фабрике, чтобы сортировать пилюли по цвету и размеру, решили использовать обученных для этого голубей.
А что? Плохо что ли?
Представьте, ползет конвейерная лента, тянется на колесиках, словно змея, укусившая себя же за хвост, на нее высыпают пилюльки голубенькие, красненькие,… всякие, и нужно отделить один цвет от другого. Ставят несколько птиц и они, когда заприметят пилюльку нужного цвета, долбят клювом по кнопке синей или красной, или еще какой, пилюлька падает в отведенный под этот цвет ящик, а птицам за работу зернышко или червячка скармливают. У птиц и реакция быстрее и зрение острее, чем у человека, да и накормлены они, и заботятся о них, как на воле о них никто никогда не заботился.
Так нет же! Местные защитники животных подали на владельцев компании в суд за жестокое обращение с птицами, за издевательство над голубями.
Птиц убрали, посадили человека, или несколько человек на это место. И теперь эти люди день-деньской, вытаращив глаза, не отрываясь, пялятся на текущий мимо них ручеек из пилюль и, заприметив красненькую или синенькую, нажимают на соответствующую кнопку. И все успокоились, все стало, как должно быть – птиц отпустили, пусть себе порхают, на карнизах сидят, на памятники и на головы гадят не без удовольствия, а на их место посадили то, что изначально было создано по образу и подобию Божьему, и оно теперь жмет то на одну кнопку, то на другую. Теперь все правильно, теперь всё и все на своих местах.
У птиц только забыли спросить, может им интереснее червяка заполучить таким образом, чем выискивать его в траве, может для них это как игра была. Тоже за птичек все решили.
А человек… А что человек?..
Во-первых, их много, человеков этих, во-вторых, кто-то скажет, что это его добровольный выбор – вот так вот сидеть с остекленевшими от напряжения глазами и лупить то по одной кнопке, то по другой. Его же никто, вроде как, явным образом не принуждал, не заставлял идти работать на этот конвейер, сам пришел. Позвали, он и пришел. Пообещали за исполнение простой, до дурноты, работы платить – он и пришел. Покорно приплелся, поскольку других способов добыть себе кусок хлеба не придумал или не смог найти. И сидит теперь на табурете в белом берете, в белом халате, кидает быстрые взгляды на часы на дальней стене, где стрелки как будто приклеились к циферблату, нетерпеливо притоптывая ножкой, если там, в полу, нет какой-нибудь педальки, а то и педальку придется жать, и ждет окончания смены, чтобы сбежать из этого опостылевшего цеха, где от однообразия можно отупеть или вообще сойти с ума.
Но, ведь, все равно вернется на следующий день. Он, хоть и был сотворен «по образу и подобию», но никто ему не указал, как это можно применить себе во благо и заодно другим, никто не обучил его этим сходством пользоваться – он и не знает, а потому покорно бредет к своему табурету и ловит взглядом синие и красные пилюльки, а те сыпятся и сыпятся, и ползут мимо него, не останавливаясь.
А пуще всех себя ненавижу, за такую же покорность, за малодушие и лень, не позволяющие мне определиться для самого себя с целью в жизни. Что там говорить про других! На себя нужно прежде всего взглянуть. Я-то, вообще, агент. Меня засовывают в эти конторы, чтобы я «щупал» их изнутри, потому что снаружи у них всегда все «лучше некуда»: вся отчетность идеальна, прибыль так и прет вверх, служащий народ доволен своим положением – «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо… трам-там-там-там», и именно там не к чему придраться, не к чему подкопаться.
А так ли на самом деле? Вот и отправляют таких, как я. И что? Я служу сразу в двух местах. Как и все сижу за столом, как и все пишу какие-то письма, составляю отчеты, звоню каким-то людям, они мне звонят, присылаю ответные письма, все это подшивается в папки, папки потом засовывают в шкафы или выбрасываются – бред какой-то. И при этом я что-то тут должен анализировать, сравнивать, прикидывать, откидывать, делать выводы и передавать другим людям.
И это что, работа, доставляющая удовольствие и ощущение удовлетворения от содеянного? Нет!
Оно, конечно, было бы, это чувство удовлетворения, если бы все стало изменяться к лучшему, но ничего подобного…
Конторы эти появляются быстрее, чем опята на пнях и в таких же количествах. Их чем больше истребляешь, тем больше их становится. И людей, которые мечтают туда проникнуть, тоже становится все больше и больше. Как будто они появляются на свет с врожденным чувством лени и нежеланием делать что-то своими руками, но и, одновременно с этим, мечтают жить лучше, комфортнее, удобнее, чем все остальные, а потому рыщут в поисках неких господ, кому по делам их требуется рабская сила.
Рожденный ползать, летать не может… Может, может, еще как может… Ему бы лишь до ракеты доползти, а там…
Контору закрыли через месяц.
Меня, Юрочку и Юлечку попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию – так принято, воде как все сами разбежались – добровольный выбор, а раз сами, то и беспокоиться по этому поводу нет смысла.
Богдан Осипович и Аграфена Фроловна оставались на своих местах, в стенах этого заведения, словно тараканы, до последней минуты, пока вывеску не сняли перед входом, а затем куда-то, следуя примеру тех же тараканов, исчезли.
Царство Татьяны Марковны развалилось само собой, потому что «девочки», все до единой, отказались ехать в Н-ск, а сама она куда-то сгинула без вести.
Покровитель ее, юный «гений» делопроизводства, Михаил Сергеевич, любезный и услужливый перед директором, исчез в южном направлении, как только до него дошла весть, что контору закрывают.
Как-то вечером, позвонил Петр Степанович, поблагодарил за проделанную работу. Сказал, что мне начислили небольшую премию. Я намекнул ему, что там был один человек, который мог бы пригодиться для нас, для нашего «дела» – это кадровик, принимавший меня на работу.
– Максим, что ли? – небрежно ответил Петр Степанович. – Так он давно у нас работает. Мы всегда в контору отправляем как минимум двух человек. Мало ли что один там насобирает. Вот, когда данные от обоих сойдутся и подтвердят друг друга, тогда и можно принимать решение.
Я помолчал, посопел в трубку, но потом решился и спросил:
– А директор? Владимир Иванович? В Н-ск уехал?
– В Н-ск? – хмыкнул на том конце провода Перт Степанович. – Что ты!.. Разве ж он уедет отсюда?! У него жена молодая на сносях. Что ей там делать? Был бы он человек холостой – наверняка бы уехал, а так… с таким ярмом по проселочным дорогам далеко не уедешь… В министерстве он пристроился. Отсиживается до нового назначения. Такие, вот, дела… Ну, всего хорошего. В Интернет-компанию пойдешь работать? – добавил он, как бы про между прочим.
Что ж Интернет, так Интернет. В общем-то мне все равно, лишь бы не дома сидеть… и не на конвейере болты крутить…
Но, может, хоть на переднем крае научно-технического прогресса найдутся люди занятые делом? Посмотрим, посмотрим… Ждем следующего назначения.
Под стеклом
На остриеИ вот я на переднем крае научно-технического прогресса, на самом его острие, на самом кончике, как Петр Степанович и обещал. Застыл на этом острие, как вошь на гребешке.
Так люди говорят, когда место открытое и тебя видно со всех сторон, и сам ты чувствуешь себя крайне неуютно, поэтому и сравнивают с вошью. Как себя на самом деле чувствует вошь – никто, конечно же, не знает и никогда не узнает. Во-первых, зачем про это узнавать хоть что-то? а во-вторых, вше там не место, а место ее где-нибудь в укромном уголочке, в тепле, в темноте, в тишине, когда возишься, ковыряешься, и ощущаешб себя в безопасности, потому что дотянуться до тебя никто не может. А лучше всего, когда то место, где тепло и темно, еще и показать стыдно – тут уж можно возиться с азартом, не стесняясь и не ограничивая себя ни в чем.
А здесь все наоборот: вокруг солнце, видно небо, видно деревья, покрытые сочной летней зеленью, видно стоянку и людей, идущих через нее, и они меня видят, и солнце изливает на меня потоки света и тепла… Но видят ли меня деревья – не известно. Точно также, как не известно что чувствует вошь.
Вокруг все стекло, отмытое до хруста, так что его и не видно, словно его и нет: стены из стекла, двери из стекла, лестница, ведущая на второй этаж к кабинету директора и его зама по кадрам тоже из стекла, окна… а окон нет. Зачем здесь окна? Стены-то насквозь прозрачные. Даже столы, и те стеклянные, видно как ножки упираются в пол и не разъезжаются, стоят твердо, уверенно держат на себе тяжелую столешницу – стекло-то, оно тяжелое. Вот пол не стеклянный. Но в центре зала в полу устроили большое прямоугольное отверстие, закрыли его толстым стеклом, а под стеклом разложили всякие разноцветные камушки, положили ракушки и сделали не яркую, приглушенную подсветку, словно это дно морское. Но это не дно, это самый кончик острия.
Когда я пришел туда, вошел под эти почти небесные своды, то первым моим желанием было съежиться, сжаться в комок и выкатиться обратно на улицу. Настолько все было вокруг непривычно для меня.
Я же привык к другой обстановке: к длинным коридорам с рядами дверей, закрытых наглухо, к маленьким комнатам за этими дверями, заставленные столами один к другому, так что пройти невозможно, а можно лишь протиснуться, упираясь бедром в край, к липкой духоте, к сонному, вялому, безразличному ко всему состоянию, к мертвому неоновому свету, к маленьким окнам, запертым весь день, потому что «Сквозняк! Я же просила окна не открывать!», и все слушаются, хоть и недовольны, и окна не открывают.
Все это напоминало слои паутины, пыльной, перепутанной, липкой, не пропускающей свет и лениво покачивающейся при редком движении воздуха, а в углах, в самых темных, сидят те, кто сплел все это, сидят, затаившись, с паучьим терпением и внешним, притворным безразличием ко всему, что происходит вокруг, и даже своими тонкими, но цепкими лапками не шевелят, замерли, прикинулись кто сонным, а кто и вовсе мертвым, лишь бы к себе не привлекать внимания.
А здесь все не так. Здесь все открыто, здесь много воздуха, свежего воздуха, дышится легко и костюм мой выглядит нелепо, потому что все одеты кто во что горазд: брюки мешковатые или узкие, «трубочкой», пара человек даже в шортах, из штанин торчат кривые волосатые ноги, юбки короткие или до пола, яркие майки и рубашки, кроссовки, кеды, легкие туфли. Здесь даже мух нет. Ни одной. Им сюда прилетать не интересно, тут нечего есть, во всяком случае, так мне показалось в первую минуту. А раз нет мух, то нет и пауков, охотящихся на них, что немного прибавляет оптимизма.
Я вошел и, неуверенно ступая по отполированному, словно зеркало, полу, оглядываясь по сторонам, конечно же без опасения, что кто-то нападет на меня, не то место, но в большей степени с любопытством, а потому под ноги не смотрел и ступал осторожно, дошел до первого из столов, где сидел молодой человек в цветной рубашке навыпуск и красной майке под ней, с кривой надписью «Хочешь есть – иди…». Куда нужно было идти – не объяснялось, но я уже подошел к нему и, держа ноги вместе, колени не сгибая и, слегка изогнув спину, спросил его голосом немного хриплым, как от волнения:
– Э-э, не подскажете где мне найти Геннадия Васильевича?
И растянув губы в подобострастной улыбке, принялся ждать ответа. Я так всегда делаю в новой, неизвестной мне обстановке. Зачем? А кто бы знал. Это возникает где-то в самом глубоком месте моего нутра. Так проще начинать общение. Вряд ли кто-нибудь поведет себя в этом случае агрессивно. Если ты сгибаешься в поклоне, то и тебе, скорее всего ответят тем же. В худшем случае не ответят совсем. Ну и ладно… Обращусь к кому-нибудь другому.
Молодой человек, не отрываясь, смотрел на экран монитора, на ряды строчек с таинственными символами. Услышав мой голос, он вздрогнул, не так чтобы сильно, но заметно, повернул свою взъерошенную голову и направил на меня круглые, как у совы, покрасневшие от напряжения глаза за толстыми стеклами больших очков.
– Простите? – переспросил он.
– Э-э, ищу Геннадия… Васильевича… Э-э, где его можно найти? – продолжал я улыбаться, но и одновременно подумал, что нужно бы спросить у кого-то другого.
– Геннадия Васильевича… – прошептал в ответ молодой человек и добавил ни к селу, ни к городу. – А почему бы и нет… Вполне возможно…, – и, вернув взгляд на монитор, быстро застучал по клавишам, и делал это так ловко, что засмотреться можно, настоящий виртуоз. Я-то печатаю лишь двумя пальцами, да и руки устают быстро, а тут работали все десять. А ногой он, наверное, отбивал ритм, но под столом, заваленном бумагами, этого не было видно.
Я выпрямился, улыбку убрал, пошевелил бровями, посмотрел на соседа этого молодого человека – такой же блаженный, только без рубашки, в одной лишь майке, и такой же отрешенный взгляд, упершийся в монитор, а за ним другой сидит, а напротив еще один.
«Надо же, с каким самоотречением они оттачивают острие на краю научно-технического прогресса. Здесь мне, похоже, никто не поможет…», – саркастически подумал я, но потом последовала вполне прозаическая мысль, – «Так, все-таки, где мне найти Геннадия Васильевича? Даже неудобно, как-то получается… опаздываю к назначенному сроку, хотя уже пришел…»
– Минуточку… – молодой человек частично вернулся ко мне на помощь, он предостерегающе поднял указательный палец на одной руке и показал его мне, палец был тонкий и длинный, в это время пальцы другой продолжали быстро отстукивать на клавиатуре.
– Всё! – выдохнул он и, откинувшись на спинку стула, закинул свои руки пианиста за голову. – Как вовремя вы подошли…
– Я всегда так делаю, – поддержал я разговор, вернув улыбку на прежнее место. – Помогло? – заискивающе поинтересовался я, и, не дожидаясь ответа, добавил:
– Э-э, Геннадия Васильевича…
Молодой человек повернулся ко мне, но на этот раз взгляд у него был вполне осмысленный, глаза за стеклами очков умные. Он бегло осмотрел мой костюм, выглядящий очень странно на том ярком и неопрятном фоне, быстро встал со стула и, кивнув головой, произнес:
– Кабинет Геннадия Васильевич на втором этаже, – показал на стеклянную лестницу, ведущую на широкий балкон, вдоль всей стены, по краю которого было несколько дверей, тоже стеклянных.
– Пойдемте, я провожу вас, – любезно предложил он и направился к лестнице. Я послушно зашагал за ним. Но, не дойдя до лестницы, однако, к чести этого молодого человека (которого звали Константин, более тесно познакомился я с ним позже) он прошел большую часть пути, взгляд его снова сделался стеклянным. Он замер с поднятой ногой, опустил голову, опустил ногу, обернулся и крикнул:
– Макс, проверь процедуру конвертации. Там в …. Один параметр сбоит. Кажется…
И пробормотав:
– Извините, – побежал обратно к своему столу.
– Жуть… – сказал я сам себе и двинулся в сторону лестницы. Обойдемся без провожатых, не в лесу же, тем более общее направление движения известно: вверх по стеклянным ступеням… как это символично…
На балконе, куда привела меня лестница, было пять дверей, все такие же стеклянные, как и ступени, но из стекла мутного, сквозь которое невозможно было рассмотреть что-либо, видны лишь неясные, похожие на расплывчатые пятна силуэты. У каждой двери было свое название: на табличке на первой написано «Ген. Дир.» – сюда мне не надо, меня и Петр Степанович предупреждал, чтобы я к нему не совался – я и не пошел, а прошел дальше.
Вторая дверь была под названием «ЗамГенДир». Ага! Сюда-то мне и надо. Сюда меня попросили зайти. Я уже поднял было руку с пальцем, согнутым крючком, чтобы постучать, но передумал и зачем-то прошел дальше, посмотреть что там за другими дверями делается.
И тут поймал себя на мысли, что за последнее время у меня начали формироваться какие-то странные привычки, например, прежде чем войти – разузнать получше что и как делается вокруг, а не сразу входить, вначале изучить обстановку – посмотреть по сторонам и оглянуться, прислушаться, принюхаться, воздержаться от резких движений, если выходишь на свет, то постоять на границе тени, чтобы глаза привыкли… Не так поступил бы человек, скажем, обыкновенный, не присланный Петром Степановичем, кто пришел устраиваться на работу и зарабатывать свой кусочек хлеба, честно, без задней мысли и тайного поручения.
Нет, конечно, таких людей, кто приходит устраиваться в контору без задней мысли, не бывает. К этому, к появлению этих самых мыслей, задних, обязывает само времяпрепровождение в четырех стенах, напоминающее заключение, пусть и на добровольной основе. Все-таки это ограничение свободы: делать уже приходится что скажут, а когда делать нечего, что случается чаще, уйти не позволяют – обязан пребывать в состоянии сонного ожидания, быть, так сказать, наготове, от чего и мозг тупеет, и тело ветшает, и, естественно, этому сопротивляешься, потому что мозг – такая своеобразная вещь, которая постоянно требует внешнего раздражителя, а когда его нет, то придумывает сам, творит и сотворяет разные развлечения. Не для того же человек появился на свет этот, чтобы жизнь свою гробить таким примитивным, безрадостным и до крайности глупым способом, а пользу приносить себе и от удовольствий разных не уклоняться.
Самое широко распространенное развлечение людей служащих в конторах, в замкнутых пространствах – это интриги.
Интрига!.. Какое объемное, какое широкое слово, как много оно скрывает за собой, какие страсти кипят вокруг него, какие запутанные отношения формируются, какие чувства, одно противнее другого, поднимаются в людях, и как энергично, зло, яростно они реагируют, совсем не так, как на положенные по их рангу документы, письма, инструкции, циркуляры, попадающие к ним на стол, которые справедливо считают скучными, тоскливыми, называют рутиной. Оригинально, ярко, очень часто с полной самоотдачей человек реагирует, если его впутать в какие-нибудь сложные отношения с соседом или соседкой по столу или с кем-нибудь из кабинета напротив, или этажом ниже, или даже выше, что особенно интересно, тут уж и забываешь зачем в контору эту пришел, а думаешь лишь о том, как бы половчее ответить ему или ей, чтобы почувствовать, пусть хоть и легкое, но удовлетворение, какое от своей бумажной работы получить невозможно.
Человеческие отношения напоминают темный, глухой лес, временами даже дремучий, где ветви переплелись так густо, что пройти очень непросто – где-нибудь да зацепишься, споткнешься, рукав порвешь или карман оторвешь. И переплетение это не случайное, получилось не по воле случая, все в этом переплетении имеет свое значение, зависит одно от другого, а та часть леса, которую можно назвать «интригами» – так и вовсе чаща, сплошной бурелом или еще хуже – болото непролазное. Там без сноровки, без опыта, без проводника можно и вовсе не пройти – заблудишься, сгинешь без следа, тем все и закончится. Места эти таинственные, оттуда и звуки доносятся необычные: то вздохи, то ахи, то хныканье, а бывают и стоны приглушенные или отчетливые, а еще крики-вопли и даже яростный рык, где что не слово, то мат-перемат. Солнечный свет туда проникает редко, а потому краски в тех местах тусклые, серые, невыразительные. Но вот луч пронзил сплетение ветвей или проскользнул сквозь клубы тумана, стелящиеся над мутной, стоячей водой, упал на что-то, цветок ли, лягушку какую или змею, осветил, и оно вспыхнуло таким ярким цветом, что сразу же привлекло внимание всех вокруг, но луч погас, а говорить об этом, обсуждать не перестали, толкуют, каждую деталь отдельно рассматривают неделями, а то и месяцами напролет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































