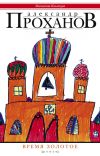Читать книгу "Шелопут и фортуна"

Автор книги: Александр Щербаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
С. Т-ева была холодна и равнодушна. Женя чуть было уже не вылетел из университета по причине провала сессии. Но был не в состоянии отречься от идеи фикс. С моей легкой руки часть общежитской общественности стала называть Женькину эпопею «осадой Ла-Рошели».
И какой же катарсис мы испытали, когда однажды Ла-Рошаль пала: С. Т-ева согласилась выйти замуж за Женю П.!
Далее последует, пользуясь словцом постаревших девочек-завсегдатаев интернета, увы, только печалька. Едва снова собравшись в новом учебном году, мы узнали: в семье П. и С. Т-вой полный разор и бедлам. Женька все чаще напивается и к тому же лупит С. Т-еву едва ли не смертным боем.
Неожиданное письмо Людмилы подвигнуло, было, меня на встречу с ней. Опыт, полученный в совместных приключениях с Октавом и кавалером де Грие, побуждал к этому. Ибо: любовь – высшая цель, а предмет любви – бесценен. Однако знание, почерпнутое из жизни, заметно противоречило такой однополярности. Говоря откровенно, меня смущало, что, как бы ни сложились обстоятельства, они будут напоминать… «осаду Ла-Рошели». А это, чудилось мне, чревато опасностью. Какой – точно не знал. Да и сейчас, каюсь, не знаю. Хотя на памяти у меня есть несколько случаев, когда одна сторона (бывали и мужчина, и женщина) длительно изматывала своим упорством другую и добивалась-таки единения (не обязательно брачного). Все они за редким исключением ничем хорошим не окончились. Но разве мои наблюдения – аргумент? Статистика и та – не точная наука, когда имеет дело с такими текучими, переменчивыми материями.
Короче, таившийся в моем «органоне» компьютер в вопросе (никак не могу найти слово, обозначающее состояние между «разумом» и «интуицией», между «интуицией» и «восприятием»), возобновлять ли мне отношения с Люсей после ее письма, не выдал последнюю, предостерегающую от опрометчивости панельку «Да» – «Нет». Как это в «Сказке о рыбаке и рыбке»: «Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула».
Это значило: нет.
IV
Однако почти уверен, что послал ей ответное письмо: об этом свидетельствуют мои карандашные закорючки на Люсином послании. По ним можно судить, что мне казалось в нем главным или спорным. И по ним же ясно: нет – сказано определенно.
Почему же нет этого письма? Или потому, что мне его не вернула Людмила, или, что скорее, я выбросил его. Последняя версия заслуживает моего нынешнего внимания.
С чего начать? Пожалуй, с ДСП. Со древесностружечной плиты… Впрочем, нет, сама ее история начинается с одиссеи наших книг.
Новые знакомые, приходя к нам, часто в удивлении вскидывали глаза, поражаясь их количеству. Из каждых десяти интервью с Галиной в девяти во вступительных фразах непременно говорилось о «стенах квартиры, состоящих из книг». Они были, может быть, главным объектом постоянной и нежной Галиной любви. «Вот вы видите, сколько у нас дома книг, – говорила она в беседе с Марией Челищевой в 2007 году. – И у нас еще там две комнаты, и они забиты книгами, и коридор забит книгами… Я вдруг представила… Вот у меня молодой кот, он из норвежской породы. Норвежские коты живут долго, дай бог им здоровья. Ему сейчас всего полтора годика. И я, значит, думаю: не дай бог, но это точно, что еще 15 лет я не проживу, такого просто не бывает… Что будет с котом? И у меня разрывается внутри сердце. И вот так же у меня разрывается сердце, когда я думаю, что будет с моими книгами. Вы даже не можете себе представить, какая это боль. …Когда-то я не понимала фразы Пушкина, который, умирая, сказал «Прощайте, мои друзья!», обращаясь к книгам. Но сейчас я понимаю это каждой клеточкой своего организма… Хорошо, что мы с мужем в этом смысле абсолютно родные души».
…Я задерживаюсь перед одной из наших «книжных стен» и через две минуты, почти не сходя с места, набираю, не глядя на обложки, десяток книг, одно прикосновение к которым заставляет биться сердце чаще…
Почему же обычные, не библейские книги вызывают мое волнение? Потому что они, разные, много лет назад сходно воздействовали на наши, мою и Галину, души, причем, можно сказать, одновременно. Это было, еще раз повторю, в краткую удивительную пору жизни страны, испокон века привыкшей к панцирю несвободы. Недавно возникшее Издательство иностранной литературы и Гослитиздат с его феерической серией «Зарубежный роман XX века» (а еще, кстати, и Свердловское книжное издательство), словно не веря себе и соревнуясь, в горячечном ритме чуть ли не раз в неделю выпускали блестящие сочинения писателей, накопившиеся за полвека в самых разных странах.
В нашем университетском здании был книжный киоск, точнее, несколько сдвинутых столов с разложенными книгами, и было трудно пройти мимо, не купив чего-то новенького. В этой оттепельной погоне за культурой Европы и Америки было, как я понимаю, не до полиграфических изысков. Книги выпускались в основном не в переплетах, а в бумажных обложках (к счастью, сшитые нитками, склеенных для разового прочтения выпусков еще не было), в лучшем случае покрытых суперобложкой, тоже из жиденькой бумажки. По такому нетоварному виду, исключающему какую-либо нынешнюю денежную ценность, я мгновенно обнаруживаю их. Но именно эти книги в первую очередь и могу по-пушкински назвать: мои друзья! И, может быть, самые задушевные друзья.
Неудивительно, что два или три десятка их я привез из Свердловска в Челябинск. Грэм Грин «Тихий американец». Франсуа Мориак «Клубок змей» и «Дорога в никуда». Чезаре Повезе «Товарищ». Феликс Джексон «…Да поможет мне бог». Но вот и русский писатель, которого я не знал: Александр Неверов «Ташкент – город хлебный»… Но стоит ли перечислять? Главное то, что когда в союзе моей и Галиной жизни пришло время единения наших книг, почти все мои печатные ценности оказались и у нее!
Впрочем, ничего необыкновенного в этом нет. Недавно я на сайте LiveLib набрел на список любимых книг Бориса Стругацкого. И там, уже без удивления, но с радостью, обнаружил много названий именно из того, нашего «оттепельного» собрания книг, о которых мне не сказать точнее, чем сам писатель: «Вовсе не обязательно те, перед которыми склоняешь голову в почтительном поклоне. Но обязательно – самые любимые. Выдержавшие испытание временем. Прошедшие с тобою через все жизненные перипетии и сохранившиеся на полке – теперь уж навсегда, до самого конца… Никаких глубокомысленных обоснований. Никаких ссылок на историческое значение и роль в мировой культуре. Только – любовь, благодарность, память. И откровенное признание: без этих книг я был бы другим. Более того: без них я был бы хуже. На полках моих стоит еще много замечательных и даже великих, с уважением читанных и даже перечитанных, но нет у меня к ним той нежности, той благодарности – за всю жизнь и на всю жизнь».
Вот помянул Бориса Стругацкого – и всплыло: среди привезенных из Свердловска книжек был и детгизовский сборник рассказов «Шесть спичек» – Аркадия и Бориса Стругацких (а я ведь из-за провальной проделки памяти много лет считал, что знаю этих авторов только с «Суеты вокруг дивана» – первой публикации из «Понедельника…»). А вместе с ним – «Вторжение с Альдебарана» и «Формула Лимфатера» Станислава Лема, и «Мир, в котором я исчез» и «Голем» Анатолия Днепрова, и большой переводной американский сборник, где были и Роберт Хайнлайн, и Рэй Бредбери. И… мое новое страстное увлечение научной фантастикой. Что мы знали в ней до этого? Пожалуй, только Ивана Ефремова.
Заядлая филологическая натура, Галина поначалу морщила нос на это мое увлечение. Но с кем поведешься… За какие-то несколько лет она стала знатоком такого рода литературы. А я, напротив, охладел к ней. Большую роль в этом сыграло модное «фэнтези». У меня от него ну просто скулы сводит…
Насчет «с кем поведешься»… За долгую совместную жизнь накопилось немало примеров взаимного влияния. Но уж раз занесло на читательскую стезю, ею и ограничусь.
Среди любимых писателей Галя чаще всего называла Диккенса и Голсуорси. Из более современных – Фланнери О′Коннор. Но ее божеством чуть ли не с дошкольных лет был прозаик Антон Чехов. Именно прозаик, ибо к его драматургии она относилась достаточно кисло. Сложное чувство: она, можно сказать, как ребенок радовалась тому, что мир признает ее кумира наравне с Шекспиром, но… не могла признать его сценические сочинения равными прозе из-за их, извините, литературных несовершенств. Хотя не раз повторяла, что понимает, почему автор называет их комедиями, и даже хотела бы написать об этом.
А у меня поначалу к Чехову было исключительно уважительное, но ровное отношение. Он из писателей, для полного постижения которых необходимо определенное читательское восприятие смешного. Я в этом отношении изначально был «отравлен» обаянием, так сказать, чисто словесного создания юмора. Им, к примеру, классно владеют талантливые сатирики. Корифей такого мастерства делать из несмешного смешное – Салтыков-Щедрин. Ильф и Петров – классики такой манеры. Существуют филологические исследования, как они это делают. Мое младожурналистское тяготение к фельетонному жанру, как видно, предопределило и вкусовую приверженность к этой стилистике.
Чехов не таков. Вернее, отчасти таков (поскольку он еще и Чехонте. В записных книжках: «Граф, я уезжаю в Мордегундию», или «Варвара Недотёпина», «Мадам Гнусик» и т. д.). Но комизм «истинной чеховщины» все-таки в другом: «сошелся с 45-летней женщиной, потом стал писать страшные рассказы»; «старик 80 лет говорит другому, 60 лет: стыдно, молодой человек»; «горбатый, но высокий»… Нет уморительно смешных слов, бьющих в нос парадоксов. Нет внешнего анекдотизма. Ползучий реализм. А смешно. Очень часто не тотчас, а через секунду-другую, а то и возвращаешься из следующего абзаца, чтобы всласть расхохотаться. Иногда не полностью отдавая себе отчет, над чем именно…
Недавно увидел телевизионную беседу с Викторией Токаревой. И абсолютно разделил ее эмоцию по поводу детали в чеховском рассказе «Накануне поста». Писательница говорила, как ее веселит вот это место: «кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное, прыгает с окна на пол и прячется за шкаф.
– Просили тебя нюхать! – сердится он (Павел Васильич. – А.Щ.), накрывая рыбу газетной бумагой. – Свинья ты после этого, а не кошка…» Действительно, почему-то смешно, причем смех зарождается не на «свинье», а на «Просили тебя нюхать!» Из таких магических прозаизмов и состоит Чехов, а я, кто его знает, мог и пройти в жизни мимо этого драгоценного источника веселости, печали и утешения.
Но была Галя. Никогда в жизни у нас не было, чтобы один навязывал другому свои вкусы, или, скажем так, настойчиво что-то рекомендовал. Но всегда было взаимное любопытство к интересам, увлеченностям и чудачествам иного в нашей паре.
И вот, кажется, к месту будет вспомнить об одной сущей мелочи, но в свое время тронувшей меня и отложившейся теплой деталью взаимоотношений. Еще с самого начала легко и естественно установилось: в литературных вопросах Галина у нас – номер один. Ну, а в музыкальных – я. И вот однажды вечером мы расположились на диване, Галя разгадывает любимые кроссворды, я просматриваю материалы для «Библиотечной столицы», газеты, выпускавшейся маленьким издательством, где я был главным редактором, а в телевизоре попсовая певица под аплодисменты зала заводит песенку, которая в то время не звучала разве что только из утюга.
Я случайно взглянул на Галину и удивилcя какому-то напряженному выражению ее лица. Но… ведь о таком не спросишь? О чем, собственно?.. Мне показалось: это связано с телепередачей. И я сказал наудачу, между делом:
– Смотри-ка, неплохо поет. И песенка ничего…
И тут Галя заулыбалась:
– Мне тоже нравится.
Вот оказалось в чем дело! Жена стеснялась признаться, что ей по душе что-то попсовое при таком «авторитете» как я. Факт для меня и удивительный, и волнующий. Удивление вызывало то, что, оказывается, Галина еще не во всем преодолела неуверенности в суждениях, присущей всякой склонной к развитию натуре; неуверенности, свойственной молодости. Это важный порог в становлении личности. Когда-то, после бесчисленных проб и ошибок, наконец приходит перепроверенное практикой убеждение: верны именно твои оценки, а не расхожие мерки молвы, «света», казенных предпочтений или даже профессиональной критики. Скажем, не все, что попса, плохо. Как и не все из общепризнанного «великим» действительно хорошо… Без своей меры вообще невозможно стояние в жизни. Это, между прочим, относится как к истинным личностям, так и к примитивам «из народа». Я говорю о первых, чьи воззрения рождаются почти всегда непросто, но и ценятся окружающими дорого.
Вспоминаются некоторые детали моего собственного самоутверждения во вкусовых оценках.
В университете был студенческий хор, и я в нем участвовал. Руководил им молодой талантливый преподаватель консерватории Вадим Борисович Серебровский. Каждая его репетиция вносила что-то новое в мое музыкальное сознание. Но и вне занятий он непринужденно, как бы между прочим, наставлял нас в азах благозвучия.
Однажды всем хором мы в каком-то кафе отмечали чей-то (едва ли не самого Серебровского) день рождения. Я притащил свой аккордеон и наяривал танцевальные хиты. Наш худрук азартно развлекался вместе со всеми. Но, минуя в танце меня, старательно бегавшего пальцами по клавишам, он вдруг притормозил и, не отпуская партнершу, бросил:
– Саша, где твое чувство ритма? Вторая доля – синкопа!
С той поры, со своего собственного исполнения бразильского «Тико-Тико», я навечно усвоил главный атрибут свинга, моего самого любимого из всех видов джаза.
Исполненная бескорыстным артистическим энтузиазмом замечательная наша капелла ударно, можно сказать, недуром пополняла тогда свой репертуар, и однажды в награду нас послали в Москву – себя показать, других (в том числе А.В. Свешникова, корифея советского хорового искусства) посмотреть. Где мы только не побывали. На спектаклях самого модного режиссера Николая Охлопкова, в Зале Чайковского и в Доме Союзов – на репетициях предстоящих там концертов, в мавзолее Ленина и Сталина, на агитпункте в Госбанке СССР (выступали перед избирателями), на журфаке МГУ – обедали в студенческой столовой и т.д. Всего и не вспомнишь.
Шастали по зимней столице вольготно, с непосредственностью закаленных уральскими морозами туземцев. Девчонки без стеснения то и дело затягивали в такт ходьбе какую-нибудь голосянку. И вот вам пример всесилия попсы. Можно сказать, без пяти минут артисты по своему сценическому уровню, только что чаровавшие зал тончайшими оттенками волшебных мелодий Р. Шумана, И. Брамса, И. Штрауса и т.д., надев свои шубейки и выйдя на широкие московские просторы, тут же заводили довольно нудную, однако невообразимо популярную песенку, разнесенную по свету тогда еще молодым Владимиром Трошиным. Начиналась она словами «Вечерком за окном…», а заканчивалась четверостишьем:
…И для нас вешним днем
Расцветет все кругом,
Мы рядом, мы рядом с тобою, родная,
Счастливой тропинкой пойдём.
Вадим Серебровский, услышав ее за день уже не менее пяти раз, не выдержал.
– Девушки, ну как же так можно петь?
– А что?
– Какая там последняя фраза?
– «Счастливой тропинкой пойдём».
– Вот именно: счастливой! А вы тянете заунывно, как на кладбище.
– Так музыка же такая!
– Давайте-ка снова последний куплет. И – раз…
И беззаботное наше перемещение до ближайшего метро, не заполненное, казалось бы, ничем, кроме пустяковой песенки, превратилось в занятное и содержательное времяпрепровождение.
У нашего творческого коллектива была, помимо высоких эстетических устремлений, прагматичная и очень земная цель – поехать на очередной всемирный Фестиваль молодежи и студентов. Мне запомнилось одно наше конкурсное выступление. Точнее, не оно само, а одна малюсенькая деталь, наверняка не замеченная больше никем.
Мероприятие, то ли свердловское, то ли межобластное, проходило на стадионе. Иногда между показывавшимися перед отборочной комиссией номерами случались перерывы, и тогда по стадионному радио крутили популярную эстраду. Я сидел на болельщицкой трибуне рядом с Вадимом Серебровским. И вдруг услыхал песню, совсем недавно возникшую в радиоэфире и сразу запавшую в душу и память. «С первой встречи с тобой…» Какая-то очень слитная композиция, нераздельная как каслинская статуэтка, и как она же – ажурная в изяществе мелодии и ритма. Для меня это был, выражусь по-новомодному, настоящий улет.
Я пытался поделиться этим своим ощущением с окружающими в каких-то необязательных разговорах, рассчитывая на поддержку или, напротив, возражение (и то, и другое было бы ценимо мною), но не нашел и тени интереса. Меня же беспокоила неуверенность в своих собственных вкусах (и не только музыкальных), девственно нетронутых с малолетства. Верные они или несуразные?.. Раздражался, слыша равнодушную общепримиряющую мудрость: на вкус, на цвет товарища нет. Хотелось определенной демаркационной линии в себе самом. Разве не прав Маяковский, сформулировавший базовую антитезу жизни: что такое хорошо и что такое плохо?
Так вот, в тот запомнившийся день со случайно прозвучавшей полюбившейся мне песней было так. Сидевший рядом Вадим Серебровский отрешенно, как бы от нечего делать, негромко сказал – то ли мне, то ли сам себе: «Ну как, как он каждый раз придумывает такие красивые мелодии?..»
Он – это Андрей Эшпай, я хорошо помнил его имя, хотя еще и не знал, в отличие от своего соседа, каких-то прочих его мелодий. Меня пронизала, как говорится, нечаянная радость. Ясное дело, не столько за неведомого мне автора с необычной фамилией, сколько за себя: я сам для себя открыл этого сочинителя, и это открытие, как выяснилось, не ложно. Выходит, и моя художественная интуиция, скорей всего, также не ложна, и на нее можно положиться?..
С той поры я невольно стал испытывать к лично мне не знакомому Эшпаю какую-то особую… родственность. Появлялись его новые сочинения («А снег идет», «Два берега», «Серёжка с Малой Бронной», «Я сказал тебе не все слова» и т. д.) – и я всякий раз смотрел именинником и как бы напоминал (неизвестно кому): «Ну, я же говорил…» И снова возвращался к давней реплике Серебровского: «Ну как, как он каждый раз придумывает такие красивые мелодии?..»
…Тот наш минутный «музыкальный» разговор перед телевизором проявил какую-то Га̀лину незащищенность, скрывавшуюся ею. Она-то меня как раз и тронула. С детства выработавшая не только самодисциплину поведения, но и линию внешнего самопредставления, Галя не хотела, а может, и не умела проявить какие-то слабости. Я догадывался об этом, но никогда не пытался проникнуть в тайны ее психологического закулисья. История же с песенкой на мгновение открыла доступ к нему. И подвинула нас еще ближе друг к другу.
А песенка была и впрямь занятная, со словами столь нарочито бессмысленными, что их можно воспринять как новоявленную, «под Хлебникова», постпостмодерную дислексическую поэтику, и с музычкой, испещренной любимыми мной свинговыми «хроманиями».
Да, а хор наш действительно поехал на VII Всемирный фестиваль молодежи в чрезвычайно музыкальный город Вену (кстати, впервые это мероприятие прошло в капиталистической стране), но… без меня. Ровно за 9 месяцев до того я уехал из Свердловска в Челябинск, как вскоре выяснилось, навстречу главным событиям своей судьбы. Ныне, подбивая кое-какие итоги, я склонен думать: все истинно сущностное в ней, как правило, следует за отказом, сознательным или не очень, от чего-то казавшегося безусловно ценным, желанным. Как компенсация. Или – вознаграждение. Это какая-то загадка диалектики, отрицание отрицания… Во всяком случае у меня очень часто было так.
V
На втором курсе я не только отлавливал и проглатывал переводные западные книжки, а еще и пытался сочинить что-то свое. Несколько начальных страничек под названием «Плюшевый мишка» показал студенческому другу Доброхотову.
– Вот! – торжествующе поднял палец Ленька. – Истинно творческий человек не мог по-иному реагировать на потрясение. – Доброхотов знал про мою аварию на личном фронте.
Но я оказался личностью если и творческой, то все же не очень… Не «истинно». Недолго мое разочарование сублимировалось под крылом «музы прозы» (выражение Андрея Битова). Бросив рассказ на полпути, я сбился на проторенную (тернистую?) мужчинскую колею замещения потери.
На краю моего периферического зрения давно безотчетно маячил образ красивой статной блондинки. Она однажды упоминается в книге «Шелопут и Королева» и обозначена там как Эва. Был у этого образа недостаток – Эва была если не подругой, то хорошей знакомой Люси. Но, видимо, хотелось как можно быстрее залечить рану сердечной утраты. Ну, еще и красота… Она же спасет?.. Короче, я решил пренебречь этим настораживающим обстоятельством, однажды пришел в Институт иностранных языков, где училась Эва, подстерег ее и пошел провожать.
Чтобы попусту не интриговать читателя, сразу скажу, ничего путного из этого не вышло. Как я не нажимал стартер, зажигания – во мне самом – не случилось. Эва тут не причем. Она была хорошим и интересным человеком.
Вспоминается забавный случай. Мы возвращались с молодежного вечера в их институте. Она жила «в частном секторе», у черта на куличках. Так что о чем только мы не поговорили за долгую дорогу.
– А как ты относишься к Джине Лобриджине? – вдруг спросила Эва.
Она именно так произнесла. Ни за что бы не догадался, о ком речь (я еще не видел даже «Фанфана-тюльпана»), если бы только вчера или позавчера не услышал похожее звукосочетание в лекции Бориса Васильевича Павловского. Большой умница, он дисциплину «Основы марксистско-ленинской эстетики» превратил в содержательный экскурс по современному искусству. И несколько занятий посвятил неореализму, о котором большинство из нас не знали ничего.
Когда же по дороге на «Пивзавод», именно в этом поселке жила инъязовская девушка, зашла речь о «Лобриджине», я вспомнил, во-первых, истинную фамилию итальянской актрисы (конечно, по-джентльменски не стал поправлять собеседницу). А, во-вторых, с легкостью изложил мнение о ней (в качестве своего, разумеется) нашего замечательного университетского просветителя. Оно, как я помню, было совсем не восторженным.
Однако дорога наша все еще тянулась. И последовал следующий вопрос:
– А как ты относишься к Евтушенко?
«Ага, – подумал я, – и ты туда же». Дело в том, что уже какое-то время я от наших факультетских девчонок не раз слышал эту фамилию. А недавно в какой-то газете набрел на два стихотворения этого автора и, конечно, прочитал. Мне понравилось и не понравилось. Понравились слова, незатертые, чистые, с придумками. Не понравилась… позитура стихов: они, казалось, силились встать на цыпочки. Стремились говорить (вещать?) в повышенном (возвышенном?) по сравнению с нормальным тоне, будто при готовом сорваться голосе. Не «по-пушкински». Мне нарочитая горластость в любом искусстве (кроме цирка) не нравится, а уж в литературе и подавно. Я подумал: автор – очередной девчоночий кумир.
Примерно так и сказал своей спутнице. И почувствовал: я, говоря нынешним слогом, не в тренде. Но, в отличие от суждения о Джине Лоллобриджиде, это было мое собственное мнение. Мне хотелось растолковать его. Совсем недавно в другой газете, кажется, в «Литературке», я прочитал стихотворение, тронувшее меня. И я по памяти прочел его.
Они
Лежали
На панели.
И вдруг
Они осатанели
И, изменив свою окраску,
Пустились в пляску, колдовские.
Я закричал:
– Вы кто такие?
– Мы – листья,
Листья, листья, листья! –
Они в ответ зашелестели, –
Мечтали мы о пейзажисте,
Но, руки, что держали кисти,
Нас полюбить не захотели,
Мы улетели,
Улетели!
(Леонид Мартынов)
Не знаю, прояснили ли девушке эти строфы мои читательские вкусы. Что касается меня самого, то скоро я признал Евтушенко «своим» поэтом за яркое выражение общественно-политических позиций, которые я разделял. «Приподнимание на цыпочки» – это родовая черта большинства из нас, «шестидесятников», склонных придавать избыточную силу словам. Не всем, но тем, которые есть наше кредо. В телеинтервью 1992 года Галина говорила: «Как выяснилось, шестидесятничество – это в основном некая словесная деятельность. Мы все ушли в слова. Мы в них верили, это было совершенно искренне».
Так что ж на зеркало – на поэта – пенять…
…Но какое же это было, действительно, необыкновенное время – конец 50-х. Вот вспомнился неореализм. Кино, развлечение. А между тем тогда перед нами открылись… критерии истинности искусства. (Многоточие здесь означает мельком скользнувшую мысль: такое осознание искусства – признак и привилегия ума, адекватно воспринимающего жизнь и все сущее.) А все было просто: «Ночи Кабирии», Джульетта Мазина, Федерико Феллини…
Я не смог найти никакой хронологической зацепки и полагаюсь только на память. Это было опять же в 1958 году, зимой – потому что утром была еще ночная темень, мы вдвоем не помню с кем (но, кажется, с Леней Доброхотовым) вместо утренней пары ехали в какой-то очень далекий клуб. Туда занесло осколок некоего важного события в кинематографическом мире то ли в СССР, то ли в Европе (всего скорее, фестиваля в Каннах. И как можно было не любить Свердловск – за его претензию и умение вписаться в столичную и даже мировую «парадигму»). В тот день навсегда вошли в мое ментальное существо упомянутые «Ночи Кабирии», Джульетта Мазина и Федерико Феллини. Излишне и бездарно было бы занимать читателя впечатлениями. Скажу только, что тогда в мое сознание двадцатилетнего был вписан Абсолют меры актерского волшебства. И режиссерского тоже.
…Да, трудно было дать отчет себе о самом себе. Разлад в отношениях с Люсей, пусть не простых и ясных, ощущался как крушение: как-никак более четырех лет непритворного вибрирования, ставшего непреложной частью внутреннего мира. И рядом, одновременно – первозданные предчувствия-ожидания какого-то иного, обновленного, что ли, существования. Оптимистичная, просветленная эмоция. Именно в те месяцы я был подхвачен еще и очередной волной книжного сумасбродства.
Началось с работы в «Резинщике». Мне в нем положили жалованье в 930 рублей. По сравнению со стипендией третьекурсника, 260 рублей, – целое состояние. Тем более при обитании в общежитии за символическую плату и сложившемся полуспартанском студенческом образе жизни. Едва ли не единственный период биографии, когда я не только не думал о деньгах, а жил в растерянности: куда их девать?
Я стал позволять себе посещение ресторанов – иногда с товарищем, очень редко с девушкой, а то и сам-один. День сдачи номера многотиражки в производство обрастал ритуальными действами. Сама эта операция по идее вполне обходилась участием одного человека, конкретно – меня. Но, как правило, в этот день в 15.00 являлся наш редактор Валентин Аполлонович, бодрый, с какой-нибудь из неизменных присказок на устах (он любил ими заключать свои передовички; скажем, посвященные физкультуре и спорту всегда завершались утверждением: «Ясно одно: победят сильные, умелые, тренированные!»). Руководитель строго спрашивал, готова ли газета. И деловито бросал: «Поедем на моторе (в смысле – на такси). Учти, метранпаж ждать не будет!».
Прилетали на улицу Ленина к редакции и типографии «Уральского рабочего», под роспись сдавали оригиналы и макеты мастеру (а не какому-то метранпажу) наборного цеха. Редактор облегченно вздыхал, словно сбрасывая с плеч непомерную ношу, удовлетворенно смотрел на часы, и… мы шли за близлежащий угол, где за кинотеатром «Совкино» был ресторан, на задворках которого на площади в два или три квадратных метра открывалась ничем не обозначенная безоконная рюмочная, «стоячая», без единого посадочного места. Там мы опрокидывали «свои боевые сто грамм» (или 150, уже не помню), заедали полагающимся рыбным бутербродом и со счастливым чувством выполненного долга расходились каждый по своим делам.
В моем случае чаще всего это была привычка проверять книжные лавки на предмет, нет ли чего-нибудь новенького. В связи с благоприятной финансовой конъюнктурой в зону моего внимания стали входить не только киоски и магазины, но и специализированные торжища, скажем, букинистические лавки. Однажды меня занесло в заведение, расположенное неподалеку от рюмочной в респектабельном, парадном полукруглом доме. Оно называлось «Подписные издания» – огромные буквы вывески были не нарисованы, а как бы вырублены из гранита. Или мрамора. И внутри тоже все было – шик, блеск, красота. Можно было задохнуться от вида блестящих, как коробки дорогих конфет, корешков сотен книг, разобранных по различным благородным цветам.
Но еще больше я поразился, узнав, что многие книги можно купить. Я был наслышан о том, как люди, проведывавшие о предстоящей подписке на собрание сочинений… кого угодно, за недели записывались в какие-то списки, а за день или два до вожделенного дня не уходили из очереди ни днем, ни ночью ни при дождике, ни при морозе. И вдруг – на тебе! Оказалось, книготорговцы объединяли невыкупленные тома и разом продавали полные комплекты.
У меня в тот день в кармане было сто рублей. И я за 88 купил восемь томов семитомника Джека Лондона. Как это? А вот так: на первом развороте последней книги на левой страничке написано – «Сочинения в семи томах», а на правой – «Сочинения Том восьмой (дополнительный)».
Конечно, я, возвратившись в общежитие, первым делом сунул нос в восьмой том. Там оказались «Маленькая хозяйка большого дома» и «Сердца трех», мною не читанных. Я, как говорится, отпал, увидев в авторском предисловии к «Сердцам трех» следующее: «А теперь я советовал бы читателю, который любит стремительное развитие действия, …погрузиться с головой в повествование, – пусть он потом попробует сказать мне, что от моей книги легко оторваться».
Оказывается, этот роман писался с целью его кинематографического воплощения. «Какая-нибудь одна кинокомпания с помощью двух десятков режиссеров способна экранизировать все литературное наследие Шекспира, Бальзака, Диккенса, Скотта, Золя, Толстого и десятков менее плодовитых писателей. А поскольку на свете сотни кинокомпаний, нетрудно сообразить, как скоро они могут столкнуться с нехваткой сырья, из которых фабрикуют кинокартины». Это писалось в 1916 году! Стоит ли сегодня удивляться появлению кучи сфабрикованных ремейков. «И все-таки теперь, когда я кончил сей труд, – заключал предисловие Лондон, – я очень был бы рад, если бы не начинал его, – по одной простой причине: мне хотелось бы самому прочесть книгу и посмотреть, как она читается». Если бы я ничего не знал о Джеке Лондоне до того момента, я бы полюбил писателя за одно это его предисловие.