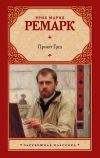Текст книги "Лисы мастерских"

Автор книги: Александр Шунейко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Всеми своими лицевыми мускулами и зубами старалась разделить общий восторг гражданка Швейцарии Франциска Штюк. В искусстве она понимала меньше живущего в сапожной мастерской таракана, но именно поэтому тянулась к нему своими хилыми ручками в нитяных браслетах, шитых бисером. Искусство брезгливо отстранялось, но она с педантизмом тюремной ключницы продолжала попытки.
Эта худенькая неопределенных лет старушка без макияжа и собственного выражения лица едва перешагнула тридцатилетний рубеж. Больше всего боялась вопроса, как в Швейцарии называют швейцаров. Уже много лет в России она искала мужа – обязательно писателя или художника. Увы, тогда прицельная охота приносила мало результатов. От нее только что ускользнул Юрий Николаев – художник-абстракционист, который искренне считал, что для настоящего живописца образование – вред, махал кистью во все стороны и уже намахал себе квартиру в Германии.
После осечки замаячил впереди прозаик Миша Пышкин. Он до судорог во всем теле желал жену заграничной выделки. Чтобы на этот раз не промахнуться, Франциска решила подготовиться основательнее – атаковать русскую культуру по всем направлениям. В томительном ожидании будущего брака она вгрызалась в нее как крыса в высоковольтный кабель. Первым делом поступила в аспирантуру. Затем окружала себя вязаными половиками и домоткаными скатертями. Потом начала исследовать русского поэта, который всю жизнь переводил с французского языка. И только после этого сшила себе широкую цыганскую юбку. Не хватало русской живописи.
После Николаева осталось много мазни. Но вся она мало походила на живопись, а тем более на русскую. Тут ее и притащила на выставку Фирсова знакомая католичка-истеричка Ксения Кишковская. Национальное настроение в работах Лёши чувствовалось всегда. В гамме широта раствора дыхания доходила до безоглядного отрицания границ.
Естественно, Франциска ничего этого не понимала и по слепоте своей видеть не могла. Она себя-то в зеркале не видела, что ее отчасти спасало от разочарований. Но с тщанием пожилой немецкой торговки она сложила вместе суету мышиного старичка, блеск в глазах публики, точку постоянного возврата, положение самого автора, которого, как известно, инстинктивно тянет к лучшим работам, и сделала безошибочный вывод. Надо брать эту ветку березы.
– Хочу это-о, – как само собой разумеющееся капризно протянула она, собирая в неприличный пучок морщин свои тонкие бесцветные губки, и ткнула пальцем в небольшое полотно сорок на шестьдесят, где в лазури растворялась готовая распустить почки, но притихшая под легким морозцем веточка березки.
То ли Лёше не понравилась интонация. То ли он испытывал антипатию к Франциске. То ли вспомнил роль немцев в российской истории. То ли неожиданно, как это с ним всегда и бывало, почувствовал, что намечается брешь в его обороне, куда готовы зловонным потоком хлынуть деструктивные силы. То ли ему захотелось покуражиться. То ли сложилось все это вместе. Но он резко включил деревенского дурачка – раздолбая и увальня.
– Да ну, да ты чё, да вот соседняя картинка куда лучше. А эта нет, – произнес он с отсутствующим видом, в котором внимательному глазу читалось: «Выкуси, заграничная сука, я, конечно, продаюсь, но не тебе, падла убогая».
– Хочу это, – ничего не поняла Франциска.
– А пойдем со мной, чё еще покажу. Не пожалеешь. Ты еще не все видела. Это мелочь, так, забава, пальцы на свежем воздухе размять, – оседлал любимого конька Алексей, который для куража на полную включил невменяемость. Так он поступал, когда отрицал право собеседника говорить с ним о чем-либо.
– Хочу это, – тупо повторила Франциска, начиная понимать, что зря не училась дипломатии у своего отца – чиновника из ООН. – Мне только это нравится, – добавила она.
– Да не смеши меня, тут и смотреть не на что. Прут торчит. Не может это нравиться. Вон то нравится, а это так, для метелки. Сгодится капусту квасить.
– Ой, Лёх, – резко включился в торг приятель Алексея, который предлагал зашить все карманы, а впредь любую одежду кроить без них, – продай ты убогой древесину. Глянь, как убивается. – Это существо с асимметричными плечами и клейкой лентой для ловли мух вместо кожи в теории пропагандировало лозунг: не будет карманов – не будет собственности. Но на практике алчно набивало свои карманы и уже тогда кормилось крохами от гонораров Лёши.
– Дак, вот я и говорю о том же, – учащенно закивал Лёша, – продать, продать, все сейчас продать, пойдем, вон лебедь висит, его и надо продать. Разве ж я спорю? Согласен.
Много времени понадобилось Франциске, чтобы понять, что над ней открыто издеваются на потеху собравшейся вокруг публики. Даже разносивший шампанское лакей забыл о профессиональной невозмутимости. Даже суровые педагоги прятали улыбки под непроницаемыми бородами, уже добротно смоченными вином. Даже истеричка-католичка Ксения серьезно обдумывала перспективу негромкого короткого смеха, но никак не могла определиться с его размером. Наконец зрителям надоело, и они стали расходиться.
В заметно поредевшей толпе шустрый мышиный старичок стал еще заметнее. Дирижер несуществующего оркестра или режиссер ненаписанной пьесы, он по одному ему ведомым правилам заполнял пространство гимназии фигуративом. Или это стены нашептывали ему, что здесь должны стоять три человека, а здесь – два и непременно разного роста. Для кого расставлялись им эти композиции? Вряд ли для их участников.
Было острое ощущение: как зрители ходят и оценивают полотна, так кто-то еще оценивает уместность, выразительность и эстетическую емкость их расположения. Все участники выставки стали марионетками в театре теней. И только истинный свет с Лёшиных полотен не дал этому театру окаменеть, растаять или захлебнуться в крови. С видом заговорщика юркий мышиный старичок поманил стойких ценителей живописи на балкон.
Большой длинный балкон с кованой решеткой на втором этаже уже сто лет нависал над Пречистенкой и видел всякое. Сейчас на нем в сгустившихся сумерках сидели очень разные по всему люди. Их объединяло знакомство с Алексеем Фирсовым и шампанское, которое они теперь пили прямо из бутылок, доставая их из стоящих тут же ящиков. По улице ездили машины, но все погрузилось в прозрачную тишину, какую могут дать только колбы из богемского хрусталя. Каждый в безмолвии слышал свое.
Тридцатилетняя старушка-побирушка Франциска Штюк слышала звон колоколов, перебивающий марш Мендельсона. Лёша Фирсов слышал шелест листьев, вплетенный в высокую ноту спасительной мантры. Его друг – противник карманов – слышал мерную работу машинки, отсчитывающей купюры. Католичка-истеричка Ксения Кишковская слышала невнятное мяуканье белой кошки Ульяны под шум океанского прибоя. Юра Поляков слышал восторженный гул голосов. Модель слышала скрип вселенского колеса и ласковый рокот гавайской гитары.
Увы, ни один из сидевших тогда на полу балкона людей не мог различить главных нот. Хотя они звучали для всех, их слышал только юркий мышиный старичок. Но он делился своим прикровенным знанием только с силуэтом худого мужчины в длинном серо-зеленом плаще.
С балкона в сторону временно отсутствовавшего тогда храма Христа Спасителя был виден культурный центр, расположенный в старом доме, который москвичи прозвали Дом Скуратова. Дом стоит за спиной каменного истукана, от него Остоженка и Пречистенка расходятся в разные стороны. Дом – вершина угла, собравшего в себе градусы российской истории.
Один из моих учителей Борис Шварцкопф мечтал о том, что когда-то здесь будет создан музей «От Скуратова до Берии», где соберут веками строившие российскую историю орудия пыток и покажут совершенствования процесса подавления свободной воли и уничтожения свободы личности в Тюрьме народов. Тогда и сейчас это выставочное пространство с куда более веселыми экспонатами.
Зимняя выставка Алексея Фирсова здесь по настроению отличалась от поливановской. Как и там, пространство диктовало свои законы, но правила эти были иные. Стены гораздо толще со слепяще белой свежей покраской хранили в себе не перешептывания гимназистов и благостные замечания наставников, а стоны невинно убиенных и вопли палачей. К ним было опасно прикасаться, они отталкивали от себя, грозили в любой момент сомкнуться и расплющить публику.
Полотна на стенах в точности походили на раскаленные металлические противни, которые равномерно разместили на льду. Они плавили лед, но не могли справиться с его толщей. Оазисы в безжизненной белой пустыне тянули к себе озябших зрителей. Те пугливо подносили к полотнам как к раскрытым дверцам печек расставленные веером пальцы, чтобы согреть их.
На этом фоне экспозицию совместили с концертом по лучшим образцам сборной советской самодеятельной солянки. Виолончелисты пилили души надрывом позднего и потому бесполезного признания. Балетные мальчики с отвращением швыряли своих потных надоевших партнерш. Чтецы ставили акценты на опорных словах. Юмористы доверительно перемигивались с первым рядом. Отлакированные эстрадные голоса мечтали пробить лбом ледяной потолок.
Всем руководила невысокая квадратная заслуженная тетка России с постоянно распрямляющимся локоном. Не успеет она до конца проговорить фразу – объявить кого-нибудь, как локон предательски распрямится. Не стесняясь зрителей, она сует палец в рот, слюнявит его и с силой наматывает на него прядь. Но локон держится секунды и опять безвольно повисает пегой полосой.
Концерт громыхал как пустое ведро, которое катится по каменистому откосу. Квадратная тетка боролась с локоном. На эстраде потасканная, не видавшая лучших времен пара невнятно бубнила дуэт из «Сильвы». «Помнишь ли ты?» – уныло на последнем дыхании вытягивал пузатый Эдвин в перелицованной фрачной паре, который в своей убогой жизни мог вспомнить только зевающие лица публики и дешевое пиво. «В сердце всем не хватит места», – уныло вторила ему похожая на скотницу графиня, которую давно уже не лапали даже пьяные рабочие сцены.
И тут нарастающий поединок безразличной бессильной ненависти на фразе: «Пусть это был только со-о-он», – прервал похожий на знаменитый вой Занзибарского хриплый крик: «Шлюхи-и-и». Он напоминал остервенелый вопль предводителя дворянства в исполнении Анатолия Папанова: «Хамы-ы-ы»– и крик о помощи. Одинокий страдающий голос оценивал и звал одновременно: «Поглядите, здесь одни шлюхи» и «Шлюхи, я к вам обращаюсь», – слышалось в нем.
Из-за неопределенности значения одни женщины торопливо достали зеркальца и стали себя оглядывать, другие пренебрежительно покосились на соседок, а третьи инстинктивно открыто обернулись на зов.
«Про тебя», – сказал Эдвин Сильве и картинно отстранился от нее. «Не вернуть нам эту шутку», – пискляво выдавила она и с размаху впечатала веер в его мясистое рыло. Костяшки веера брызнули во все стороны. Одна из них зацепилась за непокорный локон квадратной тетки. Та неодобрительно выматериалась, грозно встала и боевым порядком пошла на Сильву. Но запнулась о шнур микрофона Эдвина и растянулась в пестрой смене декораций.
Слово повторилось. Зрители решили, что настало время криков «браво!» и оваций и потянулись на зов. Перед мастерски сработанным полотном с прикрытым снегом сеном стоял парень. Ширинка на его штанах была расстегнута, а сам он округло разводил руки. Не глядя на публику, он уставился в какую-то одному ему ведомую точку на полотне.
– Хотите купить, так покупайте, шуметь для этого необязательно, – протиснулся к парню ярый противник карманов.
Тот отпрянул от картины и стал шарить глазами по обступившим его женским лицам, приговаривая: «Кого же это он здесь изобразил?» Парень явно не находил оригинала и в поисках искомого протискивался через толпу, пока не наткнулся на квадратную тетку. На его лице засияла улыбка, он удовлетворенно выдохнул: «Ты»– и потянул к ней руки. В иной ситуации заслуженная конферансье не стала бы набивать себе цену, но здесь было слишком много посторонних. Она заверещала: «Охрана»– и кинулась к выходу, увлекая за собой парня с расстегнутой ширинкой, хватавшего его за плечи противника карманов и остальную публику.
«Желтая» пресса потом писала: «Первые выставки начинающего живописца А. Фирсова радуют истинно русским размахом настроений и славянской прямотой эмоций. Здесь нет полутонов. Открыто издеваются над иностранными гражданами, поют, пляшут, с размахом пьют и вкусно едят. Здесь не найдете болезненных форм Европы. Но встретите здоровый славянский дух. Сам Ярило остался бы доволен. Поговаривают, что вдохновение автор черпает то ли в свальном грехе, то ли в оргиях ночи на Ивана Купалу. Этому можно поверить, если внимательнее приглядеться к линиям его холстов. Сотни сплетенных обнаженных женских тел просматриваются там. Для славян нет стыдного в наготе здоровых славянских дев».
– В Британии после такой публикации газета нас бы до глубокой старости кормила, – мечтательно заметил Лёша, после того как прочел заметку своей маме.
– За морем телушка – полушка, да рубль перевоз, – мудро ответила она и засмеялась.
Глава Б-1-4. Циркуль
МАТЕРЫЙ ЖИВОПИСЕЦ И ИЗВЕСТНЫЙ УКРОТИТЕЛЬ цвета Аристарх Занзибарский в Комсити нанес завершающий удар кистью по эпическому полотну «Утро мартеновской плавки». Посмотрел на сырую краску, хотел смачно плюнуть в похожий на обсосанный леденец расплавленный металл, но прослезился. И пошел докладывать жене Глафире, что скоро будут деньги на новый холодильник.
Утонченный, изысканный график Василий Некрасов в Ялте вспоминал о том, как через пустую бутылку слушал вселенную на прииске «Свободный». Его очень удивило то, что Альфа Центавра сегодня передает сигналы на мотив песни «Валенки». Он хотел поделиться этим наблюдением со своим другом техником Евстигнеем Сырцовым. Но поскользнулся и довольный повалился в снег.
Алексей Фирсов в Подмосковье без всякой охоты шел в детский сад. Его за руку вела мама. И это было единственное, что примиряло его с миром. Кроме тепла маминой руки все вокруг казалось пустым, враждебным и лишним. Ребенок искал способ защититься от этого ужаса и решил огородить себя стеной. Пока не знал, из чего ее сделает.
Александр Трипольский еще не родился. Но уже двадцать лет стоял страшный сложный дом, который будет для него пыткой и испытанием. Уже громыхали этажи, дрожали перекрытия, звенели балки от ресторанного угара. Уже несущие конструкции и тайные лестницы копили ужас ловушек. Уже первые жертвы для пробы совали головы в петли и духовки газовых печей.
Игорь Буттер втащил рюкзак, чемодан и сумку в комнату общежития Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.
Более старой, дряхлой ненавидимой авангардом, проклинаемой, высмеиваемой школы в России нет. «Мертвописанием, жерновом на шее, инквизиторским застенком, заплесневевшим погребом, в котором самобичуют искусство», – захлебываясь в бессильной злобе, обзывал академизм Казимир Малевич.
Но нет и более желанной, манящей, привлекательной и авторитетной. Она оплевана и любима. Она напичкана тайнами и низведена до уровня инфузории. Над ней носится призрак Александра Кокоринова. Он якобы повесился на ее чердаке от ужаса, который ему внушило собственное творение, и раскаяния в том, что он сделал, какой непоправимый вред нанес отечественной культуре.
Призрак этот беспорядочно летает над круглым двором внутри Циркуля и кричит: «Не верьте россказням и сплетням. Не ходите сюда. Нечему здесь учиться. Вас высушат и превратят в копиистов. Вас лишат зрения. Вам привьют вкус автомата. Вас заставят молиться на форму. От вас потребуют ластиком стереть все чувства». Устанет, посидит на крыше, поболтает ногами и опять в полет.
Абитуриент не видел архитектора и его слов не слышал. Потому что въехал он не в Академию художеств на Университетской набережной, а в студенческий городок на Новоизмайловском проспекте. Но и здесь у него от радости кружилась голова и подкашивались ноги. Это грозило не переломом, а порчей единственной пары ботинок, предназначенных для лета так же плохо, как и для зимы.

Высокий, худой, сутулый, нескладный парень Игорь Бут-тер, как и подобает этническому немцу, весь словно был осыпан мелкой мукой с примесью крупных веснушек и прыщей. Белесый, тестообразный, бесцветный он словно рекламировал пудру марки «Смерть застала врасплох». Непропорционально большие кисти рук постоянно двигались. Он с детства не знал, куда их деть.
Это подарило профессию. Чтобы занять кисти, Буттер перепробовал много разных дел: он отжимался от пола, колол дрова, подтягивался на перекладине, вязал, плел макраме, клеил конверты, стругал доски, лепил из хлебных мякишей ежей, даже воровать пытался. Комфортнее всего рукам было, когда во власть их движений попадали карандаши или кисти. Они на время затихали.
В самом начале семидесятых годов Игорь Буттер с собой в Санкт-Петербург, который тогда по злой иронии назывался Ленинградом, привез надежду, трудолюбие, три пары трусов, носки, картошку, две рубашки, полное отсутствие таланта, кусок хозяйственного мыла и острое желание стать знаменитым. Все это помещалось в фанерном чемодане, армейском рюкзаке и матерчатой сумке, подобной той, в каких нищие носят сухари.
Из всего этого с комнатой больше всего резонировала картошка. Своими габаритами, цветом стен, полом и потолком комната напоминала погреб, где много лет хранили овощи, а время от времени еще и содержали буйно помешанных. Выстроенная меньше десяти лет назад в традициях хрущёвского минимализма общага стараниями ее излишне творческих жителей превратилась в нечто среднее между притоном, ночлежкой и мусорным отстойником.
В комнате стояли четыре кровати, четыре тумбочки, четыре стула и один стол. Все серийного производства, но с несмываемыми следами художеств. Одна тумбочка была оклеена полосатыми обоями, другая разрисована цветочками, третья вся покрыта беспорядочной резьбой. Стулья соревновались в неустойчивости. Стены плотно изрисованы до полной неопределенности цвета и сюжета. Рядом с окном поверх этого слоя процарапывали новые рисунки.
Игорь Буттер присел на голую постель со странными следами сажи или копоти. Создавалось впечатление, что на ней то ли разводили костер, то ли ее использовали во время тушения пожара.
В комнату вошел низенький вертлявый парень с жидкими сальными патлами до плеч и жалкой бороденкой. Он с недоверием покосился на Буттера, пробурчал что-то невнятное, завалился на постель с бантиками, отвернулся к стене и тут же громко захрапел. Так началась студенческая жизнь Игоря.
История утаила, приходилось ли слышать Мстиславу Добужинскому, Константину Коровину или Борису Мессереру, что они недохудожники. Негласное мнение о том, что театральный художник, конечно же, художник, но не совсем, похоже на занавес. Оно исчезает, когда театральный художник поблизости и появляется, когда его нет рядом. Эту специальность изучал Игорь Буттер.
Специальность его удручала. Мнительности в его нескладной сутулой фигуре было даже больше трусости и осторожности. Он любил печалиться заранее, а потому тщательно приготовился к снисходительным взглядам классических рисовальщиков. Но на него попросту никто не обращал внимания. Это добавило печали. Впрочем, скоро он заметил, что внимания тут ни на кого не обращают. Часто и на себя.
Из рассказов мамы Буттер знал, что его семья попала в Россию в начале XVIII века и до начала XX жила благополучно. А потом началось: голод, ссылки, высылки, лишения, презрение, геноцид целого народа. Спокойнее стало в шестидесятые, когда семья остановилась в маленьком городке на краю мира возле большой реки. Эти рассказы мама итожила тем, что лучше не высовываться. Но Игорю очень хотелось именно проблистать, поразить, врезаться в память. Начало учебы исполнение желаний отсрочило.
В семидесятые годы идеологический контроль над молодежью мало чем отличался от тюремного режима. Сложно даже просто перечислить, что молодежи запрещалось: ярко одеваться, носить узкие брюки, короткие и обтягивающие юбки, ювелирные украшения, набивать тату, использовать косметику, красить ногти, пить, курить, слушать иностранную музыку, жевать жвачку, обниматься, целоваться, держаться за руки, трахаться, носить длинные волосы, иметь свое мнение, верить в Бога, посещать церковь, ходить с голым торсом. И другое.
Жестко пресекала все это целая армия надсмотрщиков: милиции, педагогов, дружинников, активистов. Под их пристальным, зорким, неослабевающим и постоянным приглядом молодежь находилась всюду и всегда. Увидит такой блюститель порядка на улице парня с длинными волосами, подходит к нему, достает из кармана портняжные ножницы и обстригает как бесправную овечку. А если ножницы дома забыл, то в ближайшее отделение милиции ведет, там его вовсе обреют наголо.
Для чего это делалось, нормальному человеку понять сложно. Власть считала, что в светлое будущее можно войти только под дулом пистолета, и настоящих строителей коммунизма можно воспитать только палочной муштрой. А в строю все должны быть одинаковые. Вот и делали тождественных по внешности и манере. Смешно, но иногда получалось.
Особенно контроль увеличивался в так называемых идеологических вузах, к числу которых относились все гуманитарные и художественные университеты и институты. Считалось, что здесь главные рассадники тлетворного влияния запада и центры по выведению врагов режима.
Тут тоже была своя армия цепных псов: комсомольская и партийная организации и преподаватели, в первую очередь, политических кафедр – истории, философии, политэкономии и прочей фигни. Профессиональные лжецы, которые работали на этих кафедрах, были особым антропологическим типом. Они отрекались от чести, отказывались от порядочности, забывали о совести. Без прежней активности, но они продолжают размножаться до сих пор.
Это люди с квадратными лицами, кустистыми бровями, фельдфебельскими складками, жирными затылками и писклявыми голосами. Они не могут обходиться без брюха и портфеля, обязательно носят галстук и какой-нибудь значок. Они проводили бесконечные собрания, где клялись в преданности власти и изобличали ее врагов.
Седьмого ноября 1971 года в общежитии студенческого городка дежурил доцент Дмитрий Дротченко. Этот титан социалистического реализма недавно, как довесок к должности, приобрел молоденькую глупенькую жену. Кроме зарплаты и жилплощади, дать он девушке ничего не мог, а потому боялся оставлять одну и постоянно таскал за собой. Даже на лекции усаживал за последние парты, где она умудрялась на его глазах обжиматься со студентами.
Усилия власти приносили обратный эффект. Стиснутая в тюремные рамки молодежь при любой возможности срывалась с катушек. Она опивалась до блевотины, обкуривалась до тошноты, обдалбывалась до отвращения. Она с маниакальной страстью включалась в соревнование, кто кого перехитрит. На каждое новое «нельзя» она отвечала: «А мы назло будем».
Кровать с бантиками в комнате Буттера занимал студент второго курса отделения живописи Вадим Михалевич. В честь праздника он пригласил к себе нескольких друзей и глухо с ними пил под разговоры о силе искусства.
Чтобы не шататься пьяными по коридору и не попасться на глаза доценту Дротченко, поссать выходили на балкон. Молодые художники не были варварами, потому перед тем, как справить малую нужду, как и подобает интеллигентным людям, они внимательно смотрели вниз и вовсе не хотели специально облить кого-либо мочой. Михалевич же вниз не глянул и вместе с приятным облегчением внизу живота услышал то ли недовольный, то ли восторженный крик: «Меня обоссали».
Кричала молодая жена доцента. В этот момент она проходила под балконом. Почувствовав на макушке подозрительную теплую струю, она подняла голову вверх и подставила ей лицо, чтобы убедиться, что это именно моча, и увидеть, от кого она проистекает. Доцент Дротченко тут же вместе с ней обошел комнаты и обличил с ее слов и по мокрым брюкам едва живого от страха студента Михалевича, которого его бантики не спасли.
Сразу после праздников было устроено открытое комсомольское собрание. Стены центрального зала невской анфилады помнили голоса Ф. С. Рокотова, К. П. Брюллова, А. А. Иванова, П. А. Федотова, И. Н. Крамского, В. И. Сурикова, В. А. Серова, В. И. Баженова, П. К. Клодта и многих других. Теперь тут собрались выблядки пролетарского искусства судить беззащитного мальчика за то, что он мальчик и он беззащитен.
Зал так плотно заполнили серые ткани, что он стал похож на свалку никому не нужной дешевой материи. Ткани шевелились, прижимались друг к другу и издавали звуки. Три яруса глаз с ужасом следили за этой смердящей кашей: олимпийские боги с плафона потолка, статуи из ниш, профессора с портретов. Все они, исполненные величия, славы, блеска, по уши завязшие в бессмертии, завернутые в муар торжественных тог не могли ничего сделать, чтобы защитить хилого мальчика с пушком хлипкой бороденки.
Они могли дарить талант и сюжеты, передавать мастерство, указывать образцы. Но они были бессильны перед теми, кто сейчас царил в академии. Потому что для этих холопских господ их дары вообще ничего не значили. Боги, статуи и портреты были докучным довеском, с которым ревнители пролетарского искусства снисходительно мирились. И в любой момент готовы были вышвырнуть из академии так, как они сейчас вышвыривали беззащитного мальчика.
– Друзья подарили мне на праздник Октябрьской революции акварельные краски, – правдоподобно лепетал заплутавший в собственной правоте Михалевич. – По этому поводу мы собрались обсудить сюжеты и попить чайку. Я вышел на балкон и автоматически выплеснул остатки чая вниз.
– А остатков горячего чая было полведра, – весело уточнил кто-то.
– Это был не чай, – орал поборник справедливости. Он трясся и тыкал под нос президиуму платье своей жены. – Чай так не пахнет. – Декан, секретарь парторганизации и проректор с интересом принюхивались.
– Но с чего вы взяли, что это именно моя моча, – пытался защититься студент Михалевич.
– Это просто доказать с помощью эксперимента! – заходился в крике доцент.
– И как вы планируете провести этот эксперимент? – уже с настоящим интересом спрашивал Михалевич. – Уж не прикажете ли мне прямо здесь вашу жену…
– Молчи, щенок, не дорос еще до моей жены!
– Ага, точно, еще лет полста потерпи, – подбадривающе крикнули из зала.
– Пусть потерпевшая пояснит, как она отличила мочу от чая, – вполне серьезно предложил секретарь парторганизации и не понял, почему зал ответил ему хохотом.
– Опомнитесь, господа, для того ли возводились эти святые стены, чтобы открыто глумиться над юностью, – шелестел из забытой кладовой заплутавший в академических нишах голос Василия Демут-Малиновского.
– Для того, именно для того и возводили, я из первых строителей, я знаю, – дребезжа стеклом, спорил с ним призрак Александра Кокоринова.
Михалевича исключили из комсомола и автоматически выгнали из института за аморальное поведение. Но доцент Дротченко на этом не остановился. Он жаждал превратить дело в политическое. Ссылаясь на то, что окропление мочой произошло Седьмого ноября, он заявил, что глумились в лице его жены над революцией и ее завоеваниями. Такой поворот не понравился ректору, потому что грозил ему креслом. Дело свернули, но на Буттера легла печать если не соучастника, то молчаливого соглашателя.
Провинциальному мальчику и так было тяжело в элитной среде мажоров. А тут тяжесть многократно усилилась за счет комплексов по поводу профессии и обвинений в диссидентстве. По беспомощному взгляду и опасливым движениям он стал похож на человека, идущего по тонкому льду.
Неуверенностью парня сразу же воспользовался его педагог по рисунку Верёвкин. Учитель был из семьи потомственных пролетариев. Как любого человека, занимающего не свое место, его отличали предельная строгость и грязное хамство. Он без остатка отдавал себя любимому делу – с утра до вечера оскорблял учеников. Делал это не по злобе, а потому, что сам был так воспитан.
Напрасно Буттер объяснял, что во время инцидента его не было в комнате, приводил свидетелей и клялся, напрасно садился в первый ряд на собраниях, бросался в глаза на демонстрациях. За ним закрепилась характеристика диссидента. Обидная и несправедливая для парня, который даже шнурки на ботинках стремился завязывать как на плакатах.
Если бы не было этого повода, то мастер Верёвкин нашел бы другой. Это был явный откровенный садист, который ловил кайф от того, что доводит людей до сумасшествия, суицида и на худой конец просто отчисления. Прикрываясь служением высокому искусству, он понижал самооценку собеседника до уровня выгребной ямы.
Группа состояла из семи человек. Между собой они не общались и видимости дружбы не создавали. Обучение – постоянное рисование: череда постановок, натурщиков, пленэров. Если на первых курсах в дополнение к мастерской для разнообразия были и лекции по разным предметам. То третий, четвертый и пятый курсы – только мастерская. Здесь для каждого у мастера находилось доброе слово.
Невысокий крепыш с красными грубыми руками спившегося сантехника не ходил, не вышагивал, а рыскал между мольбертами. Так голодная крыса рыскает по знакомому надоевшему подвалу, надеясь на то, что в нем появился кусок, в который можно вцепиться зубами. По его тусклым оловянным глазам читалась главная тоска неудавшейся жизни: ему нельзя было носить с собой бамбуковую палку и бить ею учеников.
Если бы у Верёвкина было такое право, то в мастерской слышались бы постоянный свист, шлепки бамбука об искромсанные тела, крики боли и мольбы о пощаде. На холсты вместо краски летели бы брызги крови. Он был бы доволен и весел. А так приходилось вместо палки действовать словами. Эффект сильный, но не тот. Приходилось постоянно домысливать и щурить глаза, чтобы не маячили перед ними молодые лица без синяков и следов жестоких побоев.
Он готов был платить студентам, чтобы они вечерами травмировали друг друга. Студенты согласны были увечить себя сами. Но все тонуло в мутных потоках слов, которые ежедневно выплескивались из лоханей надутых злобой щек Верёвкина.
Постановки он предпочитал делать минорные. Раскрытый фанерный чемодан компоновался с поломанной виниловой пластинкой, старой газетой, половой тряпкой и пыльными флаконами из-под одеколона. Но требовал, чтобы их изображали с позитивной жизнеутверждающей силой. Это никому не удавалось. Тут же сыпались оценки:
– Кисть от карандаша отличить не можешь. От твоей мазни трава жухнет и листочки на деревьях сворачиваются. Ты целого не видишь. У тебя глаз не настроен. Это вообще не глаз художника. А глаз официанта в дешевой забегаловке. Туда и топай. Может, что заработаешь.