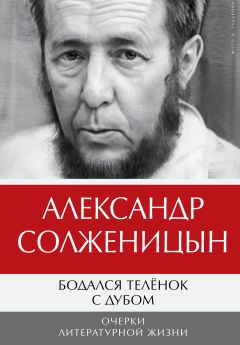
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
По образцу первого письма я думал снова послать экземпляров 150, сократясь лишь на нацреспубликах. Однако склонили меня не делать огласки разом, не разрывать одежд с треском, – а только угрозить этим треском. Показалось мне – разумно. И я решил своё второе письмо разослать лишь «сорока двум секретарям» и секретариату как целому – и никому не дать на руки, чтоб не пошло в Самиздат и не пошло за границу.
Ещё надо было выбрать наилучший срок. Хотя ничто меня теперь не гнало, у меня времени в запасе стояли озёра, – но сходнее было сдерзить до пышного Юбилея Революции. И вместо полугодия от съездовского письма я выбрал три месяца от встречи на Поварской. [3]
Однако снова петелька: надо же «советоваться» с А. Т., мы же опять в дружбе. А разве он может такой шаг одобрить?.. А разве я могу от задуманного отказаться?..
Я назначил день, когда буду в редакции. А. Т. обещал быть – и не приехал. Его томило, что я о договоре буду спрашивать! – и он избежал встречи. Так избыточная пустая затейка с этим договором тоже вложилась в общую конструкцию: я рвался с ним советоваться! но его не было! И к вечеру 12 сентября сорок три письма были уже в почтовых ящиках Москвы! Лучше оказалось и для А. Т. и для меня, что мы не встретились.
Но как он теперь? От этой новой дерзости – взовьётся? Секретари взвились, как от наступа на хвост, что-то кричал и рычал Михалков по телефону в «Новый мир», уже 15-го собрали предварительный секретариат для первого обгавкиванья, пока без стенограммы. И в тот же день послали мне вызов на 22-е. И в тот же день гнал за мной гонцов Твардовский.
Я ехал к нему 18-го, уже сомневаясь: не суета ли моя? Зачем уж я так наседаю на этот осиный рой? Ведь и крепко я стал, ведь и временем располагаю, – ну и работал бы тихо. Разве драка важнее работы?
Я и Твардовскому своё сомнение высказал в тот день, но он! – он сказал: надо было!! раз уж начали – доводите до конца!
Опять он меня удивил, опять вынырнул непредсказуемый. Куда делись его опущенность, уклончивость, усталость? Он снова был быстр и бодр, моё второе письмо как сигнал трубы подняло его к бою, – и он уже выдержал этот бой – предбой, Шевардино, – на секретариате 15-го. Говорил, что его поддержали (печатать «Раковый корпус») Салынский и Бажан, а были и поколебленные. «Дела не безнадёжны!» – подбодрял он себя и меня.
Одно-единственное заседание казалось мне разрушением и моего рабочего ритма и душевного стиля, уж я тяготился и сомневался. А он на своём поэтическом веку, как долгом тёмном волоку, – сколько их перенёс? триста? четыреста? Чему ж удивляться? – тому ли, что он поддался кривому ввинчиванию мозгов? Или душевному здоровью, с которым перенёс и уцелел?
Я сетовал, что он меня вызвал толковать, только от работы время отрывая. «Да может никакого времени скоро не останется!» – сверкнул он грозно. Он вот чего боялся, умелого, сдержанного Лакшина призвал и с ним вместе готовился меня уговорить и настроить, чтоб я был сдержан там, чтоб не выскакивал, не сшибался репликами, не взрывался от гнева, – ведь заклюют, ведь тогда я пропал, они же все опытные петухи.
Столько времени мы знакомы с А. Т. – и совсем друг друга не знаем!..
– Открою вам тайну, – сказал я им. – Я никогда не выйду из себя, это просто невозможно, в этом же лагерная школа. Я взорвусь – только по плану, если мы договоримся взорваться, на девятнадцатой минуте или – сколько раз в заседание. А нет – пожалуйста, нет.
Но А. Т. мне не верил, – если б так!.. Он-то знал, как вытягивают жилы на этих заседаниях, как ставят подножки, колют в задницу, кусают в пятку. Невыгодность расположения состояла для нас в том, что они читали «Пир победителей», обсуждали «Пир», хотели говорить только о «Пире» и бить по «Пиру» и «Пиром» – меня. А надо было заставить их замолчать о «Пире» и говорить о «Корпусе».
Всё же мы разработали, как я должен сбивать «Пир», не прерывая ни одного оратора.
Два дня я ещё имел время, в тишине, – но уже мысленно в бою. То, что могут мне сказать, спросить, как наброситься – так и выступало со всех сторон из воздуха, изводило меня преждевременно, вызывало на ответы. Я записывал возможные реплики – и тогда мои ответы.
Например: «Вы выносите сор из избы!» Ответ: «Всякая провокация заслуживает быть разоблачённой, и пусть о ней узнает хоть и весь мир. Боясь западной огласки, мы соглашаемся жить в постоянной безгласности. А безгласность – мать беззакония».
Например (жалко, не спросили): «На какие средства вы живёте?» Ответ: «Восемь лет я лакал собачью лагерную похлёбку – и тогда никто из вас не спросил, на какие средства я живу. Учителем я жил на 60 рублей в месяц – и никто из вас не спросил, на какие средства я живу. А теперь, когда издана моя книга, на которую, при моих малых потребностях, можно жить 10 лет, – это я вас спрошу: куда вы деваете народные деньги, которые так щедро вам расточают каждый год?»
Постепенно из отдельных реплик сама стала складываться возможная речь. Никогда в жизни не готовил я письменной речи дословно, презирал это как шпаргальство, – а вот написал. Конечно, я не мог предусмотреть точно всех задёвок, которыми меня встретят, но на наших собраниях и не привыкли, чтобы речи точно соответствовали друг другу, ведь чаще говорят мимо, кому что важней, и никто не удивляется.
Готовиться к этой первой (но тридцать лет я к ней шёл!) схватке мне, собственно, не было трудно: и потому, что очень уж отчётливо я представлял свою точку зрения на всё, что только могло шевельнуться под их теменами; и потому, что на самом деле предстоящий секретариат не был для меня решилищем судьбы моей повести: пропустят ли они «Раковый корпус» или не пропустят, – они всё равно проиграли. Равно не нужен мне был этот секретариат и как аудитория: безполезно было пытаться воистину их переубедить. Всего только и нужно было мне: прийти к врагам лицом к лицу, проявить непреклонность и составить протокол. В конце концов – ещё бы им меня не ненавидеть! Ведь я – отрицание не только их лжи, но и всей их лукавой прошлой, нынешней и будущей жизни.
И всё-таки, готовясь к этому копьеборству, я к концу дня уставал и хотелось снять избыточное, нетворческое, совсем ненужное мне напряжение. А чем? Лекарствами? Простая мысль: перед вечером – немного водки. И сразу смягчались контуры, и ничто уже не дёргало меня к ответу и огрызу, и сон спокойный. И вот ещё в одном я понял Твардовского: а ему тридцать пять лет чем же было снимать это досадливое, жгущее, постыдное и безплодное напряжение, если не водкой?.. Вот и брось в него камень. (Разговора о своих выпивках он очень не любил. Ему скажешь: «Должны же вы себя поберечь, А. Т.!» – отводит недовольно. И о куреньи его безостановном пытался я ему говорить, пугал раковым корпусом, – отмахивается.)
Мой план был такой: единственное, чего я хочу от заседания, – записать его поподробней. Это даст мне возможность и головы не поднять, когда будут трясти надо мной десницами и шуями: «скажите прямо – вы за социализм или против?!», «скажите прямо – вы разделяете программу Союза писателей?» Это и их не может не напугать: ведь для чего-то я строчу? ведь куда-то это пойдёт? Они поосторожней станут выражения выбирать, – они не привыкли, чтоб их мутные речи выплескивали под солнце гласности.
Я заготовил чистые листы, пронумеровал их, поля очертил, – и в назначенные 13.00 22-го сентября вошёл в тот самый полузал с кариатидами. А у них уже был густой, надышанный и накуренный воздух, дневное электричество, опорожненные чайные стаканы и пепел, насыпанный на полировку стола, – они уже два часа до меня заседали. Не все сорок два были: Шолохову приезжать было бы унизительно; Леонову – скользко перед потомками, он рассчитывал на посмертность. Не было ядовитого Чаковского (может быть, тоже из предусмотрительности) и яростного Грибачёва. Но свыше тридцати секретарей набилось, и три стенографистки заняли свой столик. Я сдержанно поздоровался в одну и в другую сторону и стал искать место. Как раз одно и было свободно. И оказалось оно рядом с Твардовским.
Терпеливо прослушав обиженное фединское вступление («Изложение» секретариата, [4]), я уловил те единственные пять секунд заминки, когда он слюну глотал, готовился дать кому-то слово, – и елейным голоском попросил:
– Константин Александрович! Вы разрешите мне два слова по предмету нашего обсуждения?
Не заявление! не декларация! только два безобидных слова! – и по предмету же обсуждения… Как важно было их вырвать! Я просил так невинно – Федин галантно разрешил.
И тогда я торжественно встал, раскрыл папку, достал отпечатанный лист и, с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул им своё первое заявление, отводящее «Пир победителей», – но не покаянно, а обвинительно, – их всех обвиняя в многолетнем предательстве народа!!
Я потом узнал: у них уже было расписано, кто за кем и как начнут меня клевать. Они уже стояли в боевых порядках, но прежде их условного знака – я дал в них залп из ста сорока четырёх орудий, и в клубах дыма скромно сел (копию декларации отдав через плечо стенографисткам).
Я сидел, готовый записывать, но они что-то не выступали. Я выбил из их рук всё главное – битьё «Пира победителей». Зашевелились, расчухивались – и Корнейчук полез с вопросом.
– Я не школьник, вскакивать на каждый вопрос, – ответил я. – У меня будет же выступление.
Но вот второй вопрос! третий! Они нашли форму: они сейчас запутают и собьют меня вопросами, превратят в обвиняемого! Это они умеют, жиганы!
Я отказываюсь: у меня же будет выступление.
Ага, значит верно клюнули! Они сливаются в гомоне – в ропоте – в вое: «Секретариат не может начать обсуждать без ваших ответов!» – «Вы можете вообще отказаться разговаривать, но заявите!»
Смяты и наши стройные ряды, они сбивают и мой план боя, – где уж тут безстрастно записывать. Но бездари, но бездари! – отчего ж эти вопросы ваши я знал заранее? Почему на все ваши устные вопросы у меня уже обстоятельно изложены письменные ответы? Только одна жертва: разодрать свою речь в клочья и клочьями от вас отбиваться.
Я подымаюсь, вынимаю свои листы и уже не исторически-отрешённым, но свободнеющим голосом драматического артиста читаю им готовые ответы.
И передаю стенографисткам.
Они поражены. Вероятно, за 35 лет их гнусного Союза – это первый такой случай. Однако прут резервы, второй эшелон, прёт нечистая сила! И мне задаются ещё три вопроса.
А, будьте вы неладны, когда же вас записывать! Это хорошо, что у меня все ответы готовы. Я встаю и выхватываю следующие листы. И уже всё более свободно и всё более расширительно, сам определяя границы боя, уже не столько на их вопросы, сколько по своему плану, я гоню и гоню их по всему Бородинскому полю до самых дальних флешей.
И – тишина, рассеянность, растерянность, неопределённость наступают в пространстве. И с фланга идут чьи-то ряды, но это – не вполне враги, это – полунаши. Выступают Салынский и Симонов, они хоть не вовсе за нас, но хотя бы за «Раковый». Враг растерян, никто не просит слова, и вопросов уже нет. Что такое? Да не есть ли это победа? Тяжёлыми драгунами Твардовский начинает реять и рыскать по полю: так принимаем решение! печатаем «Корпус»! и отрывок немедленно в «Литгазете»! да мы же принимали коммюнике, где коммюнике, Воронков?
Но подхватистый Воронков не спешит. Верней, он ищет коммюнике, он ищет, но не может сразу найти. (А только что мне моё письмо съезду понадобилось для цитаты – он раньше меня вывернулся и поднёс: «Пожалуйста!» – листовку, изданную «Посевом», я догадался отклонить.) Ещё немножко, ещё немножко им продержаться! Да где же имперские резервы?.. Там и здесь поднимаются из-под копыт: «Почему голосовать? Ведь ещё не решили! Ведь есть и против!»
И вот она, чёрная гвардия! – Корнейчук (разъярённый скорпион на задних ножках)! Кожевников! И на белых конях – перемётная конница Суркова! И дальше, и дальше, из глубины – новые и новые твердолобые – Озеров, Рюриков, на хоккеиста смахивающий Баруздин.
(Баруздин сидит рядом со мной, о каждом выступающем я у него осведомляюсь – кто это? А вон тот сидит? Называет соседа. Нет, вон тот? Называет другого соседа. Нет, между ними! – лицо, подобное холёному, пухлому заднему месту, с насаженными светленькими очками. Ах, это товарищ Мелентьев из «отдела культуры» ЦК. Тайный дирижёр! Сидит и строчит. Строчи! знай бывших зэков!)
И потом – все национальные роты (Абдумомунов, Бровка, Кербабаев, Яшен, Шарипов), – у них в республиках осваиваются целинные земли, строятся плотины, – какой «Раковый корпус»? какой Солженицын? Зачем он пишет о страданиях, если мы пишем только о радостном?
И сколько их? Конца нет их перечню! Только прибалты молчат, головы опустив. Они видят упущенный свой жребий. Стиханья нет затверженному шагу, обрыва нет заученным фразам. Враги заполнили всё поле, всю землю, весь воздух! Поле боя останется за ними. Мы как будто были смелей, мы всё время атаковали. А поле боя – за ними…
Бородино. Нужно времени пройти, чтобы разобрались стороны, кто выиграл в тот день.
На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впечатались одна на другую, одна на другую, и без пропуска (и травлю Пастернака начал он, и суд над Синявским – его предложение). У Дориана Грея это всё сгущалось на портрете, Федину досталось принять – своим лицом. И с этим лицом порочного волка он ведёт наше заседание, он предлагает нелепо, чтоб я поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбления Востока. Сквозь слой пороков, избледнивший его лицо, его череп ещё улыбается и кивает ораторам: да не вправду ли верит он, что я им уступлю?..
Я уже давно вошёл в ритм – пишу и пишу протокол. Лицо моё смиренно – о, волки, вы ещё не знаете зэков! Вы ещё пожалеете о своих неосторожных речах!
В последнем, уже четвёртом, выступлении я позволяю себе и погрозить в сторону отдела культуры ЦК («за “Пир победителей” ответит та организация, которая…»), и поиграть с Фединым – ну конечно же я приветствую его предложение! (Всеобщие улыбки! я сломлен!..) Ну конечно я за публичность! Довольно нам прятать стенограммы и речи!.. Печатайте моё Письмо, а там посмотрим!..
Ропот и вой. Поднимается Рюриков и, скорбно морща свой догматический лоб:
– Александр Исаевич! Вы просто не представляете, какой ужас пишет о вас западная пресса. У вас волосы встали бы дыбом. Приходите завтра в «Иностранную литературу», мы дадим вам подборки, вырезки.
Я смотрю на часы:
– Я хочу напомнить, что я – не московский житель. Сейчас я иду на поезд, и мне не удастся воспользоваться вашей любезностью.
Ропот и вой. Обманутый, разгневанный Федин закрывает обсуждение, длившееся пять часов. Я корректно буркаю два «до свиданья» через два плеча и ухожу.
Поле боя – за ними. Они не уступили нигде, нисколько.
Но чья победа?
В тот день я не успел повидать А. Т. Он послал мне письмо:
«Я просто любовался Вами и был рад за Вас и нас… Очевидное превосходство правды над всяческими плутнями и “политикой”… По видимости дело как будто не подвинулось… На самом же деле произошла, безусловно, подвижка в нашу пользу… Практически мой вывод такой, что мы готовы заключить с Вами договор, а там видно будет».
Но не меньше Твардовского меня удивило Би-би-си. Заседание окончилось в пятницу вечером. Прошёл weekend – а в понедельник днём англичане уже передавали о вызове меня на секретариат и о смысле заседания – довольно верно.
Не иголочка в стогу, теперь не потеряюсь!
ЦДЛ гудел слухами. Писатели, поддержавшие меня при съезде, теперь требовали разъяснений от секретариата.
Через несколько дней на правлении СП РСФСР огласили письмо Шолохова: он требует не допускать меня к перу! (не к типографиям – к перу! как Тараса Шевченко когда-то). Он не может больше состоять в одном творческом союзе с таким антисоветчиком, как я! Русские братья-писатели заревели на правлении: «И мы – не можем! Резолюцию!» Перепугался Соболев (ведь указаний не было!): товарищи, это неправильно было бы ставить на голосование! Кто не может – пишите индивидуальные заявления.
И струсили. Ни один не написал.
Среди московских писателей: а может, и мы с ними не можем?
Ну разве доступно ввинтиться в гранит? Разве есть такие свёрла? Кто бы предсказал, что при нашем режиме можно начать громогласить правду – и выстоять на ногах?
А вот – получается?..
Узда лагерной памяти осаживает мои загубья до боли: хвали день по вечеру, а жизнь по смерти.
Ноябрь 1967Рязань
Второе дополнение (ноябрь 1967 – лето 1970)
Странная вырабатывается книга. Не предвиденная ранними планами и не обязательная: можно писать, можно и не писать. Три года не касался, спрятав глубоко. Не знал, вернусь ли к ней, до того ли будет. Несколько близких друзей, прочитавших: бойко получается, обязательно продолжай! Вот в передыхе между Узлами главной книги (кончил «Август») припадаю к этой опять.
И первое, что вижу: не продолжать бы надо, а дописать скрытое, основательней объяснить это чудо: что я свободно хожу по болоту, стою на трясине, пересекаю омуты и в воздухе держусь без подпорки. Издали кажется: государством проклятый, госбезопасностью окольцованный – как это я не переломлюсь? как это я выстаиваю в одиночку, да ещё и махинную работу проворачиваю, когда-то ж успеваю и в архивах рыться, и в библиотеках, и справки наводить, и цитаты проверять, и старых людей опрашивать, и писать, и перепечатывать, и считывать, и переплетать, – выходят книга за книгою в Самиздат (а через одну и в запас копятся), – какими силами? каким чудом?
И миновать этих объяснений нельзя, а назвать – ещё нельзее. Когда-нибудь, даст Бог, безопасность наступит – допишу[32]32
См. Пятое Дополнение, «Невидимки».
[Закрыть]. А пока даже план того объяснения на бумажке составить для памяти – боюсь: как бы та бумажка не попала в ЧКГБ.
Но уже вижу, перечитывая, что за минувшие годы я окреп и осмеливаюсь больше и больше рожки высовывать, и сегодня решаюсь такое написать, что три года назад казалось смертельно. Всё явней следится моё движение – к победе или к погибели.
Тем и странна эта книга, что для всякой другой создаёшь архитектурный план, и ненаписанную видишь уже в целом, и каждой частью стараешься служить целому. Эта же вещь подобна нагромождению пристроек, ничего не известно о следующей – как велика будет и куда пойдёт. Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть её, можно продолжать, пока жизнь идёт, или пока телёнок шею свернёт о дуб, или пока дуб затрещит и свалится.
Случай невероятный, но я очень его допускаю.
Прорвало
Да, сходство с Бородином подтверждалось: с битвы прошло два месяца, почти ни одного выстрела не было сделано с обеих сторон, – ни газетного упоминания, ни особенной трибунной брани, – да ведь Пятидесятилетие Октября проползало, и требовалось им как можно нескандальнее, как можно глаже. Тоже и я, со склонностью к перемирию, своего «Изложения» о бое [4] в ход не пускал, правильно ли, неправильно, бережа для слитного удара когда-нибудь. Не происходило никаких заметных перемещений литературных масс, и поле боя, помнится, оставалось за противником, у него осталась Москва, – но чувствовал я именно в этой затиши: где-то что-то неслышно, невидимо подмывалось, подрывалось – и не звала ли нас обагрённая земля воротиться на неё безо всякой схватки?
С этим ощущением я приехал в Москву, спустя великий юбилей, и чтоб немного действий проявить перед тем, как на всю зиму нырну в безмолвие. Для действий – нужен был Твардовский, но его, оказалось, нет давно, уже целый месяц он пребывал в своей обычной слабости, в ней незаметно провёл и барабанный Юбилей (от которого неизлечимо-наивный Запад ждал амнистии хоть Синявскому-Даниэлю да своему слабонервному европейцу Джеральду Бруку – но не бросили, разумеется, никому ни ломтя с праздничного стола). Так всегда и получалось у нас с А. Т., так и должно было разъёрзнуться: когда нужен ему я – не дозваться, когда нужен мне он – не доступен.
День по дню пождал я его в редакции, созванивался с дачей, – наконец решено было 24 ноября ехать мне в Пахру, и вызвался со мною Лакшин. Выехали мы утром в известинской чёрной «Волге» ещё в лёгком пока снегопаде. Было у меня чтение в дорогу срочное, но не вышло, занимал меня спутник разговором. Это многим дико, а у меня инерция уже принятой работы, и тянет обязательно доделывать по плану, хотя посылается единственный, может быть, случай – вот поговорить с Лакшиным, с которым никогда почему-то не выходило. Да при неведомом шофёре какой разговор? Много было пустого, а всё-таки на заднем сиденьи негромко рассказал он мне интересное вот что: в 1954 году, когда решался вопрос о снятии А. Т. с Главного в «Новом мире», этого снятия могло бы не быть, если бы Твардовский вырвался из запоя. И его уже приводили в себя, но в самый день заседания он ускользнул от сторожившего его Маршака и напился. Заседание в ЦК складывалось благоприятно для «Нового мира»: Поспелов был посрамлён, Хрущёв сказал, что интеллигенции просто не разъяснили вопросов, связанных с культом личности, – и редакцию в общем не разогнали, но отсутствующего даже на ЦК главного редактора – как же было не снять?
Иногда спасительной разрядкой была эта склонность, иногда ж и губила.
Английский пятнистый дог встретил нас за калиткой. Вошли в дом безпрепятственно и звали хозяев. А. Т. медленно спустился с лестницы. В этот момент он был больнее, безпомощнее, ужаснее всего (потом в ходе беседы немного подправился и подтянулся). Сильно обвисли нижние веки. Особенно беззащитными выглядели бледно-голубые глаза. Ни к кому из нас отдельно, он высказал очень грустно:
– Ты видишь, друг Мак, до чего я дошёл.
И у него выступили слёзы. Лакшин ободряюще обнял его за спину.
В том самом холле, и сейчас мрачном от сильного снегопада за целостенным окном, недалеко от камина, где разжигался хворост о погибшем романе, мы сели, а Трифоныч расхаживал нервно, крупно. Короткую минуту мы ничего не говорили, чтобы А. Т. пришёл в себя, а для него это очень тягостно оказалось, и он спросил:
– Что-нибудь случилось? –
и крупно тряслись, даже плясали его руки, уже не только от слабости, но и от опасения чего дурного?
– Да нет! – поспешил я вскричать, – абсолютно ничего. То есть помните, какой мрачный приезд был тогда, – так теперь всё наоборот!
Он несколько успокоился, руки почти освободились от тряски. Мял сигарету, но не закурил. И, сев на диван, спросил с половинной тревогой:
– Ну, что в мире?
Очень это меня кольнуло. Я вспомнил, как школьником, два-три дня пропустивши в школе, я бывал сильно угнетён, как будто провинился: а что там без меня делалось? Как будто за эти дни неминуемо сдвинулся в угрозу тот внешний опасный мир. И то же самое, очевидно, испытывал он, когда вот так, на целый месяц, начисто отключался не только от журнала, но ото всего внешнего мира.
– В «Новом мире» или в остальном? – пошутил я.
– Во всём, – тихо попросил он.
Лакшин дал ему такую версию: после юбилея ничто не улучшилось, но ничто и не ухудшилось. А я даже хотел убедить, что лучше: в Англии была телевизионная инсценировка по процессу Синявского-Даниэля, поднимается новая волна в их защиту, так что дела неплохо… Но эта аргументация до обоих не доходила совсем: не было для них Синявского-Даниэля.
Чтоб не тянуть, я начал излагать своё дело: что ощущаю у противника слабину. Распробовать её лучше бы всего так: никого не спрашивая, пустить в набор несколько глав «Ракового корпуса». Даже если не пройдёт, то, при появлении «РК» за границей, я смогу справедливо негодовать на СП. Иначе, предупредил я, смотрите: вот появится «РК» за границей, неизбежно, и на нас же с вами свалят: скажут, что это мы не предпринимали никаких попыток, не могли друг с другом договориться.
А. Т.: – Это надо подумать, так сразу не скажешь.
А тон этот я уже знаю: это отказ. Пытаюсь убеждать: в обоих случаях, откажут или пропустят, – мы выигрываем!
А. Т.: – Это дерзость будет после всего случившегося – подать как ни в чём не бывало. Надо сперва идти говорить, но я уже не могу, поймите.
(Лакшин потом объяснит мне: в последний раз в «отделе культуры» Шаура опять навязывал Твардовскому читать «Пир победителей» – и А. Т. в который раз был достойно непреклонен: ворованную пьесу, распространяемую против воли автора, не взял в руки! – но слишком ругательно ответил Шауре, и больше не мог идти туда.)
Я: – Да не надо идти просить! Подать обычным образом – и ждать. Почему нельзя?
Лакшин (подобранно, вдумчиво): – Я не сказал Александру Исаевичу по дороге…
(А почему не сказал? не было времени? Да из-за этого и ехал он, теперь понимаю, но сказать должен был при шефе.)
– …а есть такой вариант. Был Хитров в отделе Шауры, перебирали то да сё, зашла речь о Солженицыне. Там удивляются: ему же 24 писателя сказали – написать антизападное выступление, как же он смеет не писать? Пусть напишет – и всё будет в порядке. Ну, не обязательно в «Правде» или в «Литгазете»… Пусть хоть в «Новом мире»…
(Да-а-а? Так они на попятную уже идут, на попятную. Не привыкли встречать твёрдость!)
Итак, предлагает Лакшин: действительно, набрать несколько глав «Корпуса» – и в том же номере, «ну хотя бы в отделе писем… – какое-то заявление А. И., что он удивляется западному шуму…».
Благоразумный мальчик (в 35 лет)! он качался со мной на заднем сиденьи, вёз капитуляцию – и не показал. Очень благоразумно, да, для этого маленького квадрата, но их – шестьдесят четыре, и надо видеть, что противник смят!
Однако я не успел даже ответить Лакшину, – отдать справедливость Трифонычу, он тут же нахохлился, забурчал:
– А что он может писать? О чём, если всё замяли? Письмо-то съезду было, его же не изменишь!
И – стих Лакшин, ни довода больше: мнение А. Т. важней для него, чем мнение ЦК. Стих, хотя внутренне не согласился.
Ну, и я не настаивал больше. Говорили о разном. Пили чифирно-густой чай. А. Т. ещё вставал, похаживал, садился – и всё больше благообразел, отходил от слабости. Тут Лакшин выложил на стол пачку новых книжечек Твардовского, а я по оплошности протянул А. Т. ручку:
– С вас библиотечный сбор.
Он даже не брал её, не пытался, руки-то тряслись! Извинительно:
– Я сейчас не сумею надписать… Я – потом…
Чтобы А. Т. не потерял интереса печатать «РК», я не собирался прежде времени рассказывать ему об «Августе Четырнадцатого». Но так показалось тягостно его состояние, что решил подбодрить: вот, Самсоновскую катастрофу пишу, к будущему лету, может быть, удастся кончить.
А. Т., уже возвращаясь и к иронии:
– Никакой катастрофы не было и не могло быть. Теперь установлено, что дореволюционная Россия совсем не была отсталой. Я читал одну экономическую статью недавно, так и положение крепостных перед 1861 годом рисуется весьма благоприятно: чуть ли не помещики их кормили, старость и инвалидность их были обезпечены…
(Самое смешное, что новая казённая версия гораздо верней предшествующих «революционных»…)
Мы пробыли меньше часа, ждала машина (известинские шофёры всегда капризничали и торопили новомирских редакторов), стали собираться. А. Т. надумал идти гулять, надел какой-то полубушлат очень простой, фуражку, взял в руки палку для опоры, правда не толстую, и под тихим снегопадом проводил нас за калитку – очень похожий на мужика, ну, может быть, мал-мало грамотного. Он снял фуражку, и снег падал на его маловолосую, светлую, крупную, тоже мужицкую, голову. Но лицо было бледным, болезненным. Защемило. Я первый поцеловал его на прощанье – этот обряд был надолго у нас перебит ссорами и взрывами. Машина пошла, а он так и стоял под снегом, мужик с палкой.
В редакции я сам смягчил разговор Костоглотова-Зои о ленинградской блокаде, чтоб не оставить у них серьёзных отговорок.
И уехал. Но едва до Рязани доехал – пришло письмо от Воронкова [5] – зондирующая нота: когда же, наконец, я отмежуюсь от западной пропаганды? Зашевелились?! Недолго думая, я тут же отпалил ему десятком контрвопросов: когда они исправятся? Жду и я, наконец, ответа!! [6]
И, облегчённый, поехал дальше, в глубь, в Солотчу, в холодную тёмную избу Агафьи (второй Матрёны), где в оттепельные дни мы дотапливали до 15° C, а в морозные я просыпался чаще при двух-трёх градусах. По своему многомесячному плану я должен был теперь прожить здесь зиму. Обложился портретами самсоновских генералов и дерзал начать главную книгу своей жизни. Но робость перед ней сковывала меня, сомневался я – допрыгну ли. Вялые строки повисали, рука опадала. А тут обнаружил, что и в «Архипелаге» упущенного много, надо ещё изучить и написать историю гласных судебных процессов, и это первее всего: неоконченная работа как бы и не начата, она поразима при всяком ударе. А тут достигло меня тревожное письмо, что продают «Раковый корпус» англичанам – да от моего имени, чего быть не могло, от чего я всеми щитами, кажется, оборонился! Так смешалась работа – а через несколько дней и ещё брякнуло, – то из Москвы уже выздоровевший Твардовский потянул в Рязань длинную тягу вызывного колокольца: явись и стань передо мной! срочно нужно! А что срочное – не названо, и конечно же выдуманное. Наработаешься с вами, леший вас раздери! Нехотя, медленно, брюзжа я собирался. Терпеть не могу, когда внешние обстоятельства ломают мой план работы.
А Твардовский то-то дивился, что я не бросаюсь тотчас: звали его и меня в секретариат СП СССР прийти побеседовать запросто; звонил ему Воронков, безпокоился: заплатил ли «Новый мир» Солженицыну хоть аванс за «Раковый корпус», – надо же человеку что-то кусать! («Кусать» – это расхожий термин у них для авторских потребностей.)
Ах, паразиты, вот как!! Да я и не удивляюсь: раз я стал неколеблемо – значит, вам колебаться! Я другому удивляюсь, что за полвека весь мир не видит этого простейшего: только силы и твёрдости они боятся, а кто им улыбается да кланяется – тех давят.
18 декабря я застал А. Т. в редакции уже плавающим в мягких облачных подушках на полуторном небе. Тоже не извещённый точно, Твардовский по мелким побочным признакам безошибочно вывел, что кто-то наверху, чуть ли не Сам (Брежнев), не то чтобы прямо указал печатать «Раковый корпус», нет, наверняка не так (признаки были бы иные), но обронил фразу в том смысле, что надо ли запрещать? И, где-то в воздухе опущенная, но не до пола, никем не записанная, эта фраза была тут же, однако, подхвачена и по людским рукам, по плечам, по ушам поползла, поползла, и онемел от неё аппарат Демичева, и все литературные марионетки, – а какие поживей и поприспособленней, вроде Воронкова, кинулись перед нею и хвостом промести. Итак, нисколько не решено ещё было, но поворот от сентября столь крут, что на сиденьи известинской «волги», везшей нас на улицу Воровского, Твардовский опять, как полгода назад, размечтался не только о журнальном печатании, но чтоб непременно сейчас же шла глава в «Литературку» для закрепления позиций, и опять перебирал, какую главу дать, какой «филейный кусочек» не жаль. В благодушной уступке уже назвал было предпоследнюю (Костоглотов по городу и зоопарку), но взял назад:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































