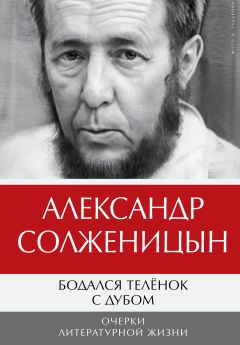
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
– Нет, права первой ночи я Чаковскому не отдам.
Были мы на пороге нового цензурного чуда? Тем и дивен бюрократический мир, что на краткое время внутри себя он может отменить все физические законы – и тяжёлые предметы вознесутся вверх, и электроны устремятся на катод. Но я в этот раз не ждал чуда и, помнится, не очень его хотел: ведь опять начнут выжимать строки и абзацы, гадость мелкая, а в Самиздате так безпрепятственно, так неискалеченно расходился «Корпус»! Мне уже больше нравился открываемый независимый путь. Однако я не препятствовал короткому счастью А. Т., не возражал.
Коренастый, широче́люстный хамелеон Воронков снова был внимателен и любезен, хотя не так рассыпчато, как после моего письма съезду, но и не тот же вышибала, который подсовывал мне листовку «Посева»! Вчетвером сели мы как в карты играют: мы с Твардовским друг против друга, Сартаков против Воронкова, только мы трое за маленьким столиком, а Воронков отнесен от нас тушею письменного стола, и, сам туша, сидел в тяжёлом кресле, однако и довольно подвижно. Я – только самое необходимое кидал, я сил нисколько не напрягал, не ощущая реальности всей игры; ехидно-аккуратный Сартаков тоже подбрасывал нечасто; а поединок, далеко не выражаемый в произносимых словах, происходил между Воронковым и атакующим Твардовским. Воронков хотел провести беседу, не сказав и не обещав ничего, а всё ж отметиться в дружелюбии. Твардовский, за 35 лет толканья в советско-литературном мире все эти ходы хорошо понимавший, хотел Воронкова прижать и хотя бы устного согласия от него добиться на печатание «Корпуса».
– Это – дело журнала, – удивлялся Воронков. – Как хотите, так и делайте.
– Но вы, по крайней мере, не возражаете?
– Да при чём же тут Союз писателей? – всё более изумлялся Воронков.
(Разве у нас кто-нибудь давит на издательства?)
– Не-ет, я не привык ездить в трамвае без билета! – фразою не из своего быта, но в СП отработанной, парировал Твардовский.
А если Воронков маневрировал наступательно, что надо же отрекаться (мне – от Запада и от письма), нельзя же обмолчать всю историю, – я просто отмахивался, уж языком молоть надоело, а Твардовский уверенно:
– Можно! Смолчим – и всё будет в порядке.
– Да как же можно умолчать?? – поражался любитель гласности Воронков.
– А вот так, – очень значительно и уверенно, будто прислушавшись к верхней части стены, припечатывал Твардовский. – Хрущёва сняли – умолчали, и прошло! А покрупней было событие, чем письмо Солженицына.
Как вообще дошёл Воронков до этого кресла? почему он вообще руководил шестью тысячами советских писателей? был ли он первый классик среди них? Рассказывали мне, что когда-то Фадеев выбрал себе в любовницы одну из секретарш СП, тем самым она уже не могла вести простую техническую работу, и на подхват взяли прислужистого Костю Воронкова. Оттуда он вжился, въелся и поднялся. Но что же он писал? Шутили, что главные его книги – адресные справочники СП. А впрочем, совсем недавно именно почему-то Воронкову (для того ль, чтоб судьбу «Нового мира» облегчить?), именно Твардовский доверил… драматургическую редакцию «Тёркина». Уж какой там безызвестный негр ту работу для Воронкова сделал – а стал Воронков драматургом.
Проговорили часа полтора – но всё ж не дался склизкий объёмистый Воронков в пухлые ручища Твардовского: манил и заметал, а ничего не обещал и ничего не разрешил. Пошли мы с А. Т. переулками к Никитским воротам и дальше Тверским бульваром к редакции. И за эти полчаса легкоморозных при умеренном зимнем солнышке, поддерживая А. Т. под руку и особенно бережа его на переходах улиц, ему необычных, заметил я, как в нём внутри прорабатывается, дорабатывается, дозревает – и возвращается к нему исходное радостное состояние, но уже не на мечте, а на собственной твёрдости. Вошли в «Новый мир» – распорядился он созвать редакцию, а мне сказал сдержанно-торжественно:
– Запускаем «Раковый» в набор! Сколько глав?
Договорились на восемь. А. Т. «садился в трамвай, не беря билета»!
О, сила безликого мнения! Развивая свою твёрдость (заложенную, впрочем, и в фамилию его, и быть бы ему таким всю жизнь!), не погнушался Твардовский пойти сам и в типографию «Известий» и там дал понять какому-то начальнику, что с «Корпусом» – не самоуправство, а есть такое мнение, и надо поторопиться. И партийный начальник, не представляя же подобной дерзости в другом партийном начальнике, так поторопился, что хоть и не в несколько ночных часов, как набрался «Иван Денисович», но к исходу следующего дня принесли в редакцию пачку гранок, и я, ещё не успевши унырнуть в берлогу, тут же провёл и корректуру. И тут же выдержал яростную схватку с Твардовским: он до белых гневных глаз запрещал мне давать впереди оглавление[33]33
Как это сделано в «Круге». Я предполагал так и в «Корпусе», позже отказался, может быть и зря. – Примеч. 1986.
[Закрыть], – и сама идея, и шрифт, и возможное расположение – всё было ему отвратительно: «Так никто не делает!» А я стоял на своём – и хоть поссорься и разойдись, хоть рассыпь весь набор! Вот так, на нескольких уровнях сразу, обитал Твардовский. Но и какой же, правда, я был для А. Т. отягощающий союзник во всём.
Совершился акт «набора», за рассыпку которого ещё будет долго попрекать западная пресса наших верховных злодырей, – совершился от наплыва слабости в ЦК и от прилива твёрдости у издателя. Мне продлило это денег почти на два года жизни, важных два года. Но очень скоро в ЦК очнулись, подправились (кто сказал ту неосторожную фразу – так и неизвестно, а может, и никто не говорил, на подхвате недослышали и переврали; кто теперь запретил – тоже неизвестно, вроде опять-таки Брежнев), – и засохло всё на корню.
Лишил их Бог всякой гибкости – признака живого творения.
А мне и легче – опять стелился путь неизведанный, но прямой, ощущаемо верный. Не отвлекало меня сожаление, что печатанье не состоялось.
Не то – Трифонычу. Для него этот срыв прошёл как большое горе. Ведь он поверил уже! он своей отчаянной храбростью как был воодушевлён! – но поглотило его порыв тупое, рыхлое тесто. Ему надо же было в эти дни что-то предпринимать, и тянуло делиться со мной, и он слал мне в Рязань телеграммы, что нужен я срочно (кажется – подготовить смягчения в тексте). А я – не хотел смягчений, и больше всего ехать не хотел, два часа до Рязани да три часа до Москвы, да как объяснить забывчивому селянину, что под Новый год десять окружных голодных губерний едут в Москву покупать продукты, за билетами очереди, поездка трудна, не поеду я мучиться. Я телеграфировал отказ. Тогда иначе: приехать сразу после Нового года! Да не поеду я и после, когда же работать, измотаешься от этих вызовов! А он не поймёт: общая наша борьба, почему же я равнодушен? «Да где он? я вертолёт к нему пошлю?!» Лакшин-Кондратович особенно изволили выйти из себя: «Если набирается вещь, автор обязан жить тут хоть две недели!»
А правильно, что я не поехал: из отдела культуры давили на Трифоныча опять, чтоб хоть смягчённое, да написал я письмо-отречение: «Ему пошли навстречу, напечатали “Ивана Денисовича”, а он чем отблагодарил? “Пиром победителей”?..» – «Не с кем разговаривать, – очень грустно вздыхал Трифоныч моей жене. – Даже не “Корпус” говорят, а “Раковая крепость”… – И мечтал: – А если б сейчас “Корпус” напечатать – ведь опять бы вся обстановка изменилась в литературе!.. Сколько б мы за тем двинули!..»
Прошло ещё дня два, и вот наш разлояльный Трифоныч тоже взялся за письмо! – век писем! – правда, письмо лишь к одному Федину, зато объёмом чуть не в авторский лист, А. Т. писал его долго, даже в пометке – больше недели, писал на даче в лучшие рабочие часы, собирая к нему мысли и фразы в чистке снега.
Письмо это было не только не в темпе идущей борьбы, но и не в манере её, действительно не «открытое», – и если бы предупредили А. Т., что оно разлетится, – он бы его скорей всего и не писал. В этой обстоятельной неторопливости, объёме, вспоминании о «барвихинских кущах» – уж никак не думал он о Самиздате. И видно, с каким огромным душевным трудом он преодолевает мучительное для себя письмо – и ведь пишет «без особых упований на благоприятный результат», но: «написать его было для меня делом долга и совести». Только из этого письма мы (и я) узнаём, что в секретариате СП создалось некое многомесячное «дело Солженицына», повлекшее «длинный ряд узких, расширенных и широких заседаний в секретариате» (Трифоныч и не рассказывал мне), «вопрос вопросов сегодняшней деятельности Союза писателей», и как от А. Т. требовали, чтоб он «употребил своё влияние на Солженицына», склонить его к выступлению против Запада; и как в удачный (это летом 1967) момент А. Т. уже составил «коммюнике» для секретариата, и Федин его редактировал и одобрил, – а вот отвергнуто; и что при последних встречах с Фединым (значит, поздней осенью 1967) А. Т. говорил ему «слова жестокие, может быть обидные… без достаточной выдержки и себе во вред». Но Твардовский все прошлые месяцы всё больше набирал общественной смелости, и уже в тех заседаниях и теперь в этом письме лепит им: да, после «Ивана Денисовича» писать по-старому уже никому нельзя, и это-то вызывает главное сопротивление; Солженицын «очень осложнил литературную жизнь… он находится в перекрестии двух противоположных тенденций общественного сознания». А. Т. не помнит от секретарей СП «даже попыток опровергнуть хоть один из пунктов его письма» съезду, «они неопровержимы… я подписался бы под ними обеими руками» (!!), – да А. Т. высказывался и в секретариате и в ЦК – и о цензуре, и о личной судьбе Солженицына «даже резче, чем он». И даже: из моего нигде же не опубликованного, никому (кроме А. Т.) не представленного протокола сентябрьского заседания секретариата А. Т. безстрашно цитирует Федину – и о земле отечества под моими подошвами всю мою жизнь, и о «Пире», как я там дословно выразился; и из последнего моего письма к самому А. Т.: что «моё внутреннее душевное состояние мне дороже судьбы моих вещей». И Твардовский – это всё разделяет! И для него тоже это стало так, почему он и пишет это письмо и, рискуя 5-м томом своего собрания сочинений, отказался снять упоминание о Солженицыне. Он ещё дописывает это письмо к Федину – «всё целиком зависит от Вас», разрешите печатание «хотя бы на усмотрение “Нового мира”», – но не в этих просьбах, а в своём душевном распрямлении главный смысл письма для Твардовского.
А дальше: дал двум-трём близким приятелям – и кто-то из них, соблазнясь, швырнул письмо в Самиздат. Твардовский только ахнул вослед.
А я в Солотче гнал последние доработки «Архипелага», по вечерам балуя слушаньем западного радио, и в феврале с изумлением услышал своё ноябрьское письмо Воронкову, – с изумлением, потому что никак не выпустил его из рук, отдельно и смысла не было, – а вот так и береги документы в запасе… (Ускользнуло, конечно, у Воронкова, обрезана была дата, как при поспешном фотографировании, но много лет мне будут поминать, что это – я.)
К марту у меня начались сильные головные боли, багровые приливы – первый приступ давления, первое предупреждение о старости. А только «Архипелаг» вытянуть – надо было ни на час не разгибаться апрель и май. Лишь бы в эти два месяца ничто не ворвалось, не помешало!.. Я очень надеялся, что вернутся силы в моём любимом Рождестве-на-Истье – от касания с землёй, от солнышка, от зелени.
Первый в жизни свой клочок земли, сто метров своего ручья, особая включённость во всю окружающую природу! Домик почти каждый год затопляло, но я всегда спешил туда на первый же спад прилива, ещё когда мокры были половицы и близко к крыльцу подходил вечерами язык воды из овражка. При холодных ночах вся вода утягивается в речку, оставляя на пойменных склонах и на овражке – крыши белостеклистого льда. Он висит хрупкий над пустотой, утром проваливается большими кусками, будто кто идёт по нему. В тёплые ж ночи воды в реке не менеет, она не отступает, а звучно громко всю ночь журчит. Да даже и днём не заглушают весеннюю реку машины с шоссе, мудрый звук её журчания можно сидеть и слушать часами, от часа к часу выздоравливая. То сильно крупно булькнет, то странно шарахнет (упала ветка, застрявшая на иве от более высокой воды), и опять многогласное ровное журчание. Матовое заоблачное солнце нежно отражается в бегучей воде. А потом начнёт на взгорках подсыхать – и ласкаешь тёплую землю граблями, очищая от жухлой травы для подрастающей зелёной. День по дню спадает вода, и вот уже можно вилами расчищать берег от нанесенного хлама и дрома. И просто сидеть и безмысло греться под солнышком – на старом верстаке, на дубовой скамье. Растут на моём участке ольхи, а рядом – берёзовый лес, и каждую весну предстоит проверить примету: если ольха распускается раньше берёзы – будет мокрое лето, если берёза раньше ольхи – сухое. (И каждый год: правильно! А когда распустятся одновременно – так и лето перемежное.)
Хорошо! Вот в такую же весну год назад здесь написана главная часть этих очерков. А через месяц, когда совсем потеплеет, озеленеет, – тут будем в несколько пар рук печатать окончательный «Архипелаг»: сделать рывок за май, пока дачников нет, не так заметно, и стук машинок не слышит никто.
Из Рязани в Рождество ехать через Москву. В Москве не миновать зайти в «Новый мир»: «Здравствуйте, Александр Трифонович!» Да что ж теперь «здравствуйте», отгорело давно, что было, уже не тем голова занята. Почти уже три месяца, как отослано письмо Федину, уже и на «горьковских торжествах» встречались, и что же Федин? Целовался с Твардовским: «Благодарю, благодарю, дорогой А. Т.! У меня такая тяжесть на сердце…» – «А правда, К. А., что вы у Брежнева были?» – «Да, товарищи вокруг решили, что нам надо повидаться». – «И был разговор о Солженицыне?» – (Со вздохом:) «Был». – «И что же вы сказали?» – «Ну, вы сами понимаете, что ничего хорошего я сказать не мог. – Спохватясь: – Но и плохого тоже ничего». (? – Что ж тогда?..)
Я слушаю, как всегда в «Новом мире», больше из вежливости, не спорю. Неплохо, конечно, что Трифоныч такое письмо послал (а по мне бы – вчетверо короче), еще лучше, что оно разгласилось…
У Трифоныча – неторопливость благородной натуры: врагов много, боёв много, всех не перечерпать, так и метаться нечего, а со временем всё одолеется, наше дело правое, возьмёт. Попьём пока чайку с мягкими бубликами.
Да! вот и рана, свежая: почему это по Москве ходит какое-то моё новое произведение, – а он, А.Т., обойден, – почему? почему я не принёс, не сказал ничего? Какие-то литераторы в Пахре имели наглость предложить А. Т. почитать, «я, конечно, отказался!».
(Ах, ну как всё объяснить! Да потому что принеси – обязательно задержишь, скажешь – не надо давать! А мне – надо, пусть гуляет. Это – «Читают “Ивана Денисовича”», бывшая глава из «Архипелага», при последней переработке выпавшая оттуда, а жалко пропадёт, ну – и пустил её…)
– Да, А. Т., не моя это вещь, потому и не принёс, я – не автор, я – составитель, там 85 % цитат из читателей. Я никак не думал, что это распространится и даже будет иметь успех. Я просто дал двум старушкам, бывшим зэчкам, почитать.
– Где эти старушки? – грозно порывается он. – Сейчас берём машину, едем к ним и отбираем. Как могло утечь?
– А как ваше письмо Федину утекло? Вы ж никому не давали!
Вот это – поразительно для него. Тут он верно знает, что не давал.
– Вам надо тихо сейчас сидеть! – внушает.
Сейчас – да, я согласен. Но всё же честно предупреждаю: если «РК» напечатают за границей – я разошлю писателям свои объяснения. (Какие объяснения – тоже нельзя говорить. Прежде времени ему скажи – лапу наложит, и плакало моё «Изложение». Так запретитель сам себя обрекает не знать никогда вовремя правды!..)
На том и уезжаю – тихо сидеть. Это было 8 апреля. И именно в тот же день во Франкфурте-на-Майне составлялась граневская динамитная телеграмма… Недолго мне в этом году предстояло попить ранневесеннюю сласть моего «поместья». Шла Вербная неделя как раз, но холодная. В субботу 13-го пошёл даже снег, и обильный, и не таял. А в вечерней передаче Би-би-си я услышал: в литературном приложении к «Таймс» напечатаны «пространные отрывки» из «Ракового корпуса». Удар! – громовой и радостный! Началось! Хожу и хожу по прогулочной тропке, под весенним снегопадом, – началось! И ждал – и не ждал. Как ни жди, а такие события разражаются раньше жданного.
Именно «Корпуса» я никогда на Запад не передавал. Предлагали мне, и пути были, – я почему-то отказывался, без всякого расчёта. А уж сам попал – ну, значит, так надо, пришли Божьи сроки. И что ж завертится? – после процесса Синявского-Даниэля через год и такая наглость? Но – предчувствие, что несёт меня по неотразимому пути: а вот – ничего и не будет!
За этой прогулкой под апрельским снегом застала меня жена, только что из Москвы. Взволнована. Знать бы ей неоткуда, ведь передавали только-только. Нет, у неё другая новость: Твардовский уже четвёртый день меня ищет, рвёт и мечет, – а где меня искать? В Рязани нет, московские родственники «не знают» (я в тайне храню своё Рождество именно от «Нового мира», только это и создаёт защищённость, а то б уж дёргали десять раз). В понедельник виделись, а со среды уже «рвёт и мечет»? «Ещё никогда не было так важно»? У них (у нас) – всегда «никогда», всегда «особый момент, так важно!». Только уши развешивай. Подождут. Не надо всякий раз «волки!» кричать, когда волков нет, тогда и будут вам верить. Не могу я каждый раз дёргаться, как только дёрнутся внешние условия. Вот поеду через три дня, переживёт Твардовский. Безчеловечно к ним? – но они ко мне не заботливей: за эти годы на все их вызовы являться – я б и писателем перестал быть.
Уж новей моего известия у них не может быть: выходит «Корпус» на Западе! И не о том надо волноваться, что выходит, а: как там его примут? И обдумывать надо – не чего там переполошился «Новый мир», а: не пришло ли время моего удара? Ведь томятся перележалые документы, бородинского боя нашего никто не знает, – не пора ль его показать? Хотелось покоя – а надо действовать! Не ожидать, пока сберутся к атаке, – вот сейчас и атаковать их!
Не объёмный расчёт ведёт меня – тоннельная интуиция.
С этим и еду я во вторник 16-го: запускать «Изложение»! Там страниц много, полста экземпляров перепечатаны впрок ещё за зиму (уже Литвинов и Богораз передавали своё прямо корреспондентам, но я ещё осторожничаю, я гнаный зверь, я прячусь за пятьдесят писательских спин), сейчас лишь сопроводиловку [7] допечатать быстро, связку бомбы, чтоб разрозненные части детонировали все разом и к понятному всем теперь сроку:
«…Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам… Упущен год, неизбежное произошло… ясна ответственность Секретариата».
В последний момент ещё держат меня за рукава московские друзья: надо подождать! именно сейчас, такой момент – общая реакция, сламывают воли… не надо раздражать верхи…
Так вот именно потому сейчас и двигать!!
Для этого я и приехал в Москву. А между прочим – заглянуть и в «Новый мир»: что там за переполох?
Крайнее возбуждение! горестный тёмный гнев на лицах Лакшина и Кондратовича – но ничего по-людски не говорят: иерархия и дисциплина прежде всего, без А. Т. нельзя! А тот никак с дачи не доедет: лопнул скат по дороге, у известинского заевшегося шофёра даже не нашлось ключа, колесо отвернуть. Через три часа А. Т. вошёл, напряжённый внутренне, но и – убитый, мною убитый! Теперь собралась в его кабинете вся главная коллегия, как следственная комиссия, испытующе-строгая. И кладут передо мной – так брезгливо, что даже в руках держать её мерзко, – грязную, гадкую телеграмму из предательских подлых «Граней» (а название-то какое хорошее для мыслящих людей!):
«Франкфурт-ам-Майн, 9.4., Новый мир
Ставим вас в известность, что комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад ещё один экземпляр Ракового корпуса, чтобы этим заблокировать его публикацию в Новом мире. Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу.
Редакция журнала Грани».
Так неожиданно, и столько тут противоречий, даже загадок, – не могу понять, в голову не лезет. Но мне и понимать не требуется! – провокация! – и как советский человек я должен… Им и самим тут почти ничего не ясно, но не хватает простой гражданской зрелости – с выяснения неясностей и начинать. К чему одному привыкли советские люди? – дать отпор! Чем разбираться, чем исследовать, чем обдумывать, – дать отпор! Прибитость многих десятилетий. Но и молодой, критичный, сообразительный же Лакшин немысляще нависает с остальными в той же стенке: дать отпор.
О, главная слабость моя – «Новый мир»! О, главная моя уязвимость! Ни с кем не трудно мне разговаривать, только с вами и трудно. Никакому советскому учреждению я давно ничего не должен, только вам одним, но через вас-то и цапает, и заволакивает меня вся липкая система: должен! должен! наш! наш!
Твардовский (значительно и даже торжественно):
– Вот наступает момент доказать, что вы – советский человек. Что тот, кого мы открыли, – наш человек, что «Новый мир» не ошибся. Вы должны думать – обо всей советской литературе, вы должны думать о товарищах. Если вы неправильно себя поведёте – наш журнал могут закрыть…
Постоянная угроза – могут закрыть… И я – не просто я, а либо жернов, либо шар воздушный на шее «Нового мира»…
После Бородина я возомнил, что я – свободный человек. Нет-нет, нисколько! Как вязнут ноги, как трудно вытаскивать их! Пытаюсь отнекаться тем, что:
– Опоздали «Грани». Вот уж «Таймс» напечатал…
«Таймс» – не важно, важны – «Грани»! важен отпор и советская принципиальность!..
Подсовываю А. Т. мою сопроводиловку, копию – Лакшину (Кондратовичу не даю, он читает через плечо Лакшина). Нет, на А. Т. не действует. И на остальных (глянув на А. Т.) не действует.
– «Таймс» – это не на русском…
Лакшин: – Очень важно, Александр Исаевич, перед историей. Ведь в справочниках всегда указывается первая публикация на родном языке. И если будет указано – «Грани», какой позор!..
Вдруг А. Т. пробуждается и к сопроводиловке:
– А вы собираетесь это рассылать?! Не время, не время! Сейчас знаете, какое настроение… можно головы лишиться… В уголовный кодекс добавляют новую статью…
Я: – Ко мне вся гармошка кодекса да-авно не относится, не боюсь.
А. Т.: – И вы уже начали рассылать?
Не начал я, но вру: – Да. – (Чтоб неотвратимее.)
Не одобряет, не одобряет. И даже в стол себе не хочет взять такой ошибочной, опрометчивой бумаги. Не это главное сейчас! Единомысленно и строго сдвинулись вокруг меня опять. И Твардовский прямо диктует мне:
«Я категорически запрещаю вашему нео-эмигрантскому, откровенно враждебному журналу… Приму все меры…»
Какие?! Правительство наших прав не защищает, но требует, чтобы мы защищались сами! – вот это по-нашему.
– А иначе, Александр Исаевич, мы вам больше не товарищи!
И на лицах Лакшина-Хитрова-Кондратовича каменное, единое: нет, мы вам больше не товарищи! Мы – патриоты и коммунисты.
О, как трудно не уступить друзьям!.. Да мне и действительно не хочется, чтобы «Грани» печатали «РК», только всё испортят, особенно когда уже началось европейское печатание. Ну что ж… ну, ладно… ну, телеграмму я дам… (Я сломлен?.. Так быстро?..) Пытаюсь сложить – а слова не складываются. Дайте подумать! Отводят в кабинет Лакшина. Но я как бы под арестом: пока не напишу запретительной телеграммы – из редакции не отпустят.
А всегда надо подумать! Всегда осмотреться. На обороте той же телеграммы карандашом – что это? Черновик:
«Многоуважаемый Пётр Нилович!
Я считаю, что Солженицын должен послать этому нео-эмигрантскому – (в этом нео они видят какой-то особенный укор!) – откровенно-враждебному нашей стране… Я пытаюсь срочно вызвать Солженицына, местонахождение которого мне сейчас не известно, в Москву. Жду ваших указаний. Твардовский.
11 апреля».
(Указаний после того не получил Твардовский и, изнывая, через сутки позвонил Демичеву сам. Тот: «А-а, пусть как хочет». А вы, мол, расхлебаете. Ещё в большем угрызении стал Твардовский искать меня.)
А слова-то телеграммы никак не складываются. Что-то я наскрёб, но совсем без ругани, понёс показывать – А. Т. разгневался: слабо, не то! Я его мягко похлопал по спине, он пуще вскипел:
– Я – не нервный! Это вы – нервный!
Ну, ин так. Не пишется. Утро вечера мудреней, дайте подумать, завтра утром пошлю, обещаю.
Кое-как отпустили.
А на душе – мерзко.
Л. К. Чуковская с недоумением:
– Не понимаю. Игры, в которые играют тигры. Лучше устраниться.
И правда, что за мо́рок? Как мог я им обещать? Да разобраться-то надо? Цепь загадок:
1) как могло случиться, что такую телеграмму вообще доставили? или огрех аппарата – или провокация КГБ.
2) кто такой Луи?
3) «ещё один экземпляр»? а где и кем доставлен первый? (И оба же – не безплатно! И деньги за мой «Корпус» уже пошли на укрепление Госбезопасности!)
Пока неотклонимо готовится мой залп из пятидесяти «Изложений», узнать о Луи, – и сразу находится бывшая зэчка (Н. И. Столярова, см. Пятое Дополнение), приносит дивный букет: никакой не Луи, а Виталий Левин, сел недоучившимся студентом, подторговывал валютой с иностранными туристами; в лагере был известным стукачом; после лагеря не только не лишён Москвы, но стал корреспондентом довольно «правых» английских газет, женат на дочери английского богача, свободно ездит за границу, имеет избыток валюты и сказочную дачу в генеральском посёлке Баковке, по соседству с Фурцевой. И рукопись Аллилуевой на Запад отвёз – именно он.
Всё ясно. Телеграмма – подлинная (доставлена по просчёту, по чуду), ГБ торгует моим «Корпусом», «Грани» честно предупреждают Твардовского, за это я должен по-советски облить их грязью, а ГБ пусть и дальше торгует моей душой, она – власть, она – наша, она – имеет право.
И полдюжины редакционных новомирских лбов полдюжины дней хохлятся в кабинетах, изливают друг другу, какой я негодяй, что скрываюсь от редакции, во всём угодливо кивают Главному, а он топочет на меня ногами, и угодничает перед Демичевым, и изнывает от страха за «Новый мир», – и ни один не вчитается в телеграмму, и ни один не позвонит на телеграф: да подлинная ли телеграмма? не поинтересуется: существует ли такой Луи? в какой стране? кто он и что?
Вот это и есть советское воспитание: верноподданное баранство, гибрид угодливости и трусости, только бы дать отпор – по направлению, где неопасно!.. Просто смешно, что накануне я мог обморочиться и заколебаться.
Оберёг меня Бог опозориться вместе с ними. Из штопорного вихря выносит меня на коне: потекли «Изложения»! И тут же, им вослед, попорхало ещё новое моё письмо – о Луи! [8] Если б не было Виктора Луи – хоть придумай его, так попался кстати под руку! За всё печатание «Корпуса» отвечать теперь будет ГБ, а не я! Чтоб А. Т. пристыдился, две записки день за днём оставляю ему в редакции – и, освобождённый, уезжаю в своё Рождество. Все удары нанесены, и в лучшее время, – теперь пусть гремит без меня, я же буду работать.
А прежде того – тихую, тёплую Пасху встречать. Храма близко нет, обезглавленный виден с моего балкончика – в селе Рождестве, церковь Рождества Христова. Когда-нибудь, буду жив или хоть после смерти, надо её восстановить. А сейчас только ночная передача Би-би-си заменит всенощное стояние. А в Страстную субботу, в мирный солнечный день, жаркий из-за того, что ветви ещё голы, с наслаждением ворочаю завалы хвороста, натащенного наводнением, проникаюсь покоем. Как Ты мудро и сильно ведёшь меня, Господи!
Вдруг – быстрые крепкие мужские шаги. Это – Боря Можаев, писатель, мой славный друг, щедрый на помощь. Пришагал на длинных, прикатил новую беду: словак Павел Личко самовольно продаёт из Чехословакии «Раковый корпус» англичанам.
Нет, никогда не знаешь, где подостлать.
Нет покоя! То же мирное солнышко светит на тот же оголённый лес, и так же мудро журчит, струится поток – но ушёл покой из души, и всё сменилось. Час назад, день назад победительна была скачка моего коня – и вот сломана нога, и мы валимся в бездну.
Что же мне делать? Отсечь и эту угрозу. Удержать защищённое равновесие на гребне или даже пике опасности, куда взметнули меня последние дни. Слишком много писем для нескольких дней, но уж такие дни, надо писать ещё одно! Может быть, нет худа без добра: защита от своих и одновременно хорошая возможность прошерстить и западных издательских шакалов, испоганивших мне «Ивана Денисовича» до неузнаваемости, до политической агитки.
Человеку свойственно бить по слабому, сильно гневаться на беззащитного. Сколькие советские писатели с удовольствием (и безо всякой даже надобности) лягали русскую церковь, русское священство (хотя б и в «Двенадцати стульях») или весь «западный мир», зная, насколько это безопасно, безответно и укрепляет их шансы перед своим правительством. Этот подлый наклон чуть-чуть не овладевает и мной, своё письмо (в «Монд», «Униту» и «Литгазету») я наклоняю слишком резко против западных издательств – как будто у меня есть какие-нибудь другие! (Н. И. Столярова вовремя поправляет меня…)
И вот уже (25.4) с напечатанным письмом [9] я шагаю в редакцию «Литературной газеты». Только гадливо встречаться с Чаковским – но, к счастью, нет его. А два заместителя (нисколько, конечно, не лучше), ошарашенные моим приходом, встречают меня настороженно-предупредительно. Как ни в чём не бывало, как будто я их завсегдатай, кладу им на стол своё письмишко. Кинулись, наперебой читают, вздрагивают:
– А в «Монд» уже послали?
– Вот сейчас иду посылать.
– Подождите! Может быть… Вы понимаете, это не от нас зависит… – Брови к потолку. – Но если…
– Всё понимаю. Хорошо, два дня жду вашего звонка.
Ещё в «ЛитРоссии» лысого, изворотливого, безстыдного и осмотрительного Поздняева пугаю такой же бумажкой – и ухожу.
Текут часы – и вдруг меня серое щемление охватывает изнутри: а не допустил ли я подлости? а не слишком ли я резок к Западу? а не выглядит это как сломленность, как подслуживание к нашим?..
Очень мерзко на душе. Вот самая страшная опасность: защем совести, измаранье своей чистой чести, – никакая угроза, никакая физическая гибель и в сравненье идти не могут.
Разуверили меня друзья, что ничего позорного в письме нет.
Но всё равно: не хочу от «Литгазеты» звонка согласия.
Да его и нет. Лишил их Бог разума на их погибель, давно лишил (а всё не гибнут…). В международной политике они справляются неплохо – потому что Запад перед ними едва ли не на коленях, потому что все прогрессисты наперебой перед ними заискивают, – а вот во внутренней почти всегда наши выбирают худшее для себя решение изо всех возможных. При отсутствии свободных собеседников это не может быть иначе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































