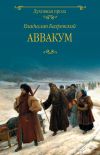Текст книги "Древнерусская литература, Жития"
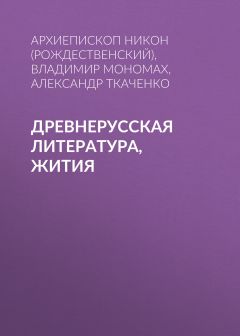
Автор книги: Александр Ткаченко
Жанр: Религия: прочее, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Да ещё когда я был в Даурии, на рыбный промысел к детям шёл по льду зимою, по озеру бежал на базлуках149, – там снегу не бывает, так морозы велика и льды толсты, с человека, намерзают, – а мне пить захотелось посреди озера. Воды не знаю где взять, от жажды не могу идти, озеро вёрст с восемь, до людей далеко. Бреду потихоньку, а сам, взирая на небо, говорю: «Господи, источивший Израилю, в пустыне жаждущему, воду! Один ты – тогда и ныне! Напои меня, какими знаешь судьбами!» Простите, Бога ради! Затрещал лёд, как гром, предо мною, стало вверх его кидать, и, как река, расступился туда и сюда и снова сошёлся вместе, и сделалась гора льда великая, а мне оставил Бог пролубку. И покуда строение Божие совершалось, я на восток кланялся Богу. И со слезами припал я к пролубке и напился воды досыта. Потом и пролубка содвинулась. И я, поднявшись и поклонившись Господу, снова побежал по льду, куда мне надобно, к детям150. И мне столь многое забыть ради прельщения сего века?!
К прежнему возвратимся. Видят они, что я с ними не соединяюсь, – приказал государь уговаривать меня Стрешневу Родиону, окольничему151. И я потешил его, – царь ведь он, от Бога поставлен, – помолчал маленько. Так меня поманивают: денег мне десять рублёв от царя милостыни, от царицы – десять же рублёв, от Лукьяна-духовника152 – тоже десять рублёв, а старый друг, Фёдором зовут, Михайлович Ртищев153 – тот и шестьдесят рублёв, горькая сиротина, дал; Родион Стрешнев – тоже десять рублёв, Прокопий Кузьмич Елизаров154 – тоже десять рублёв. Все гладят, все добры, всякий боярин в гости зовёт. Так же и власти, пёстрые и чёрные155, припасы ко мне везут да тащат, полну клеть наволокли. Да мне же сказано было: с Симеонова дня156 на Печатный двор хотели посадить. Тут, было, душа моя возжелала, да дьявол не пустил.
Помолчал я немного, да вижу, что неладно колесница бежит, попридержал её. Так написал и подал царю: «Царь-государь, – и прочее, как водится, – подобает тебе пастыря смиренномудрого матери нашей общей святой Церкви изыскать, а не просто смиренного и потаковника ересям; таковых же надобно избирать и во епископство, и в прочие власти; бодрствуй, государь, а не дремли, понеже супостат дьявол хочет царство твоё проглотить». Да там и многонько написано было157. Спина у меня в то время заболела, не смог сам выбресть и подать, выслал к (царскому) проезду с Феодором-юродивым158.
Он же дерзко к карете подступил и, кроме царя, никому письма не дал. Сам у него, протянув руку из кареты, пытался достать, да в тесноте людской не достал. Осердясь, велел Феодора взять и со всем, (что было при нём), под Красное крыльцо159 посадить. Потом, к обедне придя, велел Феодора к церкви привести, и, взяв у него письмо, велел его отпустить. Он же, покойник, побывав у меня, сказал: «Царь-де тебя зовёт», да и потащил меня в церковь. Представ перед царём, стал он перед ним юродством шаловать, – так (царь) его велел в Чудов отвести.
Я перед царём, поклонясь, стою, на него гляжу, ничего не говорю. А царь, мне поклонясь, на меня стоя глядит, тоже ничего не говорит. Да так и разошлись.
С тех пор и дружбы только: он на меня за письмо кручинен стал, а я тоже осерчал, за то, что Феодора моего под надзор послал. Да и комнатные160 тоже на меня: «Ты-де не слушаешься царя», да и власти на меня же: «Ты-де нас оговариваешь царю и в письме своём бранишь, и людей-де учишь в церкви к службе нашей не ходить». Да и опять стали думать в ссылку меня послать.
Феодора сковали в Чудове монастыре, – Божиею же волею и железа рассыпались на ногах его. Он же влез после хлебов в жаркую печь и, на голом гузне ползая, на поду крошки подбирал. Черн-цы же, увидав, бросились к архимандриту, что ныне Павел-митрополит161, и рассказали, а он и царя известил. Царь же, придя в монастырь, честь по чести Феодора приказал отпустить: где-де хочет, пусть там и живёт. Он ко мне и пришёл. Я его отвёл к дочери своей духовной, к боярыне Федосье Морозовой, жить162.
Потом меня в ссылку сослали на Мезень163. Надавали было добрые люди кое-чего, всё тут осталось, только с женою и детьми повезли; а я по городам снова их, пестрообразных зверей, обличал.
Привезли на Мезень и, полтора года (там) продержав, снова одного к Москве поволокли164. Только два сына со мною съехали165, а прочие на Мезени все остались.
И привезши в Москву, подержав (там некоторое время), отвезли в Пафнутьев монастырь166. И туда присылка была – то ж, да то ж говорят: «Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами!» Я отрицаюсь, что от бесов, а они лезут в глаза. Сказку им тут написал167 с большою укоризною и бранью и послал с их посланником: Козьма, дьякон ярославский168, приезжал с подьячим патриаршего двора. Козьма-то не знаю, коего духа человек: въяве уговаривает меня, а тайно подкрепляет, говоря так: «Протопоп, не отступай ты от старого того благочестия! Велик ты будешь у Христа человек, как до конца претерпишь! Не гляди ты на нас, что погибаем мы!» И я ему говорил, чтобы он снова приступил ко Христу. А он говорит: «Нельзя, Никон опутал меня!» Просто молвить, отрёкся перед Никоном от Христа, так уж, бедный, не может встать. Я, заплакав, благословил его, горюна: больше того нечего мне делать, то ведает с ним Бог.
После, продержав меня в Пафнутьеве на цепи десять недель, опять в Москву свезли, измученного человека, посадив на старую лошадь. Пристав сзади: погоняй да погоняй, иной раз лошадь и вверх ногами в грязь упадёт, а я – (кувырком) через голову. И за один день промчали девяносто вёрст, еле жив дотащился до Москвы.
Наутро ввели меня в Крестовую, и проспорили власти со мною долго169, а потом привели в соборную церковь. По «Херувимской», в обедню, стригли и проклинали меня170, а я в ответ их, врагов Божиих, проклинал. После меня в ту же обедню и дьякона Феодора стригли и проклинали171. Мятежно сильно в обедню ту было.
И подержав на патриаршем дворе, вывели меня ночью к Спальному крыльцу; голова досмотрел и послал в Тайницкие водяные ворота. Я чаял, в реку посадят – ан от Тайных дел шиш антихристов стоит, Дементий Башмаков172, дожидается меня. Стал мне говорить: «Протопоп, велел тебе государь сказать, “не бойся-де ты никого, надейся на меня”». И я ему поклонился, а сам говорю: «Челом, – говорю, – бью за его жалованье, какая он мне надежда! Надежда моя Христос!» Да и повели меня по мосту за реку. Я, идучи, говорю: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения»173, и прочее.
Потом полуголова Осип Салов174 со стрельцами повёз меня к Николе на Угрешу в монастырь. Посмотрю – ан впереди меня и дьякона тащат. Везли до монастыря болотами, а не дорогою и, привезши, в каморку студеную над ледником посадили. И других, дьякона и попа Никиту Суздальского175, в других каморках посадили. Стрельцов человек с двадцать с полуголовою стояло. Я сидел семнадцать недель, а они, бедные, изнемогли и повинились, просидев пятнадцать недель. Так их в Москву опять взяли, а меня снова в Пафнутьев перевезли176 и там в каморке, скованного, держали около года.
А когда я на Угреше был, туда и царь приходил и поглядывал, (ходя) около каморки, вздыхая, а ко мне не вошёл; и дорогу было приготовили, насыпали песку, да подумал-подумал, да и не вошёл; полуголову взял и с ним кое о чём поговорил про меня да и поехал домой. Кажется, и жаль ему меня, да, видишь, Богу уж то так надобно.
После и Воротынский князь-Иван177 в монастырь приезжал и просился ко мне, так не смели пустить. Денег, бедный, громаду в пакете подавал. И денег не приняли. После, когда в другое лето на Пафнутьеве подворье в Москве я скованный сидел, так он ехал в карете нарочно мимо меня, и благословил я его, миленького. И все бояре-те добры до меня, да дьявол лих. Хованского князь-Ивана178 и батогами за благочестие били в Верху; а дочь-ту мою духовную Федосью Морозову и совсем разорили, и сына её Ивана Глебовича уморили, и сестру её княгиню Евдокию Прокопьевну, тоже дочь мою духовную, с мужем и с детьми, измучив побоями, развели. И ныне мучат всех179, не велят веровать в старого Сына Божия, Спаса Христа, но к новому богу, антихристу, зовут. Послушай их, кому охота жупела и огня, соединись с ними в преисподний ад! Полно о том.
В Никольском же монастыре было мне в каморке в Вознесеньев день Божие посещение; в царёвом послании писано о том, там обрящешь180.
А когда меня свезли в Пафнутьев монастырь, тут келарь Никодим сперва был добр до меня в первый год, а в другой привоз стал, горюн, жесток: задушил было меня, завалил и окошки, и дверь, и дыму некуда было идти. Тошнее мне было земляной тюрьмы: где сижу и ем, тут и ветхое всё – срание и сцание; проветрить откутают, да и опять задушат. Добрый человек, дворянин, друг, Иваном зовут, Богданович Камынин181, вкладчик в монастыре, ко мне зашёл да на келаря покричал и лубьё и всё без указу разломал, так мне с тех пор окошко стало и отдушина. Да что на него, келаря, дивиться! Все перепились табаку того, что у газского митрополита шестьдесят пудов вынули напоследок182, вместе с домрой да иными запретными в монастыре вещами для тайных игр. Согрешил, простите! Не моё то дело, то ведают они сами, своему владыке стоят или падают. То у них были законоучители и любимые риторы.
У того же Никодима-келаря на Велик день183 попросился я ради праздника отдохнуть, чтоб велел, двери отворя, посидеть. И он, меня изругав, отказал жестоко, как ему захотелось; потом, придя в келью, разболелся. И маслом соборовали, и причащали (его), – когда-никогда вздохнёт. То было в светлый понедельник. В ночь же ту на вторник пришёл ко мне тот келарь с Тимофеем, келейником своим; идучи в темницу, говорит: «Блаженна обитель, блаженна и темница, таковых имеет в себе страдальцев! Блаженны и узы!» И пал передо мною, ухватился за цепь, говорит: «Прости, Господа ради, прости! Согрешил пред Богом и пред тобою, оскорбил тебя, и за это вразумил меня Бог». И я говорю: «Как вразумил, скажи мне!» А он опять: «А ты-де сам, придя и покадив, меня пожаловал, поднял, что-де запираешься! Ризы-де на тебе светлоблистающие и зело красны были!»
А келейник его, тут же стоя, говорит: «Я, батюшка-государь, тебя под руку вёл, из кельи провожая, и поклонился тебе». И я, уразумев, стал ему говорить, чтобы он другим не рассказывал про сие. Он же со мною советовался, как ему впредь жить по-христиански: «Или-де мне велишь покинуть всё и в пустынь пойти?» И я ему понаказывал и не велел ему келарства покидать, только хотя бы втайне старое благочестие держал. Он же, поклонясь, пошёл к себе, а наутро за трапезою всей братье рассказал. Люди же бесстрашно и дерзновенно ко мне побрели, благословения у меня прося и молитвы; а я их словом Божиим пользую и учу. В то время и враги кои были, и те тут помирились. Увы мне! Когда оставлю суетный сей век! Писано: «Горе, емуже рекут добре вси человецы»184. Воистину, не знаю, как до края доживать. Добрых дел нет, а прославил Бог; да то ведает он – воля его!
Тут же приезжал и Феодор, покойник, с детьми ко мне побывать185 и советовался со мною, как ему жить: «В рубашке ль-де ходить или платье вздеть?186 Еретики-де ищут меня. Был-де я в Рязани, у архиепископа Лариона187 в оковах сидел, и зело-де жестоко мучили меня; редкий день без побоев плетьми пройдёт; а нудили-де к причастью своему; и я-де уже изнемог и не ведаю, что делать. В ночи в горести великой молился я Христу, чтоб он меня избавил от них, и всячески долго докучал ему. И вот-де цепь вдруг грянула с меня, и двери-де отворились. Я-де Богу поклонился и побрёл из палаты вон. К воротам пришёл, – ан и ворота отворены! Я-де и пошёл путём. К свету-де уж далеконько дорогою бреду. А тут двое на лошадях погонею за мною бегут. Я-де-таки подле края дороги бреду: они-де и пробежали мимо меня. А вот-де стало рассветать, – едут навстречу мне назад, а сами меня бранят: “Ушёл-де, блядин сын! Где-де его возьмёшь?” Да и опять-де проехали, не видали меня. Я-де помаленьку и в Москву прибрёл. Как ныне мне велишь: туда ль-де снова мучиться идти или-де здесь от них таиться? Как бы-де Бога не прогневить».
Я, подумав, велел ему платье носить и посреди людей, таясь, жить.
Однако не утаил, нашёл дьявол и в платье, и велел удавить. Миленький мой, храбрый воин Христов был! Зело в нём вера и ревность тёпла ко Христу была; не видал я другого такого подвижника и слезоточца. Поклонов тысячу откладёт да сядет на полу и плачет часа два или три. Жил со мною лето в одной избе; бывало, покою не даст. Мне ещё немоглось в то время; в комнатке двое нас; не больше трёх часов полежит да и встанет на правило. Я лежу или сплю, а он, молясь и плача, приступит ко мне и станет говорить: «Как тебе сорома нет? Ведь ты протопоп. Тебе подобало бы нас понуждать, а ты и сам ленив!» Да и раскачает меня. Он кланяется за меня, а я сидя молитвы говорю: спина у меня болела гораздо. Он и сам, миленький, болен был: кишок из него вышло три аршина, а в другой раз – пять аршин, от тяготы зимней и от побоев. Бродил он в одной рубашке и босиком в Устюге годов с пять, зело великие страдания терпел от мороза и от побоев. Сказывал мне: «Ногами-теми, что коченьями мерзлыми, по каменью-тому-де бью, а как-де в тепло войду, зело-де рвёт и болит, как-де сперва начал странствовать; но вот-де легче, да легче, да и не стало болеть». Отец у него в Новгороде, богат гораздо, сказывал мне, – мытоимец-де, тоже Феодором зовут; а он уроженец мезенский, и баба у него, и дядя, и вся родня на Мезени. Бог изволил, и удавили его на виселице отступники у родни на Мезени188.
А юродствовать-то как обещался Богу да солгал, так-де морем ездил на ладье к городу с Мезени, «и непогодою било нас, и, не ведаю-де как, упал в море, а ногами зацепился за петлю и долго висел: голова в воде, а ноги вверху; и на ум-де взбрело обещание, что не солгу, если Бог меня от потопления избавит. И не ведаю-де, кто, силён, выпихнул меня из воды на палубу. С тех-де пор стал странствовать».
Домой приехав, стал он жить как девственник, Бог изволил. Много борьбы с блудным (искушением) бывало, да всяко сохранил его Владыка. Слава Богу о нём, и умер за христианскую веру! Добро, он уже свершил свой подвиг. Как-то ещё мы до пристанища доедем? В открытом море ещё плывём, берега не видать, грести надобно усердно, чтобы благополучно вослед за ближними друзьями пристанища достигнуть. Старец, не станем много спать: дьявол около темниц наших зело бодро ходит, хочется ему нас гораздо! Да силен Христос и нас не покинуть. Я дьявола не боюсь, боюсь Господа, своего Творца, и Создателя, и Владыки. А дьявол – какая диковина, чего его бояться! Бояться подобает Бога и заповеди его соблюдать, так и мы со Христом ладно до пристанища доедем.
И Афанасий-юродивый тоже стойко житьё своё проходил, покойник, тоже был сын мне духовный, в иноках Авраамий189; ревнитель же о Христе и сей был гораздо, но нравом Феодора смирнее. Тоже слёз река от очей его истекала, так же бос и в одной рубашке зиму и лето ходил и тоже много терпел от дождя и стужи. Постригшись, успел он пожить пустынником, да отступники и его, после многих мучений, сожгли на костре в Москве на Болоте190. Пусть так, испекли хлеб сладок Святой Троице. Павел Крутицкий за бороду его драл и по щекам бил своими руками, а он тихо Писанием обличал их отступление. После и плетьми его били и, муча всячески, жгли в огне за старую нашу христианскую веру, и он скончался о Христе Исусе, после Феодорова удавления спустя два года.
И Лука Лаврентьевич, тоже сын мне духовный, что на Мезени вместе с Феодором те же отступники удавили, на виселице повесив, смирён нрав имел, покойник, говорил – как плакал, москвич родом, у матери-вдовы сын был единственный, сапожник ремеслом, молод годами, лет двадцати пяти, да ум столетен. Когда вопросил его Пилат: «Как ты, мужик, крестишься?», так он ответил: «Как батюшка мой протопоп Аввакум, так и я крещусь». И после долгих с ним разговоров отдал он его в темницу. Потом из Москвы приказали удавить его, так же, как и Феодора, на виселице повесив; он и скончался о Христе Исусе.
Милые мои, сердечные други, помогайте и нам, бедным, молитвами своими, чтобы и нам о Христе сей подвиг мирно довершить.
Полно мне про детей тех говорить, стану снова про себя сказывать.
Когда из Пафнутьева монастыря привезли меня в Москву191 и на подворье поместили, тогда многажды водили меня в Чудов, и грызлись (там), что собаки, со мною власти192. Потом привели меня пред вселенских патриархов, и наши все тут же сидят193, что лисы. Много я от Писания говорил с патриархами: Бог отверз уста мои грешные, и посрамил их Христос устами моими. Напоследок (такие) слова мне говорили: «Что-де ты упрям, Аввакум? Вся-де наша Палестина, и сербы, и албанцы, и венгры, и римляне, и ляхи, все-де тремя перстами крестятся, один-де ты стоишь в своём упорстве и крестишься пятью перстами! Так-де не подобает».
И я им так о Христе отвечал: «Вселенские учители! Рим давно пал и лежит не поднимаясь, и ляхи вместе с ним погибли, до конца стали врагами христианам. А и у вас православие пестро стало от насилия турецкого Магмета194, да и дивиться на вас нельзя, немощны вы стали. Впредь приезжайте к нам учиться: у нас, Божией благодатью, самодержство. До Никона-отступника у наших князей и царей всё было православие чисто и непорочно, и Церковь была покойна. Никон-волк с дьяволом постановили тремя перстами креститься. А первые наши пастыри как сами пятью перстами крестились, так пятью перстами и благословляли по завету святых отцов наших, Мелетия Антиохийского и Феодорита Блаженного, Петра Дамаскина и Максима Грека195. Ещё же и московский поместный собор, бывший при царе Иване196, так же слагать персты и креститься и благословлять повелевает, как и прежние святые отцы, Мелетий и прочие, научили. Тогда, при царе Иване, на соборе были творцы чудес: Гурий, Смоленский епископ, и Варсонофий Тверской, что стали Казанские чудотворцы197, и Филипп, Соловецкий игумен, митрополит Московский198, и иные из святых русских».
И патриархи, выслушав, задумались. А наши, что волчата, вскочив, завыли и блевать стали на отцов своих, говоря: «Глупы-де были и не смыслили наши святые, неучёные люди были и грамоте не умели, – что-де им верить!»
О, Боже святый! Как претерпел ты святых своих такое поношение! Мне, бедному, горько, а делать стало нечего; побранил их, сколько мог, и последнее изрёк слово: «Чист я и прах, прилипший к ногам своим, отрясаю пред вами, по писаному: “Лучше един, творящий волю Божию, нежели тьмы беззаконных”»199. Так на меня и пуще закричали: «Возьми, возьми его! Всех нас обесчестил!», да толкать и бить меня стали. И патриархи сами на меня бросились грудою, человек с сорок их, думаю, было, кричат все, что татарва. Ухватил дьяк Иван Уаров200 да и потащил меня. И я закричал: «Постой, не бейте!» Так они все отскочили.
И я толмачу архимандриту Денису201 стал говорить: «Говори, Денис, патриархам: апостол Павел пишет: “Таков нам подобает архиерей: преподобен, незлобив”202, и прочее. А вы, убивши человека неповинна, как литургисать станете?» Так они сели. И я, отойдя к дверям, да на бок повалился, а сам говорю: «Посидите вы, а я полежу». Так они смеются: «Дурак-де протопоп-от, и патриархов не почитает». А я говорю: «Мы юроды Христа ради! Вы славны, мы же бесчестны! Вы сильны, мы же немощны!»203
Потом снова ко мне пришли власти и про «аллилуия» стали говорить со мною. И мне Христос подал: Дионисием Ареопагитом римскую ту ересь посрамил в них. И Евфимий, чудовский келарь204, молвил: «Прав-де ты, нечего-де нам больше говорить с тобою». И повели меня на цепь.
Потом полуголову царь прислал со стрельцами, и повезли меня на Воробьёвы горы; тут же – и священника Лазаря205, и старца Епифания206, поруганы и расстрижены, как и я был прежде. Поставили нас по разным дворам. Неотступно двадцать человек стрельцов, да полуголова, да сотник над нами стояли: берегли, жаловали, и по ночам с огнем сидели, и на двор срать провожали. Помилуй их Христос! И впрямь стрельцы те добрые люди, и (родные) дети таковы не будут, – мучатся туда же, возясь с нами. Нужда-то какова случится, так они всячески, миленькие, радеют. Да что много рассуждать, у Спаса они лучше чернецов тех, которые клобуки-те рогатые поставцами-теми носят207. Больно сильно они, горюны, допьяна напиваются да матерно бранятся, а то бы они и с мучениками равны были. Да что же делать, и так их не покинет Бог.
Потом нас перевезли на Андреевское подворье208. Тут приезжал ко мне шпынять из Тайных дел Дементей Башмаков; будто без царёва ведома был, а после будучи у меня, сказал – по царёву велению был. Всяко, бедные, умышляют, как бы им меня прельстить, да Бог не выдаст по молитвам Пречистой Богородицы, она меня, помощница, от них обороняет.
А на Воробьёвых горах дьяк конюший Тимофей Марков209 от царя был прислан и у всех был, – много чего наговорив (друг другу), с криком разошлись и с большой бранью. Я после него написал послание210 и с сотником Иваном Лобковым к царю послал: кое о чём многонько поговорил и благословение ему, и царице, и детям приписал.
Держали меня на Воробьёвых горах, и на Андреевском подворье, и в Саввине слободке211, а после к Николе на Угрешу перевезли. Тут голову Юрья Лутохина212 царь опять ко мне присылал и за послание большое «спаси Бог» с поклоном сказал и, благословения себе с царицей и детям прося, молиться о себе приказал.
Затем опять нас в Москву привезли, на Никольское подворье, и взяли о правоверии новые у нас сказки213. Потом многажды ко мне присылованы были Артемон и Дементий214, ближние его, и передавали царские слова. «Протопоп, ведаю-де я твоё чистое и непорочное и богоподражательное житие, прошу-де благословения твоего с царицею и детьми, помолись о нас», – кланяючись, посланник говорит. Да я и ныне по нём тужу, сильно его мне жаль. И снова он же: «Пожалуй-де, послушай меня, соединись со вселенскими теми хотя бы чем небольшим!» И я говорю: «Хоть мне и умереть – с отступниками не соединюсь! Ты, говорю, царь мой, а им какое дело до тебя? Потеряли, говорю, своего царя латынщики безверием своим, да и тебя сюда проглотить приехали; не сведу рук с высоты, покуда не отдаст тебя мне Бог!»
И много тех присылок было. Говорено кое о чём немало, – день Судный покажет. Напоследок сказал: «Где ты ни будешь, не забывай нас в своих молитвах!» Я и ныне, грешный, сколько могу, молюсь о нём. Хоть и мучит меня, но ведь это царь; бывало время, и впрямь добр до нас бывал. До Никона-злодея, прежде мору, к Казанской придя, у руки мы были, яйцами нас оделял, – и сын мой Иван, маленек ещё был, не оказался подле меня, а он, государь, хорошо его знает, послал брата моего родного разыскивать ребёнка, а сам долго, стоя, ждал, покамест брат на улице ребёнка не сыскал. Руку ему даёт целовать, а ребёнок глуп, не понимает, видит, что не поп, так не хочет целовать. И государь сам руку к губам ребёнку поднёс, два яйца ему дал и по голове погладил. Да, и сие нам надобно не забывать, не от царя сия нам мука, но по грехам нашим от Бога дьяволу попущено мучить нас, чтобы, претерпев испытание сейчас, вечного испытания мы избегли. Слава Богу за всё!
Потом, братию, Лазаря и старца, казнив, вырезав им языки, а меня и Никифора-протопопа215 не казнив, сослали нас в Пустозерье216.
А двоих сынов моих, Ивана и Прокопья, оставили в Москве на поруки; и они, бедные, мучились года с три, прячась от облыжного обвиненья пред властями, где день, где ночь, – никто держать (у себя) не смеет, – и кое-как на Мезень к матери прибрели. Не пожили и с год – ан и в землю попали217. Да пускай так, лучше пустые бредни, чем по улицам бродить. Я беспрестанно Бога о том молю: «Господи, хотим мы или не хотим, спаси нас!» И Господь творит помаленьку свой промысел о нашем спасении; надо только потерпеть – пригодится когда-нибудь; тогда слюбится, как время придёт.
Я же из Пустозерья послал к царю два послания218, – одно невелико, а другое больше: говорил кое о чём ему много. В послании ему сказал и о Божьих знамениях, показанных мне не в одно время, – читавший да разумеет. А ещё от меня и от братии дьяконово снискание послано в Москву, правоверным гостинец – книга «Ответ православных»219, и от священника Лазаря два послания: царю и патриарху220.
И за всё сие присланы к нам гостинцы: повесили в дому моём на Мезени на виселице двух человек, детей моих духовных, – Феодора, преждепомянутого юродивого, да Луку Лаврентьевича221, рабы Христовы, светы мои, были. И сынов моих двоих Ивана и Прокопья тоже велено повесить. Да они, бедные, испугавшись смерти, повинились: «Виноваты пред Богом и пред великим государем», а неведомо, в чём виноваты. Так их вместе с матерью троих закопали в землю – и правильно сделали, спаси Бог! Того ради, ребята: не бойтесь смерти, держите старое благочестие крепко и непогрешимо! А мать за то сидит с ними, чтоб впредь детей подкрепляла за Христа умирать и жила бы, не развешивая ушей. А то баба, бывало, нищих кормит, сторонних научает, как слагать персты и креститься и творить молитву, а детей своих и забыла подкрепить, чтоб на виселицу пошли и с доброю дружиной заодно умерли Христа ради.
Ну да Бог вас простит, не диво, что так сделали, и Пётр-апостол некогда убоялся смерти и от Христа отрёкся, но о сем плакался горько222, и после того помилован и прощён был. А и я о вас когда молился крепко, увидал вашу пред собою темницу и вас троих, на молитве стоящих в вашей темнице, а от вас три столпа огненные к небесам стоят простёрты. Я с тех пор возрадовался, и легче мне стало, что покаяние ваше принял Бог. Слава за это Богу!
Потом тот же Пилат, полуголова Иван Елагин223, был у нас в Пустозерье и взял у нас сказку224, сказано так: год и месяц, и ещё: «Мы святых отцов предание держим неизменно, а Паисия Александрийского патриарха с товарищами еретическое соборище проклинаем»; и другое там говорено многонько, и Никону-еретику досталось.
После этого привели нас к плахе и прочитали указ: «Велел-де государь и бояре приговорили: тебе, Аввакуму, вместо смертной казни устроить сруб в земле и, проделав окошко, давать (через него) хлеб и воду, а прочим товарищам без пощады резать языки и сечь руки». И я, плюнув на землю, говорил: «Я, говорю, плюю на его кормлю, без еды умру, а не предам благоверия». И после этого повели меня в темницу, и не ел дней с десяток, да братия велели.
Затем священника Лазаря взяли и вырезали ему язык из горла; кровь немного пошла да и перестала; он в то время и без языка снова говорить стал. Потом, положив правую руку его на плаху, по запястье отсекли её, и рука отсечённая, лёжа на земле, сложила сама по обычаю персты и долго лежала пред народом, исповедала, бедная, и по смерти знамение Спасителево неизменно. Мне и самому сие чудно: бездушная одушевлённых обличает! Я на третий день у Лазаря во рту рукою моею гладил – ан гладко, языка нет, а не болит, дал Бог; а говорит, как и прежде. Смеётся надо мною: «Щупай, протопоп, забей руку в горло-то, небось не откушу!» И смех с ним, и горе! Я говорю: «Чего щупать, на улице язык бросили». И он на то: «Собаки они, вражьи дети! Пускай мои едят языки!» Первые у него и у старца в Москве легче резаны были, а ныне тяжко гораздо. А через два года и опять другой язык вырос, чудно, с первый же величиною, лишь маленько тупенек.
Потом взяли соловецкого пустынника старца Епифания; он же молил Пилата слёзно и зело умильно, чтобы повелел отсечь ему голову с плеч, ради веры и исполнения закона. Пилат же сказал ему в ответ: «Батюшка, тебя упокоить, а самому куда мне деться? Не смею, государь, так сделать». И не послушал полуголова старцева моления, не отсёк головы его, но повелел язык его весь тоже вырезать.
Старец же, перекрестив своё лицо, сказал, на небо взирая: «Господи, не оставь меня грешного!», – и, вытянув своими руками язык свой, положил палачу на нож, чтобы не щадя его резал. Палач же, дрожа и сотрясаясь, насилу выколупал ножом язык из горла, ибо ужас охватил его и стал он дрожать225. Жалея старца, хотел палач его руку по суставам резать, чтоб зажило потом скорее; старец же, ища себе смерти, поперёк костей велел отсечь, и отсекли четыре перста. Сперва говорил он гугниво. Потом молил Пречистую Богоматерь, и показаны ему были оба языка, московский и пустозерский, на воздухе; он же один (из них) взял и положил его в рот свой; и с тех пор стал говорить чисто и ясно, и язык целый оказался во рту.
Потом взяли дьякона Феодора и тоже язык весь вырезали, остался кусочек в горле маленек, наискось отрезан, не из милости, а потому, что руки не послужили, – от дрожи и тряски нож из рук валился. Тогда в той мере и зажил, а после и снова с прежний вырос, лишь маленько тупенек. Во знамение Бог так устроил, чтобы понятно было неверящим, что был отрезан. Мы, верующие, и без знамения верим старому Христу Исусу, Сыну Божию, свету, и вручённое нам от святых отцов старобытное предание в Церкви держим неизменно; а кому ещё не сполна понятно, тот смотри на знамение и подкрепляйся.
У него же, у дьякона, отсекли и руку поперёк ладони, и всё, дал Бог, здорово стало; по-прежнему говорит ясно и чисто. И у него тоже в другой раз язык был резан, в Москве меньше нынешнего резано было. Пускай никониане, бедные, кровью нашею питаются, будто мёд испивая!
Потом засыпали нас землёю: сруб в земле, и еще вкруг каждого другой сруб, и еще вкруг всех общая ограда за четырьмя замками; стражей же одиннадцать человек стерегут темницу226.
Мы же, здесь, и на Мезени, и повсюду сидящие в темницах, поём пред Владыкою Христом, Сыном Божиим, Песнь Песней, что Соломон воспел, смотря на мать Вирсавию: «Се еси добра, прекрасная моя! Се еси добра, любимая! Очи твои горят, яко пламень огня; зубы твои белы паче млека; зрак лица твоего паче солнечных лучей; и вся ты в красоте сияешь, яко день в силе своей! Аминь»227. Хвала Церкви228.
Засим, у всякого правоверного прошу прощения. Иное бы, кажется, и не надобно было говорить, да прочёл Деяния апостольские и Послания Павла, – апостолы о себе возвещали же, когда что Бог в них соделает. Не нам, Богу нашему слава! А я – ничто. Сказал и ещё скажу: аз есмь грешник, блудник и хищник, друг мытарям и грешникам и предо всяким человеком окаянный лицемер. Простите же и молитесь обо мне, а я – о вас, читающих сие и слушающих. Неучёный я человек и несмыслён гораздо, по-другому жить не умею, что творю, то людям и сказываю; пускай Богу молятся обо мне. В день кончины века узнают же все о содеянном мною, добро то или зло. Но хотя и неучён я словом, но не разумом; не учён диалектике, и риторике, и философии, а разум Христов в себе имею, как и апостол глаголет: «Хоть я и невежда словом, но не разумом»229.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.