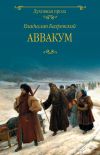Текст книги "Древнерусская литература, Жития"
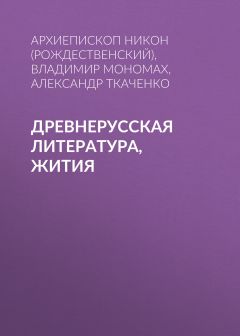
Автор книги: Александр Ткаченко
Жанр: Религия: прочее, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Ещё вам про невежество своё скажу. Сглупил я, отца своего (духовного) заповедь преступил, и за то дом мой был наказан. Внимай, Бога ради, и молись о мне.
Когда ещё был я попом, духовник царёв Стефан Вонифантьевич благословил меня образом Филиппа митрополита да книгою Ефрема Сирина230, – себя пользовать, читая, и людей. А я, окаянный, пренебрёг отеческим благословением и наказом и ту книгу двоюродному брату, по его докуке, на лошадь променял. У меня же в дому был брат мой родной, именем Евфимий, зело грамоте был горазд и к церкви великое прилежание имел, напоследок взят был к большой царевне на Верх231, а в мор вместе с женою преставился. Сей Евфимий лошадь сию поил и кормил и гораздо об ней радел, пренебрегая многажды и правилом (молитвенным).
И Бог, видя в нас с братом неправду, что нехорошо поступаем: я книгу променял, отцову заповедь преступил, а брат, правило позабыв, о скотине печётся, – изволил Владыка так нас наказать. Лошадь ту по ночам и в дневное время в конюшне стали бесы мучить: всегда заезжена, мокра и еле стала жива. Я недоумеваю, по какой причине бес нас так изводит. И в день воскресный после ужина, в келейном правиле на полунощнице, брат мой Евфимий читал кафизму «Непорочную»232 и завопил тонким голосом: «Призри на мя и помилуй мя!»233 и, выпустив из рук книгу, ударился оземь, от бесов поражён, начал тяжко кричать и вопить, понеже бесы жестоко мучили его.
В дому же моем двое других родных братьев, Козьма и Герасим, больше него, а не смогли его удержать. И все домашние, человек с тридцать, держат его, плачут перед Христом и, молясь, кричат: «Господи, помилуй! Согрешили перед тобою, прогневали Благость твою! По молитвам святых отцов наших помилуй юношу сего!» А он ещё пуще бесится, и бьётся, и кричит, и дрожит.
Я же, с помощью Божией, не смешался в то время от той сумятицы бесовской, – окончив правило обычное, снова начал Христу и Богородице молиться, со слезами глаголя: «Всегосподственная госпожа Владычица моя Пресвятая Богородица! Покажи мне, за которое моё согрешение таковое мне наказание, чтобы, уразумев и раскаявшись пред Сыном твоим и пред тобою, впредь не стал бы того я делать!» И плача, послал в церковь за Потребником и за святой водою сына моего духовного Симеона, юношу лет четырнадцати, такого же, что и Евфимий; дружно меж собою жили Симеон с Евфимием, книгами и правилом друг друга подкрепляли и радовались, крепко подвизаясь в посте и молитве.
И тот Симеон, по друге своём плача, сходил в церковь и принёс книгу и святую воду. И начал я творить над обуреваемым (бесами) молитвы Василия Великого. А тот Симеон мне кадило и свечи подносил и воду святую, другие же беснующегося держали. И когда в молитве дошло до слов: «Аз тебе именем Господним повелеваю, дух немой и глухой, изыди от создания сего и впредь не входи в него, но иди на пустое место, где человек не живет, но только Бог призирает»234, бес не слушает, не идёт из брата. И я снова те же слова в другой раз, а бес снова не слушает, пуще мучит брата.
Ох, горе, как вымолвить! И стыжусь, и не смею! Но по повелению старца Епифания говорю, коли уж о том приказал он написать. Так было: взял я кадило и покадил образа и бесноватого, и потом ударился о лавку и рыдал долго. Поднявшись, те же Васильевы слова закричал бесу: «Изыди из создания сего!» Бес же скорчил в кольцо брата и, понатужившись, изошёл и сел на окошко. Брат же сделался как мёртвый.
И я покропил его святой водою, а он, очнувшись, перстом мне на окошко, на беса сидящего, указывает, а сам не говорит, связался язык его. И я покропил водой окошко – и бес сошёл в придверный угол. Брат же снова за ним перстом указывает. Я и там покропил водою – и бес оттуда пошёл на печь. Брат же и там его показывает – а я и там той же водою. Брат указал под печь, а сам перекрестился. И я не пошёл за бесом, но напоил брата во имя Господне святой водою.
И он, вздохнувши из глубины сердца, так мне проглаголал: «Спаси Бог тебя, батюшка, что ты меня отнял у царевича и у двух князей бесовских! Будет бить тебе челом брат мой Аввакум за твою доброту. Да и мальчику тому спаси Бог, который ходил в церковь по книгу и по воду ту святую, пособлял тебе с ними биться; обличьем он, что и Симеон, друг мой. Подле реки Сундовика235 меня водили и били, а сами говорят: “Нам-де ты за то отдан, что брат твой книгу на лошадь променял, а ты её любишь”; так-де мне надобно сказать Аввакуму-брату, чтоб книгу ту назад взял, а за неё бы дал деньги двоюродному брату».
И я ему говорю: «Я, говорю, свет, брат твой Аввакум!» А он отвечал: «Какой ты мне брат! Ты мне батька! Отнял ты меня у царевича и у князей; а брат мой на Лопатищах живёт, будет тебе челом бить». Вот ведь, в избе вместе с нами на Лопатищах, а кажется ему – подле реки Сундовика. А Сундовик вёрст с пятнадцать от нас под Мурашкином да под Лысковом течёт. И я дал ещё ему святой воды. Он же и сосуд у меня отнимает и съесть его хочет: сладка ему вода! Кончилась вода, я ополоснул (сосуд) и давать стал, – он и не стал пить.
Ночь всю зимнюю я с ним провозился; маленько полежал с ним и пошёл в церковь петь заутреню. А без меня снова бесы на него напали, но легче прежнего. Я же, придя из церкви, освятил его маслом, и опять ушли бесы, и умом стал здрав, но ослабел, бесами изломан. На печь поглядывает и страшится. Когда же я куда отлучусь, тут бесы и досаждать ему станут. Бился я с бесами, что с собаками, недели с три за грех мой, покуда книгу не взял и деньги за неё не отдал. И ездил я к другу своему Иллариону-игумену236, он просвиру вынул за брата; тогда хорошо жил (тот Иларион), что ныне стал архиепископ Рязанский, мучитель христианский. Я и другим духовным друзьям бил челом о брате. И умолили о нас Бога.
Таково-то зло преступление заповеди отеческой! Что же будет за преступление заповеди Господней? Ox-да только огонь да мука! Не знаю, как коротать дни, слабоумием объят и лицемерием и ложью покрыт, братоненавидением и самолюбием одет, во осуждении всех людей погибаю. Мню себя чем-то, а сам есть кал и гной, окаянный, прямое говно, отовсюду воняю – и душою, и телом. Хорошо мне жить с собаками и со свиньями в конурах, так же и они воняют. Да псы и свиньи – по естеству, а я – сверх естества, от грехов воняю, как пёс мертвый, брошенный на городской улице. Спаси Бог властей тех, что землёю меня закрыли! Себе уж воняю, злые дела творя, да других не соблазняю. Ей, добро так!
Да и в темницу ко мне бешеный зашёл, Кириллушкой звали, московский стрелец, караульщик мой. Остриг я его и платье (на нём) переменил, – зело вшей было много. Замкнуты, двое нас с ним, живём, да Христос с нами и Пречистая Богородица. Он, миленький, бывало, сцыт под себя и серет, а я его очищаю. Есть и пить просит, а без благословения взять не смеет. У правила стоять не захочет – дьявол сон ему наводит, – а я чётками постегаю, так и молитву творить станет и кланяется, за мною стоя. А когда правило закончу, он и снова бесноваться станет. При мне беснуется и шалует, а когда пойду к старцу посидеть в его темницу, а Кирилла положу на лавке и не велю ему вставать и благословлю его, так по-каместь у старца сижу, лежит и не встанет, по молитвам Старцевым, Богом привязан, лёжа беснуется. А в головах у него образа, и книги, и хлеб, и квас, и прочее, а ничего без меня не тронет. Как приду, так встанет, и дьявол, мне досаждая, блудить заставляет. Я закричу, так и сядет. Когда стряпаю, в то время есть просит и украсть тщится до времени обеда; а когда перед обедом «Отче наш» проговорю и еду благословлю, так того брашна и не ест, не-благословлёного просит. И я ему напихаю насильно в рот, так и плачет, и глотает. А как рыбою покормлю, так бес в нём взбунтуется, а сам из него говорит: «Ты же-де меня ослабил!» И я, плача пред Владыкою, опять свяжу его постом и укрощу Христом. Потом маслом его освятил, и полегчало ему от беса.
Жил он со мною с месяц и больше. Перед смертью образумился. Я исповедал его и причастил, он же после того и преставился. Я гроб и саван купил и велел у церкви погребсти его, и сорокоуст по нём дал. Лежал у меня он мёртвый сутки в тюрьме. Я ночью, встав, Бога помолю и его, мёртвого, благословлю и поцелуюсь с ним, и опять лягу подле него спать. Товарищ мой, миленький, был. Слава Богу о сём! Нынче он, а завтра я так же умру.
Да ещё был у меня в Москве бешеный, Филиппом звали, как я из Сибири приехал; в углу в избе прикован был к стене, понеже бес в нём суров и жесток был. Бился он и дрался, и не могли домашние сладить с ним. Когда же я, грешный, с крестом и с водою приду, в повиновение приходит и замертво падает пред крестом, и ничего не смеет делать со мною. И молитвами святых отцов сила Божия отогнала от него беса, но только ум был ещё несовершен. Феодор-юродивый был к нему приставлен, что на Мезени отступники удавили за старую веру во Христа, – Псалтырь над Филиппом читал и учил его молитву говорить. А сам я днём отлучался из дома своего, только ночью занимался с ним.
Как-то раз пришёл я от Фёдора Ртищева зело печален, понеже с еретиками бранился и шумел в дому его о вере и о законе237. А в моём дому в то время учинилось нестроение: протопопица с домочадицею Фетиньею побранились, дьявол ссорил не из-за чего. И я, придя, не стерпев, стал их бить обеих и огорчил их гораздо в своей печали. Да и всегда-таки я, окаянный, как рассержусь, драться лихой. Горе мне за сие, согрешил пред Богом и перед ними.
Тут-то бес в Филиппе и озверел, и стал он кричать и вопить и цепь ломать, бесясь. На всех домашних ужас напал, и переполох был зело велик. Я же, без покаяния, приступил к нему, хотя его укротить. Но вышло не по-прежнему: ухватил он меня и стал бить и драть. И всячески, будто паутину, меня терзает, а сам говорит: «Попал ты мне в руки!» Я только молитву говорю, да без дел и молитва не пользует никак. Домашние не могут отнять, а я и сам ему отдался: вижу, что согрешил, пускай меня бьёт.
Но чуден Господь! Бьёт, а ничего не болит. Потом бросил меня от себя, а сам говорит: «Не боюсь я тебя!» Так мне зело горько стало: бес, говорю, надо мною волю взял. Полежал маленько, собрался с совестью, вставши, жену свою сыскал и перед ней стал просить прощения. А сам ей, кланяясь в землю, говорю: «Согрешил, Настасья Марковна, прости меня грешного!» Она мне тоже кланяется. После того и у Фетиньи таким же образом просил прощения. Потом среди горницы лёг и велел каждому человеку бить меня, по пяти ударов плетью по окаянной спине; человек было десяток-другой, и жена, и дети, стегали за епитимью. И плачут, бедные, и бьют, а я говорю: «Ежели кто меня не бьёт, да не получит тот общей участи и жребия со мною в будущем веке». И они, и не хотя, бьют, а я ко всякому удару по молитве Исусовой говорю.
Когда же отбили все, я, поднявшись, прощения у них испросил. Бес же, видя (беду) неминучую, опять из Филиппа вон вышел. Я крестом Филиппа благословил, и он по-старому хорош стал, и после этого Божией благодатью и исцелился о Христе Исусе, Господе нашем, которому слава со Отцом и со Святым Духом ныне и присно и во веки веком.
А когда я ещё в Сибири в Тобольске был, туда ещё везли, привели ко мне бешеного, Феодором звали. Жесток же бес в нём был. Соблудил в Велик день238, над праздником надругавшись, да и взбесился, жена его сказывала. И я в дому своём держал его месяца с два, докучал об нём Божеству, в церковь водил и маслом освятил, – и помиловал Бог: стал здоров и умом исцелился.
И стал он со мною на крылосе петь, а грамоте не учён, и досадил мне за литургией во время переноса (Святых Даров). Я же в то время, на крылосе его побив, велел пономарю в притворе приковать его к стене. А он, выломав пробой, взбесился и пуще прежнего; и уйдя на двор к большому воеводе239, людей (там) разогнал и, сундук разломав, платье княгинино на себя вздел – ив верху у них, будто добрый человек, празднует. Князь же, придя из церкви и осердясь, велел многими людьми в тюрьму его оттащить. А он в тюрьме узников, бедных, перебил и печь разломал. И князь велел его в село к своим отослать, где он живал. Он же, ходя по деревням, пакости многие творил. Все бегают от него, а мне воеводы не дают его, осерчав.
Я по нём перед Владыкою всякий день плакал, – Бог было исцелил, да я сам погубил. Потом пришла грамота с Москвы: велено меня на Лену из Тобольска сослать240. Когда я на реку в Петров день в дощаник собрался, пришёл ко мне бешеный мой Феодор целоумен; в дощанике при народе кланяется мне в ноги, а сам говорит: «Спаси Бог, батюшка, за милость твою, что пожаловал, помиловал меня.
Бежал-де я третьего дня в безлюдном месте, а ты-де явился мне и благословил меня крестом; бесы-де и отбежали от меня. И я-де и ныне, придя (сюда), снова у тебя молитвы и благословения прошу». Я же, окаянный, поплакал, глядя на него, и возрадовался о величии Бога моего, понеже обо всех печётся и никого не оставляет без промысла своего Господь: его исцелил, а меня возвеселил. И, понаставляв его и благословив, отпустил его домой к жене. А сам поплыл в ссылку, моля о нём света-Христа, да сохранит его впредь от злого духа241. Богу нашему слава!
Простите меня, старец с рабом тем Христовым: вы меня понудили про это говорить.
Однако уж развякался, – ещё вам поведаю историю. Ещё я в попах был, там же, где брата бесы мучили, была у меня в дому вдова молодая, давно уж, и имя ей забыл; помнится, как бы не Евфимьей звали, – ходит и стряпает, всё хорошо делает. Как станем вечером правило начинать, так бес её ударит оземь, омертвеет вся и как камень сделается, кажется, и не дышит; растянет её на полу, и руки, и ноги, лежит как мёртвая. Я, «О всепетую»242 проговорив, кадилом покажу, потом крест ей на голову положу и молитвы Великого Василия в то время говорю, так голова под крестом свободна станет, баба и заговорит. А руки, и ноги, и тело ещё каменные. Я по руке поглажу крестом, так и рука свободна станет; я так же по другой – и другая освободится так же; я и по животу – так баба и сядет. Ноги ещё каменны, не смею там крестом гладить. Думаю-думаю, да и ноги поглажу – баба и вся свободна станет; поднявшись, Богу помолясь, – да и мне челом. Прокуда-таки – бес или что другое – в ней был, много времени так в ней играл. Маслом я её освятил, так он и вовсе отошёл, – исцелилась, дал Бог.
А в другое время два Василия бешеных были у меня прикованы, дивно и говорить про них.
А ещё сказать ли, старец, тебе историю? С соблазном, кажется, да уж сказать – не пособить. В Тобольске была у меня девица, Анною звали, как вперёд ещё ехал, маленькой из полону от кумыков привезена, девство своё непорочно соблюла. В совершенном возрасте отпустил её хозяин ко мне; зело праведно и богоугодно жила. Позавидовал дьявол добродетели её, навёл на неё печаль об Елизаре, о первом её хозяине. И стала она плакать по нём, потом и (молитвенным) правилом пренебрегать, и мне стала перечить во всём, а дочь мне духовная. Многажды во время правила и не молясь простоит, дремлет, прижав руки. Благоискусный же Бог, наставляя её, попустил бесу войти в неё: стоит с леностью во время правила да вдруг взбесится. Я же, грешный, жалея её, бывало, крестом благословлю и водою покроплю, бес и отступит от неё. И так было многажды.
Однажды в правило, задремав, повалилась она на лавку и уснула. И не пробуждалась три дня и три ночи: когда-никогда вздохнёт. Я же время от времени кажу её, думаю, умрёт. А на четвёртый день встала и, севши, плачет. Есть дают – не ест и не говорит. Того же дня вечером, проговорив правило и отпустив всех, во тьме начал я правило поклонное, по моему обычаю. Она же, приступив ко мне, пала и поклонилась до земли. Я же от неё отошёл за стол, боясь дьявольского искушения, и сел на лавку, говоря молитвы. А она, приступив к столу, говорит: «Послушай, государь, велено тебе сказать». Я и слушать стал. Она же, плача, говорит: «Когда-де я, батюшка, на лавку повалилась, приблизились ко мне два ангела, взяли меня и повели зело тесным путём. На левой стороне слышала я плач с рыданием и голоса жалостные. Потом-де привели меня в светлое место: жилища и палаты стоят. И одна палата всех больше и ярче всех сияет красно. Ввели-де меня в неё, а в ней-де стоят столы, а на них постлано бело и блюда с яствами стоят. В конце-де стола древо прекрасное повевает ветвями развесистыми, а из него – птичьи голоса зело умильные, не могу про них и рассказать сейчас. Потом-де вывели меня из палаты; идучи, спрашивают: “Знаешь ли, чья сия палата?” И я-де отвечала: “Не знаю, пустите меня в неё”. А они мне на это отвечали: “Отца твоего Аввакума сия палата. Слушайся его, так-де и ты с ним будешь. Крестися, слагая так персты, и кланяйся Богу, как он тебе наказывает. А не станешь слушаться, так будешь в давешнем месте, где слышала плач тот. Скажи же отцу своему, мы не бесы, мы ангелы, смотри – у нас и крылышки”. И я-де, батюшка, смотрела: бело у ушей-то их»243.
После того, испросив прощения, стала она благочинно по-прежнему жить. Потом из Тобольска сослали меня в Даурию, и я у сына духовного оставил её тут. А дьявол опять сделал по-своему: пошла за Елизара замуж и деток прижила. Когда услыхала, что я назад еду, отпросясь у мужа, постриглась за месяц до меня.
А когда замужем была, временами бес её мучил. Когда же в Тобольск я приехал, пришла она ко мне и ребятишек двоих положила передо мной, – каяся, плачет и рыдает. Я же перед людьми кричу на неё. Потом к обедне за мною в церковь пришла, и во время переноса напал на неё бес: начала кричать кукушкою и собакою и козою блекотать. Я же, сжалившись, покинув петь «Херувимскую», взял крест из алтаря и на беса закричал: «Запрещаю тебе именем Господним! Изыди из неё и впредь не входи в неё!» Бес и оставил её. Она же припала ко мне, за ту же вину (прося прощения). И я её простил и крестом благословил, и стала она здорова душой и телом. Потом и на Русь её я вывез. Имя ей во инокинях Агафья, страдала много за веру с детьми моими, с Иваном и Прокопьем, всех их вместе, (оставленных) в Москве (на поруки), Павел-митрополит мучил волокитою244.
А ещё, отче, ко мне в дом матери принашивали деток своих маленьких, страдавших грыжею. Да когда и мои детки страдали в младенчестве грыжною болезнью, я помажу им маслом священным с молитвою пресвитерской все чувства и, на руку масла положив, вытру болящему спину и животик, – и Божией благодатью грыжная болезнь и минует. А ежели повторится у какого младенца та же болезнь, то я так же сотворю, и Бог окончательно исцеляет по своему человеколюбию.
А когда я ещё попом был, в самом начале, когда стал я к подвигу прикасаться, тогда бес меня так пугивал. Занемогла у меня жена сильно, и приехал к ней отец духовный; я же с вечера пошёл со двора в церковь за книгой, по которой исповедовать больную, дело было глубокой ночью. И когда пришёл на паперть, столик маленький, что был тут поставлен, поскакивает и дрожит бесовским действом. И я, не устрашась, помолился перед образом и осенил его рукою, и, подойдя, поставил его на место, – так и перестал скакать. А когда я вошёл в трапезную, тут другая бесовская игрушка: непогребённый мертвец стоял на лавке в трапезной, и бесовским действом верхняя доска раскрылась, и на мёртвом саван стал шевелиться, меня устрашая. Я же, помолясь Богу, осенил мёртвого рукою, – и снова стало по-прежнему. Когда же вошёл в алтарь, – ан ризы и стихари шумят и летают с места на место: дьявол действует, меня устрашая. И я, помолясь и поцеловав престол, благословил ризы рукою и, подойдя, их ощупал, а они висят по-старому на месте. И я, взяв книгу, вышел из церкви с миром. Таковы-то бесовские проделки над человеком.
Ещё скажу вам о жертве никонианской. Когда сидел я в темнице, принесли мне просвиру вынутую с крестом Христовым. Я же, соблазнясь, взял её и хотел потребить наутро, думал, чистая, – православная над нею была служба, понеже поп старопоставленный служил над нею. А до того тот поп по новым служил книгам и потом снова стал служить по-старому, не покаявшись в своей блудне.
Положил я просвиру в углу на месте и кадил во время вечернего правила. Когда же улёгся я в ту ночь и умолкли уста мои после молитвы, прискочил ко мне бесовский полк, и один (из них), щербат, красен, взял меня за голову и говорит: «Иди-ка ты сюда, попал ты мне в руки!» – и свернул мне голову. Я же, томясь, еле-еле проговорил Исусову молитву, – и отскочили и исчезли бесы. А я, стеная и охая, не понимаю, за что меня бес мучил. Помолясь Богу, опять я улёгся. Когда же забылся, вижу на некоем месте церковь, и (в ней) образ Спасов и крест по-латынски написаны; и латынщики, не по-нашему творя поклоны, молятся по-латынски. И некто из предстоящих велел крест тот мне поцеловать. И когда я поцеловал, напали на меня снова бесы и сильно меня умучили. Я после них поднялся совсем расслаблен и разломан, не могу и сидеть; уразумел, что из-за просвиры бесами поруган, – выложил её за окошко и ночь ту и день провёл в немощи и болезни, размышляя, что же мне делать с просвирой.
Когда же пришла другая ночь, улёгся я после правила и, не спя, говорю молитвы. Вскочил бесовский полк в келью мою с домрами и с гудками, и один сел на месте, где просвира лежала. И начали они играть на гудках и домрах, а я их слушаю, лёжа; меня уж не тронули, и исчезли. Я после них поднялся и, молясь Богу со слезами, обещался сжечь ту просвиру. И пришла на меня благодать Духа Святого; словно искры огня невещественного пред очами моими блистали, и сам я в тот час стал здоров; по благодати духовной сердце мое наполнилось радостью. Затопил я печь и сжёг просвиру, выкинул и пепел за окошко и сказал: «Вот, бес, твоя от твоих245 тебе в глаза бросаю!»
И на другую ночь один бес, в хижину мою войдя, походив (по ней) и ничего не обретя, только чётки из рук моих вышиб и исчез. Я же, поднявши чётки, снова начал говорить молитвы. И в другое время, среди дня, на полу в поддыменье лёжа, опечалился я из-за креста, что сжёг на просвире, и от печали запел стих на глас третий: «И печаль мою пред ним возвещу»246, а в то время бес на меня вскричал до боли громко. Я же, ужаснувшись, снова начал говорить молитвы. Потом, в другую ночь, забывши (о случившемся), из-за креста того я снова опечалился и уснул; и напали на меня бесы, и снова умучили меня, как и прежде. И я, расслаблен и изломан, насилу жив, с доски свалился на пол и, моля Бога и каясь о своём безумии, проклял отступника Никона с никонианами, и книги их еретические, и жертву их, и всю их службу, – и благодать Божия снова сошла на меня, и стал я здоров.
Смотрите, люди, каково опасно бесовское действо христианам! А когда бы съел я ту просвиру, так бы меня, чай, и задавили бесы. От малого их никонианского освящения такая беда, а от большого – агнца причастившись – что получишь? Только вечную муку.
Лучше умереть не причастившись, чем, причастившись, осуждённым быть!
О причастии святых Христовых непорочных Таин. Всякому в нынешнее время подобает осмотрительно жить и не без рассмотрения причащаться Тайн. Если из-за гонения не получишь православного священника, то имей у себя от священнослужения православных запасные Дары, и, обретши духовного брата, хоть бы и не священника, исповедайся ему, пред Богом каясь. И по утреннем правиле на коробочку постели платочек, перед образом зажги свечку, и на ложечку на коробке устрой водицы и в неё положи часть Тайны; и, покадив кадилом, приступи со слезами, глаголя: «Се приступаю к Божественному причащению, Владыка, да не опалиши мя приобщением, но очисти мя от всякия скверны, огонь бо, – рекл еси, – недостойных опаляяй. Се предлежит Христос на пищу всем, мне же прилеплятися Богу благо есть и полагать на Господа упование спасения моего. Аминь»247. И после этого причастись с сокрушенным сердцем и опять воспой благодарение Богу; и поклонцы по силе, испрошение прощения перед братом. Если ты один, то перед образом, пав на землю, говори: «Пр ости меня, Владыка Христе Боже, елико согрешил»248, всё до конца говори. И потом образ целуй и крест на себе. И прежде причастия тоже надобно образ целовать. Ну, прости же и меня, а тебя Бог простит и благословит. Вот хорош и умереть готов. Так, видал я, в правилах указано, твори так, не опасайся.
Еще, старец, тебе, расскажу историю, как я был в Даурии с Пашковым Афанасием на озере Иргене. Голодны гораздо, а рыбы никто добыть не может, а иного ничего и нет, от голода кончаемся. Помолил я Бога, взял две сети и в протоке закинул. Наутро пришёл, – ан мне Бог дал шесть язей да две щуки. Все люди дивятся, потому никто ничего добыть не может. На другие сутки рыб с десять мне Бог дал. Тут проведавший о том Пашков и исполнившийся зависти согнал меня с того места и свои ловушки на том месте велел поставить, а мне в насмешку и на поругание указал место на броду, где коровы и козы бродят. Человеку воды по лодыжку, – какая рыба, и лягушек нет! Тут мне зело было горько. А потом, подумав, я сказал: «Владыка Человеколюбец, не вода даёт рыбу, а всё ты, Спасе наш, промыслом своим устраиваешь на пользу нашу. Дай мне рыбки-той на безводном-том месте, посрами дурака того, прославь имя твоё святое, да не рекутневерные: “Где есть Бог их!”»249. И помолясь, взяв сети, с детьми, в воде бродя, положили сети. Дети мне, бедные, кручинясь, говорят: «Батюшка, к чему гноить сети-те? Разве не видишь, и воды нету, какой быть рыбе?» Я же, не слушая их совета, на Христа уповая, сделал так, как захотелось.
И наутро посылаю детей к сетям. Они же мне отвечали: «Батюшка-государь, почто идти, какая в сетях рыба! Благослови нас, мы по дрова лучше сбродим». Мною же дух движет, – чаю в сетях рыбу. Осердясь на большого сына Ивана, послал его одного по дрова, а с меньшам потащился к сетям сам, гораздо о том Христу докучаю. Когда пришли, – ан и чудно, и радостно обрели: полны сети напихал Бог рыбы, свившись клубком, лежат с рыбою в серёдке. И сын мой Прокопий закричал: «Батюшка-государь, рыба, рыба!» А я ему отвечал: «Постой, чадо, не так подобает, но прежде поклонимся Господу Богу и тогда пойдём в воду».
И помолясь, вытащили на берег рыбу, хвалу воссылая Христу Богу. И устроив снова на том же месте сети, рыбу домой насилу оттащили. Наутро пришли – опять столько же рыбы, на третий день – снова столько же рыбы. И слёзно, и чудно то было время.
А на прежнем нашем месте ничего – Пашкову Бог не даёт рыбы. Он же, исполнясь зависти, снова послал (людей своих) ночью и велел сети мои в клочки изорвать. Что-петь с дураком поделаешь! Мы, собрав рваные сети, починив их тайно, на другом месте добывали рыбку и кормились, от него таясь. И сделали ез250, Бог же и там стал рыбы давать. А дьявол (Пашкова) научил, и он велел ез тайно разломать. Мы, терпя Христа ради, опять его починили; и много раз это было. Богу нашему слава, ныне, и присно, и во веки веком. Терпение убогих не погибнет до конца251.
Слушай-ка, старец, ещё. Ходил я на Шакшу-озеро252 к детям по рыбу – от двора верст с пятнадцать, там они с людьми (рыбу) промышляли – в то время, как лёд треснул и меня напоил Бог; и нагрузив у детей нарту большую рыбы, домой её потащил, маленьким детям, после Рождества Христова. И будучи посреди пути, изнемог, тащивши рыбу по земле, понеже снегу там не бывает, только морозы великие. Ни огня, ничего нет, ночь настигла. Выбился я из сил, вспотел, и ноги не служат. Вёрст с восемь до двора; рыбу бросить и так побрести – лисицы съедят, а домашние голодны; всё стало горе; а тащить не могу. Потащу сколько-то, ноги задрожат, да и упаду в лямке среди пути ниц лицом, что пьяный; потом, озябнув, встану и ещё пройду столько же, и снова упаду.
Бился я так долго, с половину ночи. Скинул с себя мокрое платье, вздел на мокрую рубаху сухую тонкую тафтяную беличью шубу и влез на вершину дерева, уснул. Свалившись, пробудился, – ан всё замёрзло, и базлуки на ногах замёрзли, шубёнка тонка, и весь я озяб. Увы, Аввакум, бедная сиротина, как искра огня угасает и как неплодное дерево подсекается, сама смерть пришла. Взираю на небо и на сияющие звёзды, думаю о (пребывающем) там Владыке, а сам и перекреститься не могу: совсем замёрз. Думаю, лёжа: «Христе, свете истинный, если ты меня от безвременного сего и нежданного часа не избавишь, нечего мне больше делать, как червь пропадаю!» И вот, согрелось сердце моё во мне, ринулся я с места снова к нарте и на шею, не помню как, натянул лямку, опять потащил. Ан нет силки. Ещё версты с четыре до двора, – бросил я, хоть и жаль, всё, побрёл один. Тащился с версту да и повалился, совсем не могу; полежав, ещё хочу побрести, ан ноги обмёрзли, не могу их подымать; ножа нет, базлуков отрезать от ног нечем. На коленях и на руках полз с версту. Колени озябли, не могу владеть, опять лёг. Уже двор и не так далеко, да не могу попасть; на гузне помаленьку ползу. Кое-как и дополз до своей конуры. У дверей лежу, промолвить (слова) не могу и отворить дверей тоже не могу.
К утру уже (когда) встали, уразумев, протопопица втащила меня, будто мёртвого, в избу; жажда мне велика – напоила меня водою, раздевши. Два ей горя, бедной, в избе стало: я да немощная корова, – только у нас и животин было, – упала на воде под лёд, переломав кости, умирает, в избе лёжа. В двадцать пять рублей нам стала та корова, ребяткам молочка давала. Царевна Ирина Михайловна ризы мне из Москвы и всю утварь для службы в Тобольск прислала253, и Пашков, на церковный обиход взяв, мне в счёт этого коровку ту было дал; кормила нас с ребятами год-другой. Бывало, и с сосною, и с травою молочка того хлебнёшь, так легче на брюхе.
Плача, жена, бедная, с детьми зарезала корову и вытекшую кровь из коровы дала наймиту-казаку, и он приволок нарту мою с рыбой.
За обедом я, за грехи мои, подавился – другая мне смерть! С полчаса не дышал, сидел, наклонясь, прижав руки. А не куском подавился, но крошечку рыбки положив в рот: вздохнул, вспомянув смерть, что ничто человек в житии сем, а крошка в горло и бросилась да и задавила. Колотили долго по спине, да и перестали; не вижу уж людей, и памяти не стало, зело горько-горько в то время было. Ей, горька смерть грешному человеку! Дочь моя Агриппина254 была невелика, плакала долго, на меня глядя, и никто её не учил – ребёнок, разбежавшись, локтишками своими ударилась мне в спину, – и запёкшийся сгусток крови из горла выпал, и стал я дышать. Большие возились со мною долго, но без воли Божией не могли ничего сделать; а приказал Бог ребёнку, и он, Богом направляем, пророка от смерти избавил. Гораздо невелика была, хлопочет около меня, будто большая, как в старину Юдифь об Израиле, или как Эсфирь о Мардохее, своём дяде, или как мудрая Девора о Бараке255.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.