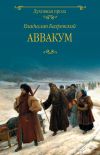Текст книги "Древнерусская литература, Жития"
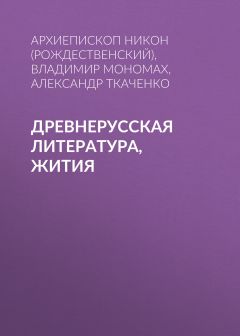
Автор книги: Александр Ткаченко
Жанр: Религия: прочее, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Полно о том. Снова стану говорить, как меня по грамоте из Тобольска повезли на Лену.
А когда в Енисейск привезли, другой указ пришёл: велено в Даурию везти, тысяч с двадцать от Москвы и больше будет. Отдали меня Афанасью Пашкову88: он туда воеводой послан, и, по грехам моим, суров и бесчеловечен человек, бьёт беспрестанно людей, и мучит, и жжёт. И я много выговаривал ему, да и сам в руки попал, а из Москвы от Никона ему приказано мучить меня.
Поехали из Енисейска89. Когда будем на Тунгуске-реке90, бурею дощаник мой в воду погрузило, набрался посреди реки полон воды, и парус изорвало, одна палуба наверху, а то всё в воду ушло. Жена моя ребят кое-как повытаскала наверх, а сама ходит простоволосая, не помня себя, а я, на небо глядя, кричу: «Господи, спаси! Господи, помоги!» И Божией волею к берегу нас прибило. Много о том говорить. На другом дощанике двух человек сорвало, и утонули в воде. Оправясь, поехали мы снова вперёд.
Когда приехали на Шаманский порог91, навстречу нам приплыли люди, а с ними две вдовы, – одна лет шестидесяти, а другая и старше, плывут постричься в монастырь. А тот Пашков стал их ворочать и хочет замуж отдать. И я ему стал говорить: «По правилам не подобает таковых замуж отдавать». Он же, осердясь на меня, на другом пороге стал меня из дощаника выбивать: «Еретик-де ты, из-за тебя-де дощаник худо идёт, пойди-де по горам, а с казаками не ходи!»
Горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые, утёс каменный как стена стоит, и поглядеть – запрокинув голову. В горах тех обретаются змеи великие, в них же обитают гуси и утицы – оперенье дивное; там вороны чёрные, а галки – серые, иное, чем у русских птиц, имеют оперение. Там и орлы, и соколы, и кречеты, и цыплята индейские, и пеликаны, и лебеди, и иные дикие, многое множество птиц разных. На тех горах гуляют звери дикие: козы, и олени, и маралы, и лоси, и кабаны, волки и бараны дикие; глазами видим, а взять нельзя. На те горы выгонял меня Пашков со зверьми обитать.
И я ему малое писаньице послал92, таково начало: «Человек, убойся Бога, сидящего на херувимах и зрящего в бездны, пред кем трепещут небо и земля с людьми и всё творение, только ты один пренебрегаешь и непокорство пред ним выказываешь», и прочее там многонько написано. И вот – бегут человек с пятьдесят, взяли мой дощаник и помчали к нему, версты с три от него стоял: я казакам каши с маслом наварил да кормлю их, и они, бедные, едят и дрожат, а иные плачут, глядя на меня, жалеючи меня.
Когда дощаник привели, взяли меня палачи, поставили перед ним. Он же стоит и дрожит, подпершись шпагой. Начал мне говорить: «Поп ли ты или распоп?» И я отвечал: «Аз есмь Аввакум протопоп. Что тебе за дело до меня?» Он же, зарычав как дикий зверь, ударил меня по щеке, и ещё по другой, и снова по голове; сбил меня с ног, ухватил у слуги своего чекан93 и трижды по спине, лежачего, зашиб, и, раздевши, (приказал) – по той же спине семьдесят два удара кнутом. Палач бьёт, а я говорю: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мне!» Да то же и то же говорю. Так ему горько, что не говорю: «Пощади». На всякий удар: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мне!» Да на середине-то вскричал я: «Полно бить-то!» Так он велел перестать. И я промолвил ему: «За что ты меня бьёшь, ведаешь ли?» И он снова велел бить меня по бокам. Отпустили. Я задрожал да и упал; и он велел оттащить меня в казённый дощаник. Сковали руки и ноги и кинули на беть94.
Осень была, дождь на меня шёл и в побои, и ночью. Как били, так не больно было с молитвою-тою, а лёжа на ум взбрело: «За что ты, Сыне Божий, попустил так больно избить меня? Я ведь за вдов твоих встал! Кто даст судию между мною и тобою! Когда грешил, ты меня так не огорчал, а ныне не ведаю, чем согрешил!» Будто добрый человек, другой фарисей, сын погибели, с говённой рожею праведником себя почёл да со Владыкою, что Иов непорочный, – на суд95. Да Иов хотя бы и грешен, ан нельзя на него дивиться, он не ведая Закона жил, Писания не разумел, в варварской стране живя, хоть и был того же рода Авраамова, но из колена идолопоклонников. Внимай: Исаак Авраамович родил скверного Исава, Исав родил Рагуила, Рагуил родил Зару, Зара же – праведного Иова96. Вот смотри, у кого было Иову добра научиться, – все прадеды идолопоклонники и блудники были. Но по творению Бога уразумев, жил праведник непорочно и, в язвах лёжа, произнёс слова по недомыслию и от простоты сердца: «Изведший меня из чрева матери моей, кто даст судию между мною и тобою, что ты так наказываешь меня; не оставлял я без попечения ни сироты, ни вдовицы, шерсть овец моих шла на одеяние нищим!»97 И сошёл Бог к нему, и прочее. А я на такое же дерзнул от какого разума? Родился в Церкви, на Законе стою, Писанием Ветхого и Нового Закона ограждён, поводырём себя мню слепым, а слеп изнутри сам. Как дощаник-то не погряз со мною! Стало у меня в те поры кости щемить и жилы тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал. Воды мне в рот плеснули, так я вздохнул и покаялся пред Владыкою, да и опять всё перестало болеть.
Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу Падуну Большому98, – река в том месте шириной с версту, три порога гораздо круты, и если не воротами что поплывёт, так в щепы изломает. Привезли меня под порог: сверху дождь и снег, на плечах один только кафтанишко накинут, льёт по спине и по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью, скованного, около порога того тащили. Да уж больше не пеняю Спасителю своему, но (словами) пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует.
Бьет же всякаго сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к нему, то оказываетесь выблядками, а не сыновьями»99.
Потом привезли меня в Братский острог100 и кинули в студёную тюрьму, соломки дали немножко. Сидел до Филиппова поста в студёной башне. Там в те поры зима живёт, да Бог грел и без платья всяко. Что собачка, в соломе лежу на брюхе: на спине-то нельзя было. Когда покормят, а когда и нет. Есть-то после побоев тех хочется, да ведь то неволя: когда пожалуют – дадут. Да безчинники издевались надо мною: иногда одного хлебца дадут, а иногда ветчинки одной неварёной, иногда масла коровьего, тоже без хлеба. Я же прямо-таки, что собака, так и ем. Не умывался ведь. Да и кланяться не смог, лишь на крест Христов погляжу да помолитвую. Караульщики по пяти человек поодаль стоят. Щёлка в стене была, – собачка ко мне каждый день приходила, чтоб поглядеть на меня. Как Лазарю на гноище у врат богатого псы облизывали гной его101, отраду ему творили, так и я со своею собачкою поговаривал. А люди далече окрест меня ходят и поглядеть на тюрьму не смеют. Мышей много у меня было, я их скуфьёю бил: и батожка не дали; блох да вшей было много. Хотел Пашкову кричать: «Прости!», да сила Божия возбранила, велено терпеть.
В шестую неделю после побоев перевёл он меня в тёплую избу, и я тут с аманатами102 и с собаками зимовал, скован. А жена с детьми вёрст за двадцать от меня сослана была. Баба Ксенья мучила её там, бранясь, всю ту зиму, в месте пустынном.
Сын Иван ещё невелик был, прибрёл ко мне побывать после Христова Рожества, и Пашков велел его кинуть в студёную тюрьму, где я прежде сидел. Ребячье дело – замёрз было тут; сутки сидел, да и опять велел (Пашков) к матери его вытолкать; я его и не видал. Приволокся – руки и ноги обморозил.
Весной снова поехали вперёд. Всё разорено: и (съестные) запасы, и одежда, и книги – всё растащено. На Байкалове море снова я тонул. По реке по Хилку103 заставил меня (Пашков) лямку тянуть; зело тяжек путь по ней был: и поесть некогда было, не то что спать; целое лето бились против течения. От тяготы водной осенью у людей и у меня стали ноги пухнуть и живот посинел, а на другое лето и умирать стали от воды. Два лета бродил я в воде, а зимами волочился волоком через хребты104.
На том самом Хилке в третий раз тонул. Барку от берега оторвало; у людей (барки) стоят, а меня понесло; жена и дети остались на берегу, а меня сам-друг с кормщиком понесло. Вода быстрая, переворачивает барку вверх дном и снова палубой, а я на ней ползаю и кричу: «Владычица, помоги! Упование, не погрузи!» Иной раз ноги в воде, а иной раз выползу наверх. Несло с версту и больше, да перехватили; всё размыло до крохи. Из воды выйдя, смеюсь, а люди те охают, глядя на меня, платье-то по кустам развешивают. Шуб шёлковых и кое-какой безделицы было ещё много в чемоданах да в сумах – с тех пор всё перегнило, наги стали.
А Пашков меня же хотел бить: «Ты-де себя выставляешь на посмешище». И я, в куст зайдя, к Богородице припал: «Владычица моя, Пресвятая Богородица, уйми дурака того, и так спина болит!» Так Богородица-свет и уняла – стал по мне тужить.
Доехали до Иргеня-озера105. Волок тут, стали волочиться. А у меня (Пашков) работников отнял, другим наняться не велит. А дети были маленьки: таскать не с кем, один бедный протопоп. Сделал я нарту и зиму всю за волок бродил. У людей и собаки в подпряжках, а у меня не было ни одной, кроме двух сынов, – маленьки были ещё Иван и Прокопий, тащили со мною, что кобельки, за волок нарту. Волок – вёрст со сто; насилу, бедные, и перебрели. А протопопица муку и младенца за плечами на себе тащила. А дочь Аграфена брела-брела да на нарту и взвалилась, и братья её со мной помаленьку тащили. И смех, и горе, как помянутся дни те: ребята-то изнемогут и на снег повалятся, а мать по кусочку пряничка им даст, и они, съевши, опять лямку потянут.
И кое-как перебились через волок да под сосною и жить стали, что Авраам у дуба Мамврийского106. Не пустил нас Пашков и в засеку сперва, пока не натешился; и мы неделю-другую мерзли под сосною с ребятами, одни без людей на бору; потом в засеку пустил и указал мне место. Так мы с ребятами огородились, балаганец сделав, и огонь жгли. И как до воды домаялись весной, поплыли на плотах по Ингоде-реке; от Тобольска четвертое лето.
Лес гнали строевой, городовой и хоромный, есть стало нечего, люди стали мереть с голоду и от водных скитаний. Река песчаная, (берега) сыпучие, плоты тяжёлые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие, огонь да встряска. Люди голодные, лишь только начнут бить, ан он и умрёт, и без битья насилу человек дышит. С весны по одному мешку солоду дано на десять человек на всё лето, да-петь работай, никуда на промысел не ходи. И вербы, бедный, сбродит в кашу нащипать – и за то палкою по лбу: «Не ходи, мужик, умри на работе». Шестьсот человек было, всех так-то перестроил. Ох, времени тому, не знаю, как из ума он исступил!
Однорядка московская жены моей не сгнила, по-русски рублей в двадцать пять, а по-тамошнему и больше. Дал нам четыре мешка ржи за неё, и мы, (рожь) с травою (перемешав), перебивались. На Нерче-реке все люди с голоду померли, осталось небольшое число. По степям скитаясь и по лесу, траву и коренья копали, и мы с ними тоже, а зимой сосну. Иной раз кобылятины Бог даст, а иной раз кости зверей, задранных волками, находили, и что от волка осталось, то мы глодали; а иные и самих замёрзших волков и лисиц ели.
Два сына у меня умерли в той беде107. Невелики были, да всё одно детки. Пускай так, куда-то денутся (Бог их приберёт). А с другими мы, скитаясь, наги и босы, по горам и по острым каменьям, травою и кореньями перебивались. И сам я, грешный, отведал по нужде кобыльего мяса и мертвечины. Но помогала нам по Христе боярыня, воеводская сноха Евдокия Кирилловна108, да жена его, Афанасия, Фёкла Симеоновна109. Они нам от смерти, Христа ради, отраду давали тайно, чтоб он не сведал. Иногда пришлют кусок мясца, иногда колобок, иногда мучки и овсеца сколько удастся – четверть пудика и гривенку-другую110, а иногда и полпудика, и пудик передаст, накопив, а иногда от кур корма нагребёт111. И той великой нужды было годов с шесть и больше. А в другие годы Бог пощадил.
А Афанасий тот, замышляя злое, мне беспрестанно смерти ищет. В той самой нужде прислал ко мне двух вдов, – сенные любимые его были, Мария да Софья, одержимые духом нечистым. Ворожил он и долго колдовал над ними, и видит, яко ничтоже успевает, но паче молва бывает112, – зело жестоко их бесы мучат, кричат и бьются. Призвал меня и говорит, поклонясь: «Пожалуйста, возьми ты их и попекись об них, моля Бога, – послушает тебя Бог». И я ему отвечал: «Выше, говорю, государь, меры прошение, но по молитвам святых отцов наших всё возможно Богу». Взял их, бедных.
Простите, Господа ради! Во искусе то на Руси бывало – человека три-четыре бешеных в дому моём бывало приведённых, и, по молитвам святых отцов, исходили из них бесы действом и повелением Бога живого и Господа нашего Исуса Христа, Сына Божия, света. Слезами и водою покроплю и маслом помажу во имя Христово, поя молитвы, – сила Божия и отгоняла от людей бесов, и здравы делались, не по моему достоинству, но по вере приходящих. В старину благодать действовала ослом при Валааме113, и при Ульяне-мучени-ке – рысью, и при Сисинии – оленем114: говорили человечьим голосом. Бог идеже хощет, побеждается естества чин115. Читай житие Феодора Эдесского, там обрящешь – и блудница мёртвого воскресила116. В Кормчей писано: «Не всех Дух Святой рукополагает, но через всех действует, кроме еретика»117.
Так вот, привели ко мне баб бешеных. Я, по обыкновению, сам постился и им не давал есть. Молебствовал и маслом мазал и, как знаю, действовал. И бабы о Христе целоумны стали. Христос избавил их, бедных, от бесов. Я их исповедал и причастил; живут у меня и молятся Богу, любят меня и домой не идут.
Проведал он, что сделались мне дочерьми духовными, осердился на меня опять пуще прежнего, хотел меня в огне сжечь: «Ты-де выведываешь мои тайны»; а их домой взял. Он думал, Христос так оставит – ан они и пуще прежнего стали беситься. Запер он их в пустую избу, никому и доступа к ним нет. Призвал к ним чёрного попа, а они в него поленьями бросают. Я дома плачу, а что делать не знаю. И приступить ко двору не смею: больно сердит на меня. Тайно послал к ним воды святой, велел их умыть и напоить. И им, бедным, дал Бог, легче от бесов стало. Прибрели ко мне сами тайно. И я их помазал во имя Христово маслом, так они опять стали, дал Бог, по-прежнему здоровы и опять домой ушли; да по ночам ко мне прибегали Богу молиться118.
Ну-ка, всяк правоверный, рассуди прежде Христова суда: как было мне их причастить, не исповедав? А не причастив, бесов полностью не отгонишь. Я иного оружия на бесов не имею, только крест Христов, и священное масло, и вода святая, да когда сойдётся, слёз каплю-другую тут же прибавлю; а совершенное исцеление бесноватому – исповедаю и причащу Тела Христова, так, даёт Бог, и здрав бывает. За что было на то гневаться? Явно бес в нём действовал, помеху творя его спасению.
Да уж Бог его простит. Постриг я его и посхимил, в Москву приехав: царь мне его головою выдал, Бог так изволил. Много о том Христу докуки было, да слава за него Богу. Давал мне в Москве он и денег много, да я не взял: «Мне, – говорю, – спасение твое только надобно, а не деньги; постригись, – говорю, – так и Бог простит». Видит он беду неминучую, – прислал ко мне со слезами. Я к нему на двор пришёл, и он пал предо мною, говорит: «Волен Бог да и ты надо мною». Я, простив его, с чернецами чудовскими постриг его и посхимил. А Бог ему и ещё трудов прибавил, потому как докуки моей об нём ко Христу было, чтобы он его себе присвоил: рука и нога у него отсохли, в Чудове из кельи не выходит. Да любо мне сильно, чтоб его Бог Царствия Небесного сподобил. Докучаю и ныне о нём, да и надеюсь на Христову милость, нас с ним, бедных! Полно о том, стану снова про даурское бытие говорить.
Так вот, потом с Нерчи-реки возвратились мы назад на Русь119. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне (Пашков) под ребят и под всякую рухлядь дал две клячи, а сами мы с протопопицей брели пеши, убиваясь об лёд. Страна варварская, инородцы немирные, отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеваем, голодные и измученные люди. В одну пору протопопица, бедная, брела-брела да и повалилась, и встать не может. А другой, тоже измученный (человек), тут же повалился: оба барахтаются, а встать не могут. После мне, бедная, пеняет: «Долго ль-де, протопоп, сие мучение будет?» И я ей сказал: «Марковна, до самой до смерти». Она же в ответ: «Добро, Петрович, тогда ещё побредём».
Курочка у нас была черненька, по два яичка на всякий день приносила, Бог так устраивал ребяткам на пищу. По грехам нашим, в то время, везя на нарте, задавили её. Не курочка, а чудо была, по два яичка на день давала. А не просто нам и досталась. У боярыни куры все занемогли и переслепли, пропадать стали; и она, собрав их в короб, прислала ко мне, велела об них молиться. Я, грешный, молебен пел, и воду святил, и кур кропил, и, в лес сходив, корыто им сделал, и отослал назад. Бог же, по вере её, и исцелил их. От того-то племени и наша курочка была.
Снова приволоклись на Иргень-озеро. Боярыня прислала-пожа-ловала сковородку пшеницы, и мы кутьи наелись.
Кормилица моя была та боярыня Евдокия Кирилловна, а и с нею дьявол ссорил; вот как. Сын у неё был Симеон120, там родился; я молитву давал и крестил. Всякий день присылала его к благословению ко мне.
Я крестом благословлю и водою покроплю и, поцеловав его, назад отпущу, – дитя наше здраво и хорошо. Не случилось меня дома, занемог младенец. Смалодушничав, осерчав на меня, послала она ребёнка к шептуну-мужику. А я, узнав, осерчал тоже на неё, и меж нами распря великая учинилась.
Младенец пуще занемог: рука и нога, что батожки, засохли. В смятение (боярыня) пришла, не знает, что делать. А Бог пуще угнетает: ребёночек кончаться стал. Пестуны, приходя ко мне, плачут, а я говорю: «Коли баба лиха, живи же себе одна!» А ожидаю покаяния её. Вижу, что ожесточил дьявол её сердце; припал ко Владыке, чтобы образумил её.
Господь же премилостивый Бог умягчил ниву сердца её: прислала наутро Ивана, сына своего, со слезами прощения просить. Он кланяется, ходя около моей печи, а я на печи наг под берестой лежу, а протопопица в печи, а дети кое-где перебиваются: случилось в дождь, одежды не стало, а зимовье каплет, – всяко мотаемся. И я, смиряя, приказываю ей: «Вели матери прощения просить у Арефы-колдуна». Потом и больного принесли и передо мной положили, плача и кланяясь. Я же, встав, добыл в грязи епитрахиль и масло священное нашёл; помолив Бога и покадив, помазал его маслом во имя Христово и крестом благословил. Младенец же и здрав стал по-прежнему, с рукою и с ногою, по Божьему мановению. Я, напоив водою, к матери его послал.
Наутро прислала боярыня пирогов да рыбы; и с тех пор помирились. Выехав из Даурии, умерла, миленькая, в Москве; я и погребал её в Вознесенском монастыре121.
Узнал про младенца и сам Пашков, она ему сказала. Я к нему пришёл, и он поклонился низенько мне, а сам говорит: «Господь тебе воздаст; спаси Бог, что ты по-отечески творишь, не помнишь зла нашего». И в тот день пищи довольно прислал.
А после того вскоре чуть было не стал меня пытать. Послушай-ка, за что. Отпускал он сына своего Еремея122 в Мунгальское царство123 воевать – казаков с ним семьдесят два человека да тунгусов двадцать человек – и заставил инородца шаманить, сиречь гадать, удастся ли им поход и с добычею ли домой будут. Тот же мужик-волхв близ моего зимовья привёл ввечеру живого барана и стал над ним волхвовать; отвертев ему прочь голову, начал скакать и плясать и бесов призывать, крича много; о землю ударился, и пена изо рта пошла. Бесы его давили, а он их спрашивал, удастся ли поход. И бесы сказали: «С победой великой и с большим богатством будете назад».
Ох душе моей! От горести погубил овец своих, забыл о писаном в Евангелии, когда Заведеевичи про поселян жестоких советовали: «Господи, аще хощеши, – сказали, – да огонь снидет с небес и истребит их, якоже и Илия сотворил». И, оборотившись, Исус сказал им: «Не знаете, коего духа вы. Сын Человеческий не пришел душ человеческих погубить, но спасти их». И пошли в иную весь124. А я, окаянный, не так сделал: в хлевине своей с воплем Бога молил, да не возвратится вспять ни один из них, да не сбудется пророчество дьявольское; и много о том молился.
Сказали ему, что я так молюсь, и он лишь излаял в те поры меня, отпустил сына с войском.
Поехали ночью по звёздам. Жаль мне их; видит душа моя, что им быть побитым, а сам-таки молю о погибели на них. Иные, приходя ко мне, прощаются, а я говорю им: «Погибнете там!» Как поехали, так лошади под ними вдруг заржали, и коровы тут заревели, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами инородцы, что собаки, завыли; ужас напал на всех. Еремей прислал ко мне весть, «чтоб батюшка-государь помолился за меня». И мне его сильно жаль: друг он мне тайный был и страдал за меня. Когда меня его отец кнутом бил, стал он говорить отцу, так тот кинулся за ним со шпагой. И когда на другой порог приехали, на Падун, все сорок дощаников в ворота прошли без вреда, а его, Афанасия, дощаник, – снасть добрая была, и казаки, все шестьсот (человек), пеклись о нём, – а не могли провести, взяла силу вода, сказать же лучше, Бог наказал. Стащило всех людей в воду, а дощаник на камень бросила вода и через него переливается, а в него не идёт. Чудо, как Бог безумных тех учит! Боярыня в дощанике, а сам он на берегу. И Еремей стал ему говорить: «За грех, батюшка, наказывает Бог! Напрасно ты протопопа-то кнутом-тем избил. Пора покаяться, государь!» Он же зарычал на него, как зверь.
А Еремей стоит, отклонясь к сосне, и, прижав руки, «Господи помилуй!» говорит. Пашков, схватив у малого колесчатую пищаль, – никогда не лжёт, – прицелившись в Еремея, спустил курок: осеклась и не выстрелила пищаль. Он же, поправив порох, прицелившись, опять спустил, и снова осеклось. Он и в третий раз (так же) сотворил – так же не выстрелила (пищаль). Он и бросил её на землю. Малый, подняв (её), в сторону спустил – пищаль и выстрелила! А дощаник по-прежнему на камне под водою лежит. Потом Пашков сел на стул и шпагою подперся, задумался. А сам плакать стал. И, плача, говорит: «Согрешил я, окаянный, пролил неповинную кровь! Напрасно протопопа бил, за то меня и наказывает Бог!» О, чудо! По Писанию, косен Бог на гнев и скор на послушание125, – дощаник сам, покаяния ради, с камня сплыл и стал носом против воды. Потянули – и он взбежал на тихое место. Тогда Пашков, сына своего призвав, промолвил ему: «Прости, брат, Еремей, правду ты говоришь». Он же подошёл и поклонился отцу. А мне сказывал (о том) дощаника его кормщик Григорий Тельный, что тут был.
Смотри, не страдал ли Еремей ради меня, а пуще ради Христа! Слушай же, снова к прежнему возвратимся.
Поехали на войну. Жаль мне стало Еремея! Стал Владыке докучать, чтоб пощадил его. Ждали их, и не вернулись в срок. А в те поры Пашков меня к себе и на глаза не пускал. В один из дней устроил он застенок и огонь разложил – хочет меня пытать. Я, узнав, на исход души и молитвы проговорил, знаю стряпню его: после того огня мало у него живут. А сам жду (присылки) за собой и, сидя, плачущей жене и детям говорю: «Воля Господня да будет! “Аще живем – Господеви живем, аще умираем – Господеви умираем”126». А вот уж и бегут за мною два палача.
Чудо! Еремей сам-друг мимо моей избы дорожкою едет, и их позвал и воротил.
Пашков же, оставив застенок, к сыну своему с кручины, как пьяный, пришёл. Тогда Еремей, отцу своему поклонясь, подробно всё ему рассказал: как без остатка войско у него побили, и как увёл его инородец пустынными местами, раненого, от монгольских людей, и как он по каменным горам в лесу семь дней блудил, не евши, одну (только) белку съел; и как в образе моём человек во сне ему явился и благословил, и путь указал, в которую сторону идти, а он вскочил и обрадовался и выбрел на дорогу. Когда отцу рассказывает, а я в то время пришёл поклониться им. Пашков же, возведя очи свои на меня, вздохнув, говорит: «Так-то ты делаешь, людей-тех столько погубил». А Еремей мне говорит: «Батюшка, поди, государь, домой! Молчи, ради Христа!» Я и пошёл.
Десять лет он меня мучил, или я его – не знаю, Бог разберёт.
Перемена ему пришла127, и мне грамота пришла128: велено ехать на Русь. Он поехал, а меня не взял с собою; мыслил про себя: чай, без него и не вызволит меня Бог. Да и сам я убоялся с ним плыть: перед отъездом говорил он: «Здесь-де земля (его) не взяла, по пути-де вода у меня приберёт». Среди моря велел бы с судна спихнуть, а сказал бы, будто я сам свалился; потому и сам я с ним не захотел.
Он в дощаниках поплыл с людьми и с оружием, а я – месяц спустя после него, набрав старых, и раненых, и больных, кои там негодны, человек с десяток, да я с семьёй, семнадцать человек. В лодку сев, уповая на Христа и крест на носу поставив, поехали, ничего не боясь. А иной раз, бывало, и боялись, тоже ведь люди, да куда было деться, всё одно смерть! Бывало то и с Павлом апостолом, сам о себе так свидетельствует: «Внутрь убо – страх, а вне убо – боязнь»;129 и в другом месте: «Уже-де и не надеялись мы и живы быть, но Господь меня избавил и избавляет»130. Так-то и с нами бедными: аще не Господь помогал бы, скоро вселися бы во ад душа моя131. И Давыд глаголет: «Аще не был Господь в нас, внегда востати человеком на ны, живы пожерли быша нас»132. Но Господь всячески избавлял меня и доныне избавляет. Мотаюсь, как плевел посреди пшеницы, среди добрых людей, а где и посреди волков, как овечка, или посреди псов, как заяц; всяко перебиваешься о Христе Исусе. Кусаются еретики, что собаки, а без Божьей воли проглотить не могут. Да воля Господня, что Бог даст, то и будет, без смерти и мы не будем; надобно бы что доброе-то сделать, с чем бы явиться пред Владыкой, а то умрём же всяко. Полно о сем.
Когда поехали из Даурии, я Кормчую книгу133 приказчику дал, и он мне мужика-кормщика дал134. Приказчик же дал мучки гривенок с тридцать, да коровку, да овечек. Мясцо иссушив (вяленым тем мясцом), всё лето, плывя, питались. Стало пищи оскудевать, так мы с братией Бога помолили, и Христос дал нам изюбря, большого зверя, так до Байкалова моря и доплыли.
У моря на русских людей наехали – рыбу промышляют и соболя. Рады нам, миленькие, Терентьюшко с братией; дав нам передохнуть, много всего надавали135. Лодку починив и парус скропав, пошли мы через море. Застала нас на морском пути (безветренная) погода, так мы на вёслах перегреблись: не больно широко в том месте, или со сто, или с восемьдесят вёрст.
Чуть только к берегу пристали, поднялась буря с ветром, насилу и на берегу нашли укрытие от волн вздымающихся. Около моря горы высокие, утёсы каменные и зело высокие. Двадцать тысяч вёрст и больше я волочился, а не видал нигде таких гор. На верху их – шатры и горницы, врата, столпы и ограда, всё богоделанное. Чеснок на них и лук растёт больше романовского и сладок добре. Там же растёт и конопля боговзращенная, а во дворах травы красные, цветущие, зело благовонные. Птиц зело много, гусей и лебедей, по морю, как снег, плавает. Рыба в нём – осетры и таймени, стерляди, омули и сиги, и прочих видов множество; и жирна гораздо, на сковороде осетрины нельзя жарить: всё жир будет. Вода (в море) пресная, а нерпы и морские зайцы в нём великие, – близ океана, на Мезени живучи, не видал таких. А всё то у Христа наделано ради человека, чтобы, живя покойно, хвалу Богу воздавал. А человек, суете который уподобится, дни его, яко сень, преходят136, – скачет, как козёл; раздувается, как пузырь; гневается, как рысь; съесть хочет, как змея; ржёт, глядя на чужую красоту, как жеребец; лжёт, как бес137; насыщаясь невоздержно, спит без (молитвенного) правила, Бога не молит, покаяние откладывает на старость; и потом исчезает, и не знаю, куда отходит – или в свет, или во тьму, день Судный покажет каждого. Простите меня, (сам) я согрешил больше всех людей!
Потом в русские города приплыли138. В Енисейске зимовали, и снова плыли летом, и в Тобольске зимовали139. За грехи наши война в то время в Сибири была140: на Оби-реке передо мной наших людей человек с двадцать побили инородцы. А и я у них был в руках: подержав у берега, отпустили, Бог изволил. И на Иртыше скопом стоят инородцы, ждут наших берёзовских141, чтобы их побить. А я к ним и привалил к берегу. Они меня и обступили. И я, из судна выйдя, с ними раскланиваясь, говорю: «Христос посреди нас!» Варвары же Христа ради умягчились и никакого зла мне не сотворили, Бог так изволил. Торговали со мною и отпустили меня с миром. Я, в Тобольск приехав, рассказываю, – и люди все дивятся142.
Потом и в Москву приехал143. Три года из Даурии ехал, а туда пять лет волокся, против течения, на восток всё ехал, средь орд и селений инородческих. И взад, и вперёд едучи, по городам и сёлам и в малолюдных местах слово Божие проповедовал и, не обинуясь, обличал никонианскую ересь, свидетельствуя истину и правую веру о Христе Исусе.
Когда же в Москву приехал144, государь велел поставить меня к руке145, и слова милостивые были. Казалось, что и вправду было говорено: «Здорово ли-де, протопоп, живёшь? Ещё-де велел Бог свидеться». И я на это сказал: «Молитвами святых отцов наших ещё жив, грешник. Дай, Господи, чтобы ты, царь-государь, здрав был на многие лета», и, поцеловав (его) руку, пожал её руками своими, чтобы и впредь меня помнил. Он же вздохнул и ещё кое-что сказал. И велел меня поселить в Кремле на монастырском подворье146. Шествуя мимо моего двора, благословляясь и раскланиваясь со мною, сам о здоровье меня часто спрашивал. Раз, миленький, и шапку уронил, раскланиваясь со мною.
И давали мне место, где б я захотел, и в духовники звали, чтоб я с ними в вере соединился. Я же всё сие Христа ради почёл за сор, поминая смерть, ибо всё это временно. А вот страшное, что мне в Тобольске в тонком сне возвещено было. Ходил я в церковь большую и смотрел, что в алтаре у них делается, как просвиры вынимают, – что тараканы просвиру исщиплют. И я им говорил от Писания и смеялся над их бесчинством. А когда привык ходить, так и говорить перестал, что жалом ужалило: молчать было захотел. В царевнины именины147, от заутрени придя, прилёг я. Так мне было сказано: «Аль-де и ты по стольких бедах и напастях соединишься с ними? Блюди себя, да не будешь растёсан надвое!»148 Я вскочил в ужасе великом, пал перед иконой и говорю: «Господи, не стану ходить, где по-новому поют». Да и не пошёл к обедне в ту церковь. К иным ходил церквам, где православная служба, и народ учил, обличая их злобесовское и лживое мудрование.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.