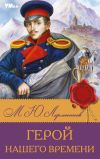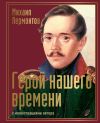Автор книги: Александр Васькин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«1830 года в начале»: из Благородного пансиона в Благородное собрание
О посещении Лермонтовым театра в Первопрестольной мы уже рассказали, теперь же настал черед московских балов и маскарадов, участником которых был наш герой. Проводились эти светские мероприятия в Благородном собрании, здание которого и по сей день украшает Охотный ряд. Еще Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» отмечал: «В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы».
Впервые Лермонтова в Благородное собрание привел отец, Юрий Петрович, бывший членом собрания в 1815, 1819 и 1822 годах. Помимо членов, были еще и так называемые «визитеры» и просто гости. Дворянин, желающий вступить в члены собрания, должен был представить документ, подтверждающий его дворянское происхождение, за подписями губернского предводителя дворянства либо двух членов Благородного собрания, которые соглашались быть его поручителями. Если препятствий не возникало, то претендента записывали в ежегодную «Книгу членов-кавалеров» (для дам и девиц была заведена особая книга), и он приобретал годовой билет. Билеты эти были именными и давали их владельцам право входа в собрание в любые дни, когда оно было открыто. По истечении года билет следовало продлевать, в противном случае его владелец выбывал из числа членов собрания. Билет для мужчин стоил 50 рублей серебром, дамский – 25 рублей, билет для девиц – 10 рублей.
А «визитерами» называли дворян, живших в Москве постоянно или хотя бы приезжавших на зиму, которые по каким-либо причинам не вступили в число членов собрания. Они могли посещать собрание только в дни балов, маскарадов или концертов, каждый раз беря в конторе собрания разовый билет.
Покупая билет, посетитель должен был предъявить записку от рекомендующего его члена собрания и записать свое имя, звание и чин в специальную «Визитерную книгу». Билет для посетителя мог взять заранее и сам член собрания; в этом случае в «Визитерную книгу» записывался не только посетитель, но и «пропозирующий» (от фр. proposer – представлять, предлагать) его член. Записи эти могли делаться как ими собственноручно, так и письмоводителем собрания (он же бухгалтер и продающий билеты кассир). Изучение «Визитерных книг» Благородного собрания позволило установить точные даты посещения Лермонтовым особняка на Охотном ряду. Как указывал С. Шумихин, это случилось 18 января 1830 года, во время зимних каникул. Юрий Петрович с сыном пришли на маскарад.
Кто знает, быть может, придя домой на Малую Молчановку именно из Благородного собрания, юный поэт доверил свои чувства бумаге:
Один среди людского шума,
Возрос под сенью чуждой я,
И гордо творческая дума
На сердце зрела у меня…
По крайней мере, на автографе стихотворения так и отмечено: «1830 года в начале».
Интересно, что и танцам Лермонтов учился у члена Благородного собрания, снимавшего для организации детских балов одну из зал особняка, танцмейстера П.А. Йогеля. У этого же Йогеля занимались в детстве Александр и Ольга Пушкины.
Начиная со своего первого выхода в свет в январе 1830 года, Лермонтов довольно часто бывает в Благородном собрании. Удалось ему попасть и на устроенный 8 марта 1830 года в зале собрания концерт знаменитого пианиста Джона Фильда, послушать которого пришел и сам государь Николай Павлович. Как видим, в своем плотном графике царь нашел время и на культурную программу (не забудем, что именно на этот его приезд в Первопрестольную и выпало то знаменательное посещение пансиона).

Дворянское собрание. Художник Ф. Диц, середина XIX века
Кроме игры Фильда слух самодержца и еще двух тысяч зрителей услаждали своим вокалом певцы Петр Булахов и Надежда Репина. Концерт Фильда остался в памяти москвичей ярким и запоминающимся событием. В дальнейшем Лермонтов упомянет Джона Фильда в романе «Вадим», создававшемся в период обучения в юнкерской школе в 1833–1834 годах.
В своих произведениях Лермонтов не раз напишет о Благородном собрании. Например, в «Странном человеке» читаем:
«В прошлый раз в Собрании один кавалер уронил замаскированную даму». Вот и Максим Максимыч вспоминал: «Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в Благородном собрании, лет 20 тому назад, – только куда им! совсем не то!» Благородное собрание не перестало быть для Лермонтова одним из частых мест проведения досуга и после поступления в Московский университет, немало студентов которого разделяли эту его привязанность. Слушатель словесного отделения Павел Федорович Вистенгоф вспоминал: «Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное Московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали».
Биографы Лермонтова установили, что он был в собрании на музыкальном вечере 25 марта 1831 года. Из «Визитерной книги» следует, что билет для поэта взял его старший приятель Алексей Степанович Киреевский, представитель известной московской литературной семьи, входившей в пушкинский круг. Киреевский приходился двоюродным братом славянофилу А.С. Хомякову. И в дальнейшем Лермонтов обычно приходил на балы в дом на Охотном ряду не один, а с приятелями. Так было и 17 ноября 1831 года, и 24 ноября того же года, когда Лермонтова сопровождали Николай Столыпин (дальний родственник) и Алексей Лопухин. Видели Лермонтова в Благородном собрании и 6 декабря 1831 года. В тот день светское общество было представлено Д.В. Давыдовым, М.Н. Загоскиным, Б.К. Данзасом и другими достойными людьми.
Влекли студента Лермонтова в Благородное собрание и маскарады. Об этом пишет и Вистенгоф: «В старое доброе время любили повеселиться. Процветали всевозможные удовольствия: балы, собранья, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания и различные кружки общества, забывая и лекции, и премудрых профессоров наших». Но недаром свою пьесу Лермонтов назвал «Маскарад»! Суть его посещений была даже не в том, чтобы себя показать. Поэт был уверен, что:
Под маской все чины равны,
У маски ни души, ни званья нет, – есть тело.
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств снимают смело.
Снятие масок стало одной из целей его маскарада.
О том, что собой представлял маскарад с участием московского света, рассказывает Филипп Вигель: «На одном из них [маскарадов], в Благородном собрании, самом блистательном и многолюдном, явилась старшая из трех дочерей князя Василия Алексеевича Хованского, о которых не один раз я упоминал. Она была одета какой-то воинственной девой, с каской на голове, в куртке светло-зеленого цвета с оранжевым, вместо обыкновенных лент украшенная георгиевскими, принадлежащими гвардейскому егерскому полку, коего Багратион был шефом, и своим прекрасным голосом пропела стихи во славу его.
Все это было очень трогательно и немного смешно».

Колонный зал
Лермонтов также появлялся на маскарадах в Благородном собрании в причудливых одеяниях. На встречу нового, 1832 года он, по воспоминаниям А.П. Шан-Гирея, «явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой, в этой книге должность каббалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице; под буквами вписаны были <…> стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятие встретить в маскараде».
Стихов этих лермонтоведы насчитали семнадцать штук. В основном носили они критический характер. Вот, например, эпиграмма на старшину Благородного собрания сенатора А.Д. Башилова:
Вы старшина собранья, верно,
Так я прошу вас объявить,
Могу ль я здесь нелицемерно
В глаза всем правду говорить?
Авось, авось займет вас делом
Иль хоть забавит новый год,
Когда один в собранье целом
Ему навстречу не солжет;
Итак, я вас не поздравляю;
Что год сей даст вам – знает бог.
Зато минувший, уверяю,
Отмстил за вас как только мог!
В эпиграмме Лермонтов негативно оценивает работу Башилова в комиссии по борьбе с холерой в Москве.
Тот новогодний маскарад 1831 года мог бы и не запомниться его участникам, если бы не Лермонтов в своем костюме астролога. О нем, о маскараде, и осталась память лишь по той причине, что великий поэт читал свои стихи. И самое главное, что сохранилась та книга, о которой вспоминал Шан-Гирей. Вот как писал об этом Ираклий Андроников:
«Если вам придется побывать в Пушкинском Доме Академии наук в Ленинграде и пройти сквозь анфиладу комнат тамошнего музея, вы увидите в одной из витрин странную книгу – огромный переплет более полуметра в длину, оклеенный полосами черной и белой бумаги. Поверх этих полос – из голубой бумаги овалы, похожие на две буквы “О“. На одном “О“ – “Дева“, “Близнецы“, “Рак“, “Козерог“ и другие зодиакальные знаки, на втором нечто, напоминающее знаки масонские. Эта “книга“ – память о публичном выступлении семнадцатилетнего Лермонтова в зале “Московского благородного собрания” в ночь под Новый – 1832 – год.
В последний вечер уходящего 1831 года в блещущий, как и ныне, известный теперь всему миру Колонный зал съезжалась московская знать, связанная между собою родством, свойством, кумовством, служебными отношениями или соседством – по Москве, по имениям: сановники, гвардейская и фрачная молодежь, красавицы замужние, и помолвленные, и только вчера надевшие длинные платья; литераторы, студенты знатных фамилий… Оставив лакеям салопы, шубы, шинели, надев домино, капюшоны, маски, они входили в белоколонный простор, теплый от множества горящих свечей и дыханья, блещущий хрусталем люстр, улыбками, нарядами, звездами, лентами, золотом мундиров, полный сверкающей музыки. И рассаживались за столами, расставленными в кулуарах и за колоннами… Всё съехалось, всё готовилось к торжественной церемонии!
“Загремевшие на хорах трубы возвестили о пришествии Нового года”, – писал в отчете о празднике “Дамский журнал”. После ужина по краям зала было расставлено несколько рядов стульев. Началась мазурка, “которая продолжалась несколько часов”. “Маскарад был очень жив и многолюден”, – заключает “Дамский журнал”.
В разгар праздника распорядитель объявил о появлении астролога. Вышел гость в маске, в странном костюме, с огромной книгой под мышкой. Остановившись, раскрыл переплет: в качестве каббалистических знаков к каждой странице были приклеены огромные китайские буквы, срисованные с чайного ящика и вырезанные из черной бумаги. Перелистывая страницы, прорицатель начал читать остроумные эпиграммы и мадригалы, адресованные гостям…
Но только немногие из гостей смогли угадать, что в маске и в облачении астролога читал свои стихи студент Михаил Лермонтов. Астролог исчез…
Всё ушло, всё растворилось во времени и забылось. Только мадригалы остались от того новогоднего маскарада да переплет каббалистической книги, которые вызывают этот праздник из небытия».
Переплет этот так и называется в переписи личных вещей поэта – «Маскарадная книга М.Ю. Лермонтова». Размеры ее – 61,9 на 27,5 сантиметра. В книге 14 листов с наклеенными на них китайскими иероглифами, вырезанными из черной глянцевой бумаги. Листы заключены в картонный переплет, оклеенный полосами черной и белой бумаги, на которых пером нарисованы мужские и женские головы. А на верхней корке переплета наклеен овал из голубой бумаги со знаками зодиака, на нижней – такой же овал с символическими знаками. Книга эта была преподнесена в дар Лермонтовскому музею Л.А. Лизогуб, дочерью Алексея Шан-Гирея, в 1916 году писавшей: «Покойный отец мой… передавая мне эту книгу, рассказал, что Лермонтов на одном маскараде был одет магом (предсказателем) и для этого сделал сам книгу, на страницах которой наклеил какие-то загадочные буквы, по которым предсказывал судьбу обращавшейся к нему публике». Жаль, что мы так и не узнаем, что за причина заставила Михаила Юрьевича нарядиться магом-предсказателем. Ведь к тому времени «Сказка о золотом петушке» еще не была написана Пушкиным. А Лермонтов весьма напоминал как с неба свалившегося на царя Додона звездочета-прорицателя…
В наступившем 1832 году Лермонтов также бывал в собрании, и оба раза с Лопухиным, 19 января и 18 февраля. Затем, с отъездом в Петербург и началом военной службы, поэт все реже бывает в Москве и в Благородном собрании (зато его видят в Дворянском собрании Северной столицы). Установлено по крайней мере еще два его посещения концертов в собрании – 25 февраля 1836 года и 6 апреля 1837 года (вновь с Лопухиным).
«В Московском университете царит скверный дух…»
Следующим вполне привычным этапом жизни Лермонтова как представителя московской дворянской молодежи стал университет. Учеба в Московском университете вполне укладывалась в укоренившуюся уже схему, согласно которой отучившийся в Благородном пансионе молодой человек, вхожий в Благородное собрание, должен был плавно перейти на иную ступень образования, на этот раз высшую. Сегодня здание Московского университета – одно из немногих дошедших до нас в том виде, которым его видел Лермонтов. Это так называемый Главный корпус, выстроенный по проекту М.Ф. Казакова в 1786–1793 годах, а затем, после пожара 1812 года, восстановленный по проекту Д.И. Жилярди (в 1816–1819 годах). На плане П-образное здание напоминает большого краба с симметричными массивными щупальцами. Это первое здание университета на Моховой улице, в народе его называют «старым» зданием.

Московский университет, 1820-е годы. Художник К.Ф. Юон
1 сентября 1830 года студент Лермонтов переступил порог университета, чтобы внести свою лепту в торжество наук и искусств. «Прошение» его было принято, начались вступительные испытания… Что представлял собою и каким был Московский университет в те годы? По этому поводу есть самые разные мнения. Полон восторга Иван Гончаров, ставший студентом на год позже Лермонтова: «Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом. Я говорю о Московском университете, на котором, как на всей Москве, по словам Грибоедова, лежал особый отпечаток… Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками.
Даже простые люди, и те, при встречах, ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках. Я не говорю об исключениях. В разносословной и разнохарактерной толпе, при различии воспитания, нравов и привычек, являлись, конечно, и мало подготовленные к серьезному учению, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повесы. Иногда пробегали в городе – впрочем редкие – слухи о шумных пирушках в трактире, о шалостях, вроде, например, перемены ночью вывесок у торговцев или задорных пререканий с полициею и т. д. Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией и симпатиями общества».
Аналитики из Третьего отделения считали по-другому: «В Московском университете царит скверный дух, дипломы там публично продаются, и тот, кто не брал частных уроков по 15 рублей за час, не может получить такового диплома. Жалуются на недостаток преподавателей и наставников». Что и говорить, характеристика убийственная. А некоторые читатели скажут: как немного изменилось за без малого два века!
Еще один студент университета на Моховой лермонтовских времен, Александр Герцен, не разделял восторгов Гончарова: «Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха.
В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены – историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.
Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом. Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри.
Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. <…> Опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее. <…> Как боˆльшая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).
Мудрые правила – со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться – столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, – мысль, что здесь совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.
Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах».
Герцен не знал Лермонтова, но в статье «Провинциальные университеты» в 1861 году отметил: «Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин – все это наши товарищи, студенты Московского университета». И несмотря на столь резкую оценку университета будущим издателем «Колокола», мы можем сказать, что в эти годы на Моховой училась целая плеяда выдающихся деятелей нашей культуры.
1 сентября 1830 года в правлении Московского университета слушали донесение от ординарных профессоров Снегирева, Ивашковского, экстраординарного профессора Победоносцева, адъюнктов Погодина, Кацаурова, лекторов Кистера и Декампа: «По назначению господина ректора Университета мы испытывали Михайла Лермантова, сына капитана Юрия Лермантова, в языках и науках, требуемых от вступающих в Университет в звании студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании. О чем и имеем честь донести Правлению Университета».
Как мы уже знаем, судьбе было угодно, чтобы вместе с Лермонтовым в университете учился и не менее талантливый русский писатель Иван Гончаров, чрезвычайно интересно описавший жизнь «святилища науки». Как проходил экзамен, мы также узнаем у автора «Обломова»:
«В назначенный день вечером мы явились на экзамен, происходивший, помнится, в зале конференции. В смежной, плохо освещенной комнате мы тесно, довольно многочисленной кучкой, жались у стен, ожидая, как осужденные на казнь, своей очереди… Нас вызывали по нескольку человек вдруг, потому что экзамен кончался за раз. В зале заседал ареопаг профессоров-экзаменаторов, под председательством ректора. Их было человек семь или восемь. Вызываемые по списку подходили к каждому экзаменатору по очереди.
Профессор задавал несколько вопросов или задачу, например, из алгебры или геометрии, которую тут же, под носом у него, приходилось решать. Профессор латинского языка молча развертывал книгу, указывая строки, которые надо было перевести, останавливал на какой-нибудь фразе, требуя объяснения.
Француз и этого не делал: он просто поговорил по-французски, и кто отвечал свободно на том же языке, он ставил балл и любезным поклоном увольнял экзаменующегося. Немец давал прочитать две-три строки и перевести, и, если студент не затруднялся, он поступал как француз. Я не успел оглянуться, как уже был отэкзаменован».
И вот занятия начались: «Наконец, все трудности преодолены: мы вступили в университет, облекшись в форменные сюртуки с малиновым воротником, и стали посещать лекции. Вне университета разрешалось желающим ходить в партикулярном платье. Первый курс был чем-то вроде повторения высшего гимназического класса. Молодые профессора, адъюнкты – заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди, например – француз Куртенер, немецкий лектор Геринг, профессор латинского языка Кубарев и греческого – Оболенский. Они много помогли нам хорошо приготовиться к слушанию лекций высшего курса и, кроме того, своим добрым и любезным отношением к нам сделали первые шаги вступления в университет чрезвычайно приятными. Между ними, как патриарх, красовался убеленный сединами почтенный профессор русской словесности, человек старого века – П.В. Победоносцев».
Рассказ уже известного нам и Лермонтову по пансиону Павла Вистенгофа дополняет общую картину: «Меня экзаменовали более нежели легко. Сами профессора вполголоса подсказывали ответы на заданные вопросы. Ответы по билетам тогда еще не были введены. Я был принят в студенты по словесному факультету. С восторгом поздравляли меня родные, мечтали о будущей карьере, строили различные воздушные замки. Я был тоже доволен судьбой своей. Новая обстановка, будущие товарищи, положение в обществе – все это поощряло, тянуло к университетскому зданию, возбуждало чувство собственного достоинства».
С самого начала учеба Лермонтова в университете не заладилась. А все дело в холере. Год, в котором Лермонтов вступил в университетские стены, был ох каким нелегким для Москвы.
И уж конечно не приезд государя вызвал эти трудности, а холера. Эпидемия пришла с Ближнего Востока и завоевывала Россию с юга: перед холерой пали Астрахань, Царицын, Саратов. Летом холера пришла в Москву. Скорость распространения смертельной болезни была такова, что всего за несколько месяцев число умерших от холеры россиян достигло 20 тысяч человек. Очевидец писал: «Зараза приняла чудовищные размеры. Университет, все учебные заведения, присутственные места были закрыты, публичные увеселения запрещены, торговля остановилась. Москва была оцеплена строгим военным кордоном, и учрежден карантин. Кто мог и успел, бежал из города».
27 сентября 1830 года эпидемия прервала едва начавшуюся учебу студента Лермонтова, заставив его вместе с бабушкой, подобно другим москвичам, запереться в доме на Малой Молчановке. Но времени он не терял, сочинив немало стихотворений. Как раз в сентябре в журнале «Атеней» было напечатано стихотворение «Весна» («Когда весной разбитый лед…»), ставшее первым известным опубликованным произведением поэта. 1 октября появились стихотворения «Свершилось! Полно ожидать…» и «Итак, прощай! Впервые этот звук…».
Екатерина Сушкова так объясняет причину возникновения одного из этих стихов: «В конце сентября холера еще более свирепствовала в Москве; тут окончательно ее приняли за чуму или общее отравление; страх овладел всеми; балы, увеселения прекратились, половина города была в трауре, лица вытянулись, все были в ожидании горя или смерти. Лермонтов от этой тревоги вовсе не похорошел. Отец мой прискакал за мною, чтоб увезти меня из зачумленного города в Петербург…
С неимоверною тоскою простилась я с бабушкой Прасковьей Петровной (это было мое последнее прощание с ней), с Сашенькой, с Мишелем; грустно, тяжело было мне! Не успела я зайти к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что (и) было поводом к следующим стихам».
А уже через два дня Лермонтов пишет «Новгород» («Сыны снегов, сыны славян»). 4 октября – стихотворение «Глупой красавице» («Амур спросил меня однажды…»), 5 октября – стихотворение «Могила бойца», сопровожденное припиской:
«1830 год – 5-го октября. Во время холеры-morbus», 9 октября – совсем уж жуткое название – «Смерть». Поэт развивает тему и в другом стихотворении – «Чума». Здесь уже и по названию ясно, о чем оно.
Мало-помалу холера стала отступать, и с началом 1831 года в Московском университете возобновились занятия. Но, как пишет Шевырев, лекции как самими профессорами, так и студентами посещались неаккуратно. Немало лекций пропустил и студент Лермонтов, получив по одному из предметов «тройку».
Печальными были итоги этого семестра в Московском университете. И дело здесь не в «двойках» и «тройках», а в не очень лицеприятном инциденте, случившемся в марте 1831 года.
Был в университете такой профессор-орденоносец уголовного права (награжденный орденами Св. Анны и Св. Владимира) Малов Михаил Яковлевич. Магистерская диссертация его называлась на редкость красноречиво и актуально: «Монархическое правление есть превосходное из всех других правлений, а в России – необходимое и единственно возможное». Так же он и преподавал: жестко и даже порою грубо. Вот студенты и взбунтовались. Герцен рассказывает: «Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним».
Вся эта история случилась 16 марта 1831 года во время лекции Малова о брачном союзе (правда, сам Малов потом утверждал, что лекция называлась «О благе монархизма»). Лермонтов также принимал участие в своеобразном бунте, о чем даже сохранилось мемориальное свидетельство. Как и в прочих случаях, таким доказательством стало стихотворение, автограф которого сохранился в альбоме лермонтовского друга Н.И. Поливанова, что жил неподалеку от него, на Малой Молчановке:
Послушай! Вспомни обо мне,
Когда, законом осужденный,
В чужой я буду стороне —
Изгнанник мрачный и презренный.
И будешь ты когда-нибудь
Один, в бессонный час полночи,
Сидеть с свечой… и тайно грудь
Вздохнет – и вдруг заплачут очи;
И молвишь ты: когда-то он,
Здесь, в это самое мгновенье,
Сидел тоскою удручен
И ждал судьбы своей решенье!
Не менее красноречива и приписка Поливанова: «23-го марта 1831 г. Москва. Михайла Юрьевич Лермонтов написал эти строки в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью, когда вследствие какой-то университетской шалости он ожидал строгого наказания».
Но наказания не последовало. Хотя фамилия Лермонтова наверняка осталась в бумагах Третьего отделения. Николаю I, конечно, доложили, но в этот раз разгонять Московский университет по примеру Благородного пансиона он не решился (хотя, конечно, при желании можно было и раздуть дело).
История получила название «маловской», а сам профессор был при увольнении от должности пожалован пенсией в размере 400 рублей ассигнациями, что было вдвое больше его профессорского оклада.
Несмотря на то что, по словам Шан-Гирея, Лермонтов «с поступлением в университет стал посещать московский grand-monde», поначалу учеба занимала все его основное время.
Иначе бы Вистенгоф не написал, что «выделялись между нами и люди, горячо принявшиеся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Ефремов, Лермонтов». Поэт не стеснялся спорить с профессорами, невзирая на лица. Так, профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос. «Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал: – Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания? – Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным. Мы все переглянулись. Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику. Дерзкими выходками этими профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах», – рассказывал П. Вистенгоф. В связи с этим эпизодом вспоминается характеристика, данная Лермонтовым Зиновьеву, готовившему его к пансиону. Уже тогда дерзкий юноша засомневался в способностях университетского профессора. В университете максимализм Лермонтова проявился с еще большей силой. Впрочем, он сам написал об этом в «Княгине Лиговской»:
«Приближалось для Печорина время экзамена. Он в продолжение года почти не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько ночей науке и одним прыжком догнать товарищей. Вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнять это геройское намерение… Между тем в университете шел экзамен: Жорж туда не явился. Разумеется, он не получил аттестат».
Не пришел Лермонтов и на экзамен к Победоносцеву, что избавило последнего от необходимости выслушивать правду-матку от нахального студента. А вообще сверстники Лермонтова особо не церемонились с профессором Победоносцевым.
«Не забыть мне одного забавного случая на лекции риторики.
Преподаватель ее, Победоносцев, в самом азарте объяснения хрий вдруг остановился и, обратившись к Белинскому, сказал:
– Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?
– Вы остановились на словах, что я сижу на шиле, – отвечал спокойно и не задумавшись Белинский», – рассказывал современник.
Студенты разразились смехом. Победоносцев «с гордым презрением» отвернулся и продолжил свою лекцию о хриях, инверсах и автониянах. Как и следовало ожидать, «горько потом пришлось Белинскому за его убийственно едкий ответ».
Поступивший в университет на год позже Лермонтова Константин Аксаков вспоминал: «На первом курсе я застал еще Победоносцева, преподававшего риторику по старинным преданиям, [и стало] невыносимо скучно:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?