Читать книгу "Дневник. 1917-1919"
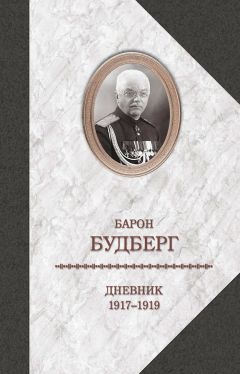
Автор книги: Алексей Будберг
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В 120-й дивизии начал с собрания полковых комитетов; рассказал им, почему сейчас нельзя заключить мир и почему мы сейчас не в состоянии сменить полки дивизии и дать им отдохнуть в резерве; рассказал причины некоторых недостатков в продовольствии и одежде и сообщил, какие меры уже приняты для устранения и когда и каким образом они будут осуществлены; просил внимательно всё продумать, повременить, потерпеть и не губить всего непомерными и фактически все равно неосуществимыми требованиями. Говорил много, старался убедить, почувствовал себя в положении миссионера, трактующего гиенам и шакалам о любви и самоотречении.
Возражать мне по существу было трудно, ибо я научился уже говорить с массами; но управляющие дивизией большевики подстроили целую махинацию, чтобы сорвать влияние моего приезда (пришибить меня они, видимо, не решились, боясь возмездия со стороны 70-й дивизии); со всех сторон начали выступать ораторы и вопрошатели с самыми острыми и заранее написанными и розданными вопросами. Началась яростная борьба, и на меня набросились все большевистские силы, так как ясность и правдивость моих слов, несомненно, подействовала на большинство собрания, и это было ясно видно и по лицам, и по общему настроению, как-то потерявшему ту напряженную остроту и враждебность, которые я застал, когда вошел в большую комнату господского двора Анисимовичи, в которой происходило соединенное заседание всех комитетов.
Первым был выпущен какой-то ярый оратель, отрекомендовавшийся убежденным анархистом и перешедший сразу в стремительное нападение по моему личному адресу; начал он с того, что раз командир корпуса говорит, что недостаток продовольствия является результатом беспорядков, происходящих в тылу и на железных дорогах, то он этим пытается натравить фронт на тыл, а сие есть явная провокация, контрреволюция и корниловщина, которые надо немедленно пресечь; затем товарищ анархист усиленно стал вопить о том, что командир корпуса говорил о необходимости продолжать войну и делать изредка поиски, а сие доказывает, что он жаждет солдатской крови, ибо все генералы и помещики сговорились, чтобы перебить побольше русских солдат и овладеть их землей. Затем посыпались самые дикие и нелепые обвинения об отдаче мной вредных для солдат приказов по армии, о вредной «иностранной политике» и т.п.
Было очевидно, что оратор был выпущен специально для того, чтобы взвинтить толпу и вызвать ее на самосуд и на расправу со мной. Всё это происходило уже на дворе, куда вышли все комитеты и где собралась толпа солдат в несколько тысяч человек; настроение создалось такое, что все офицеры куда-то исчезли и я остался один.
Пришлось спокойно всё это слушать; я невозмутимо, как будто бы меня это не касалось, дал оратору высказаться, а затем спокойно, по пунктам, взвешивая каждое слово, разбил все его обвинения и доказал полную их нелепость. Напряжение нервов было огромное; надо было говорить так, чтобы ни единым дуновением не затронуть толпы и не дать того последнего толчка, который нужен был руководителям, чтобы бросить всю толпу на меня. Нужно было победить, ибо ставкой была жизнь. Я говорил так, как, вероятно, не говорил и не буду говорить никогда; напряжение было таково, что в самом себе я не сознавал и не слышал, что говорю, а слышал свою речь, как будто ее говорил кто-то другой. В конце концов я победил, и настроение толпы резко переменилось в мою пользу; кое-где поднялись кулаки, но уже по адресу моего обвинителя, который сразу потерял весь свой апломб.
Тогда я сам перешел в наступление и добился того, что председатель собрания тут же принес мне извинение за то, что их товарищ позволил себе так увлечься, чтобы оскорбить меня своими неверными обвинениями. Минутно я победил: собрание решило поговорить со всеми ротами и командами и сообразно результатам переговоров вынести решение. Уехал, исполнив то, что требовали мой долг и мое положение, но с отчаянием в душе, ибо всё, что услышал, увидел и испытал, убедило, что спасения уже нет, что шкурные интересы нас слопали и что те толпы, которые ошибочно называются войсковыми частями, уже не оживут. Мир во что бы то ни стало; уход из окопов в глубокие резервы; ноль работ и занятий; жирная кормежка и побольше денег; всё начальство изменники, кровопийцы и корниловцы; все неудачи на фронте умышленно подстраиваются генералами, дабы уничтожить ненавистных им пролетариев; никому не верим и никого слушать не желаем; сами выберем себе начальство, войны не допустим и уничтожим всех, кто задумает продолжать войну, – вот сумма выводов сегодняшней беседы, занявшей четыре долгих, временами трагических часа моей «революционной жизни».
Все разумные доводы убедить эту толпу действенны только моментами, по случайным капризам настроения.
Очень красочно сказал на этом собрании представитель «батальона смерти» 120-й дивизии (батальона этого вся дивизия боится как черт ладана), заявивший, что все ораторы бессовестно лгут, придумывая разные оправдания своим требованиям, и что все они трусы и шкурники, продающие Россию. Говоривший был простой крестьянин-солдат; толпа зарычала под бичом его слов, но за смертником стояло, молча, но грозно, десятка два его товарищей, и в их глазах было что-то такое, что сразу успокоило толпу и заставило ее ограничиться недовольным рычанием.
Я медленно, с двумя остановками, разговаривая с солдатами, прошел к своему автомобилю, и только отъехав с полверсты, понял, чего я только что избежал.
Из дивизии проехал прямо в Двинск, чтобы доложить командующему армией, каково настроение частей и насколько возможно говорить теперь о наступлении и о поисках; высказал Болдыреву полную для меня нелепость числиться командиром корпуса, раз у меня нет никаких средств заставить себя слушаться и исполнять мои приказы; просил, чтобы была произведена, хотя бы и под руководством комитетов и комиссаров, последняя попытка очистить части от завладевших ими агитаторов большевизма, ибо иначе положение совершенно безнадежно и недалек тот день, когда армия перестанет существовать; просил отнестись к моему докладу с должным вниманием, ибо мой корпус до сих пор по части сохранения порядка считался счастливым исключением. Болдырев кое-что обещал, но, к несчастью, он в радужном и воинственном настроении, подогретом уверенностью в надежность стоящих в Двинске ударных частей и кавалерии; я пытался его разубедить, так как знаю хорошо, как непрочно такое настроение частей, особенно когда они чувствуют себя одинокими и когда обстановка складывается так, что им приходится выступать активно против своих. Но все мои убеждения разбились о розовый оптимизм очень малоопытного и специфически штабного командарма. Он, например, до сих пор надеется, что ему удастся оздоровить армию путем активного воздействия частей 1-го кавалерийского корпуса на неповинующиеся части пехоты; вероятно, это насвистано ему командиром этого корпуса генералом князем Долгоруковым, весьма легкомысленным и поверхностным, мечтающим только о том, когда ему удастся избавиться от всей надвинувшейся со всех сторон грязи и «отдохнуть под голубым небом и горячим солнцем Ривьеры».
Входящие в состав моего корпуса 15-й гусарский и 3-й Уральский казачий полки настроены бесконечно лучше и прочнее полков конного корпуса, и несмотря на это, начальник 15-й дивизии генерал Мартынов конфиденциально мне доложил, что полки убедительно просят избавить их от исполнения ролей усмирителей и жандармов; а эти полки до сих пор в полном порядке, беспрекословно исполняют все приказы, великолепно вели себя на усмирении 138-й дивизии, некоторых частей 13-го корпуса, но их так травят названием корниловских жандармов, что это отразилось в конце концов на их настроении.
Я не понимаю совершенно Болдырева и его оптимистической компании. Неужели они не видят, что армия больна ползучей гангреной, получившей уже такое распространение, что прижигания больных мест каленым железом уже не помогут? Напрягая последние усилия, мы справляемся с заразой в незначительных точках, а болезнь захватывает в это время целые площади и въедается внутрь, поражая самые жизненные органы, разрушая нервы и центры и уничтожая последние остатки сопротивляемости всего организма.
По поводу псковского проекта наступления Болдырев донес то заключение, к которому пришло последнее совещание корпусных командиров, и получил лаконический ответ начальника штаба фронта, что «таково приказание главнокомандующего фронтом, и оно должно быть исполнено».
Из разговора с Болдыревым узнал, что до меня у него были командиры 19-го и 27-го корпусов с докладами о безнадежном состоянии их корпусов; даже с Антипова соскочил его оптимизм. Заехал к армейскому комиссару поручику Долгополову (бывший офицер 70-й артиллерийской бригады) и просил его самым решительным образом осведомить командные и комитетские верхи о действительном состоянии армии.
Вернулся в штаб грязный, утомленный, вымотанный нравственно и физически до полной пустоты.
15 октября. Штаб армии продолжает приставать с разными распоряжениями по поводу разработки выдуманного Псковом наступления; не выдержал и написал армейскому комиссару Долгополову частное письмо с просьбой избавить нас от этих приставаний, так как все равно никакого наступления быть не может, но зато постоянные о нем толки бросают части во власть тех, кто обещает избавить их от такой грозной неприятности и дают богатую пищу для агитаторов, волнующих солдат рассказами о том, что начальству вновь захотелось попить солдатской кровушки.
Утром получил постановление полковых комитетов 18-й дивизии, решивших идти на усмирение 70-й дивизии и силою оружия принудить ее выступить на занятие боевых участков. Передал всё это в армейский комитет и армейскому комиссару – пусть раскусывают своими демократическими зубками эти послереволюционные орешки.
Пока что наш армейский комитет отправил в Петроград телеграмму о том, что штыки 5-й армии готовы привести тылы государства в порядок; всё это только бахвальство и сотрясение воздуха; ведь все, кто не ослеп и не оглупел окончательно, понимают, что под предлогом усмирения тыла все готовы сняться с фронта, но когда они туда придут, то надо будет думать о том, как и кем их усмирить. Несомненно, что привилегированное положение частей, захвативших в свои руки власть над Петроградом и Москвой и объявивших себя несменяемыми стражами завоеваний революции, вызывает острую зависть остальных частей, каждая из которых готова немедленно же занять столь безопасное, властное и жирное положение.
До сих пор, несмотря на долгую тренировку в самых сложных и опасных положениях, не могу забыть тяжелых переживаний и впечатлений вчерашнего дня и нахальных, зверских рож передних рядов вчерашней толпы, уже предвкушавших истребление стоящего на их пути командира корпуса. В средних и задних рядах толпились обыкновенные серые и безразличные солдаты, бессознательно валящие за тем, кто сумеет бросить в их толщу подходящий к данному настроению лозунг, который сегодня может быть архиреволюционный, а завтра архиреакционный, но оба могут быть приняты с одинаковым навалом и стремительностью. Но то, что вылезло вперед и больше всех галдело и визжало, не скоро забудется, ибо в эти рожи и глаза воплотилась ненависть и жадность долголетнего и темного рабства, гарнированного наследственным пьянством, ядовитой желчью грызущих, но неудовлетворенных вожделений и жгучей ненавистью ко всему, что выше поставлено и лучше обставлено. Веками лежавшие и обросшие мхом камни сброшены со своих мест, и придавленные ими много лет гады и темные звери ожили; они не только ожили, но и поняли, что камни назад уже не вернутся и что настали новые времена, когда сила уже на стороне тех, кто был под этими камнями. Теперь они сами лезут на давно желанные верхи, давя и сокрушая всё, что только мешает, по их мнению, или может помешать им дорваться до власти и денег, до баб и возможности вволюшку насладиться глумлением, издевательством и муками над тем, чего они до сих пор рабски боялись, перед чем униженно пресмыкались, чему так жадно завидовали и что так остро ненавидели.
Скверное осеннее время усугубляет ту скверность, которая гнетет душу и слизким комком ложится на сердце. Впереди никакого просвета, никакой надежды на спасение родины. Хотелось бы очень знать, что думают теперь все эти Львовы, Гучковы, Родзянки, Керенские и иже с ними; неужели они не поняли до сих пор, в какую пропасть они направили расшатанную колесницу российского государственного бытия и какими грозными и чреватыми последствиями всё это грозит? Ведь теперь ни у кого не должно уже оставаться сомнений в том, какой характер приняла эта революция и какие лозунги она выдвинула и крепит.
Остановить то, что идет сейчас у нас, уже никто не в силах – могут быть только мимолетные задержки, случайные удары о тот или иной подвернувшийся по дороге камень, лишний переворот кругом себя или новая поломка летящей вниз громады, но судьбы мира надолго предопределены тем, что началось на берегах Невы в последние дни февраля 1917 года.
Лунные люди, политические марсиане, совершенно не знающие русского народа, продолжают мечтать, что повторяется 1906 год и что под давлением остроты положения надо было что-то дать, а затем можно будет опять закрепить. Но дело в том, что с революцией началась смертельная для государства дизентерия и закрепительных против нее средств в нашем распоряжении уже нет;
нашептываниями и убеждениями такие поносы не останавливаются. Размах революции сейчас совсем иной, и она подперта совсем иными лозунгами, чем все ее предшественники; наши же книжники и революционные фарисеи продолжают кувыркаться в кабинетных измышлениях, кропотливо отыскивая детали идентичности нашей и Французской революции и пытаясь по опыту прошлого предсказать будущее.
В газетах характерна покаянная передовица «Известий с. и р. депутатов»[16]16
Вероятно, имеются в виду «Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов».
[Закрыть], подвергнутых уже херему[17]17
Отлучение, отторжение, анафема (ивр.).
[Закрыть] грядущих к власти большевиков. Очень хороша речь казака Агеева и разумна речь Гольдштейна; но что теперь в этих речах, кои уже не в силах ни остановить, ни изменить ход событий, управляемых властью, освобожденной от всяких уз и препон толпы. Кто-то очень удачно сравнил вождей нашей революции с неосторожными людьми, выпустившими из-за решеток своры диких зверей и вынужденных теперь нестись во весь дух впереди этой своры и все время бросать им какие-нибудь подачки, ибо иначе их нагонят и разорвут в клочья.
Пока выпущенные на свободу зверьки наслаждались новизной нового положения и пока у них не разыгрался аппетит, они довольствовались малым и пустяковым, но сейчас они вошли во вкус и им нужно существенное и с жирком, и с вкусными корочками. А сие им, и в весьма обольстительной форме, сулят товарищи большевики, которые и будут, несомненно, очередными новыми лидерами этой бешеной скачки-погони, до тех пор пока не выбросят всё, что только смогут; тогда свора разорвет и их.
В статье Homo Novus удачно переделаны слова Гейне о том, что «мир есть грёза богов», в русской действительности это «грёза самоедского бога, нажравшегося на ночь жирной свинины, и притом несвежей».
Дедушка русской революции Чайковский вопит: «Вы апеллируете к разуму, а ответ получаете шкурный…» Всё это так, всё это ужасно своей непреложной правдой, но зато так же верно и так же ужасно, что все вы, революционеры и квазинародники, абсолютно не знали своего народа, сами создали своего гомункулуса, сами облекли его в измышления собственной фантазии, опоэтизировали, разукрасили, преклонялись, восторгались… и ныне доехали до настоящего положения, которое в скором будущем сожрет и вас самих. Мозговики, утописты, фантазеры, вы в вашей борьбе с монархией в пику ей создали воображаемый русский народ, не понимая даже невозможности для него быть при его историческом прошлом тем, чем вы хотели его изобразить и чем он никогда в действительности не был, да и быть не мог. Дедушка обижается, что ему отвечает шкура, а не разум; а где же взяться этому разуму, и как ему победить веления этой самой шкуры, ощущениями и потребностями которой народ только и жил; дедушка обижается, что народ живет, думает и чувствует только шкурой. Проглядел дедушка русскую действительность; не понял вовремя и не учел того, что русская жизнь не могла дать иных результатов и что негде было родиться настоящему разуму в кошмаре русской деревни. Господа экспериментаторы русских революционных эпох воображали русский народ по квазинародным романам и повестям да по показаниям тех экземпляров русской интеллигенции, которая, опростившись по наружности, самоотверженно шла «в народ» и, потершись там, начинала воображать, что она тоже народ и в совершенстве знает народную душу, и судила о народе по собственному принесенному извне внутреннему содержанию, распространяя его совершенно ошибочно на актив всего народа.
Икс в формуле был подложный, а потому и выводы получились неверные, фальшивые. Только Меньшиков пророчески указал на грозное предостережение, данное замечательной книгой Родионова: «Наше преступление». Автора нарекли тогда черносотенцем, хулителем русской деревни и русского народа, ну а теперь достаточно развившиеся экземпляры родионовского зверинца вылезли на свободу и, ничем не сдерживаемые, показывают свой высокий класс. Пока их кое в чем сдерживают уцелевшие остатки плотин разрушенной государственности; но зато каким потоком они разольются потом, когда исчезнут последние следы страха перед тюрьмой, полицией, плетьми и прочими судебными неприятностями.
Вечером один из членов корпусного комитета старший унтер-офицер 477-го полка К. принес начальнику штаба письмо, случайно к нему попавшее по одинаковости его фамилии с фамилией настоящего адресата. Писано на машинке, подпись «Миша»; даются какие-то таинственные распоряжения явно большевистского характера, но очень ясна фраза: «Вчерашнее собрание показало, что власть и влияние командира корпуса еще слишком велики и поэтому командира “надо убрать”, для чего в Боровку посылаются двое надежных ребят, которым надо помочь в исполнении этого поручения».
Бедный К., старый и очень разумный солдат, пришел ко мне совсем растерянный; меня же это письмо страшно обрадовало, ибо было оценкой моей тяжелой работы и воочию доказывало, что я мучусь, терзаюсь и рискую недаром и своим телом все еще сдерживаю кое-что; это больше всяких наград вознаграждает меня за всё пережитое и переживаемое; значит, я все еще фигура, достойная своего места и положения и мешающая изменникам и мерзавцам творить свое злое и гнусное дело; значит, все мои поездки и весь расход нервной энергии и последних остатков здоровья небесполезны.
Письмо это страшно облегчило мое нравственное состояние; оно сняло с меня долю той тяжести, которая меня давила; я сознаю, что все равно спасти всего положения я, конечно, не могу, но на своей стрелке я еще не лишний и останусь на ней стоять, пока буду в силах.
Ну а выступлений и покушений я не боюсь; лишь бы смерть пришла сразу и без мучений; такой смерти в бою я всегда хотел. Больше двух месяцев я езжу по частям, не имея при выезде уверенности, что вернусь живым, и по этой части на моей чувствительности наросли толстые-претолстые мозоли.
Во всяком случае, большое спасибо товарищу Мише и ошибке почты; третьего дня я просил Болдырева подыскать мне заместителя, ибо тревожные признаки по части здоровья заставляли опасаться возможности сразу свалиться и выйти из рабочего строя, но теперь я буду держаться, пока стою на ногах и пока не почувствую, что дальнейшее мое пребывание здесь бесполезно или вредно. Пока могу, не дам товарищам Петровым и Федотовым радоваться, что с их пути ушел тот, кто им мешает и кого они боятся открыто уничтожить.
16 октября. Ясный день и настроение, особенно после вчерашнего Мишиного письма, самое радостное, даже мало подходящее ко всей обстановке. Быть опасным для этих господ – большая заслуга.
Газеты полны описаний ужасов, творимых на фронте и в стране войсками и запасными частями; на юго-западе товарищи солдаты, по донесениям товарищей комиссаров, своими «мирными подвигами заставляют вспоминать нашествия гуннов и иных варварских полчищ и орд». Потрясающее письмо прислали офицеры лейб-гвардии Петроградского полка на имя Керенского; письмо спокойное, корректное, но ужасное по своему могильному спокойствию и по заключенной в нем правде.
Брусилов в Москве и громит демократию; удивительный хамелеон этот главковерх из бывших берейторов при царских и высокопоставленных особах. Никогда не забуду его первого приезда в Двинск только что назначенным главковерхом, когда на армейском съезде он молился о мире без аннексий и контрибуций (Алексеев только что слетел за противоположное) и в конце речи схватил откуда-то взявшийся красный флаг и стал махать им над головой. Недурное занятие для недавнего генерал-адъютанта, готового, очевидно, на всё, лишь бы добиться у толпы популярности и триумфа. Я совершенно понимаю, что для того, чтобы сохранить власть над толпой таким лицам, как старшие начальники командных верхов, необходимы многочисленные и серьезные уступки из старого обихода, но этому есть пределы. Я пока довольно прочен по части своего авторитета (вчера получил на это аттестацию от своих врагов), но никогда еще я не уступил толпе ни в чем существенном, серьезном; я давал ей по ее требованию только пустяки; без ее требования я осуществил очень многое, но дал это добровольно, предупредив неизбежные в будущем требования. Я не позволил, например, в корпусе никаких грязных выпадов против царской семьи, потребовал в этом деле поддержки комитетов, сумел их убедить в непорядочности и неблагородное™ таких выпадов, и меня до сих пор слушаются.
Но то, что говорил и делал Брусилов, не вызывалось никакой необходимостью и было весьма сугубым уклонением в сторону дешевой демагогии.
Кадеты, кадетоиды, октябристы и разномастные революционеры старых и мартовских формаций чуют приближение своего конца и верещат вовсю, напоминая мусульман, пытающихся трещотками предотвратить затмение луны.
Рабы фраз, успевающие фигляры митингов, хлесткие авторы трескучих резолюций, но кастраты настоящего, живого дела, они пустили в ход все запасы и все виды своего обветшалого и бессильного уже оружия, гремят и разливаются истерическими выкликами на красивые, но никого уже не трогающие темы, и требуют того, что когда-то еще могло помочь, а теперь является только подливанием масла в огонь.
Товарищи большевики должны быть им бесконечно благодарны, ибо все эти вопли и резолюции дают большевикам самые яркие доказательства, чтобы пугать ими насторожившиеся на фронте и в тылу массы призраками грядущей контрреволюции и угрозами возможности опять потерять всё то сладкое и жирное, к чему протянулись и до чего дорвались многие жадные руки.
Ведь как ни пытаются маскировать все эти резолюции всякими сладкими демократическими и квазиреволюционными соусами, но из них, как из дырявого мешка, во все стороны торчат давно знакомые и для масс острия, жала и скорпионы, неизменные спутники тоски по потерянным правам, преимуществам и привилегиям и по сдохшему или перешедшему в другие руки казенному воробью.
Ездил в 480-й полк, второй по состоянию развала в 120-й дивизии; езжу на эти дискуссии, как на томительную каторгу; изображаю того же Керенского; только он главноуговаривающий, а я корпусоуговариватель. Настроение солдатской толпы сегодня много лучше; большевики держатся в задних рядах; их главари совершенно не выступали и только ядовито улыбались. По дороге в полк меня встретил офицер, посланный командиром полка с предупреждением, что на меня готовится покушение, но я привык к тому, что когда предупреждают, то обыкновенно ничего не случается. Когда видишь солдатские толпы в спокойном состоянии и вне взвинчивающего влияния разных подстрекателей, то временами в душе появляются голубые кусочки надежды, что если бы сейчас очистить части от большевистских главарей и гарантировать солдатам, что никакого наступления не будет, то героической работой командного состава, офицеров и разумных комитетов на нашем фронте можно еще было бы удержаться от полного и окончательного развала; в такие времена хочется верить, что мы не отравлены еще так, что нет надежды на спасение.
Иное дело, судя, конечно, по газетам, в тылу и на юго-западе, где распустившиеся солдатские орды дорвались до сладости грабежей, насилий и убийств и где возможность спасения – только в возможности массового применения каленого железа, которого нет и негде взять.
Вечером получил телеграмму о сокращении хлебной дачи до полутора фунтов – новый и весьма больной повод к обострению агитации и к вящему ухудшению солдатского настроения; наши верхи до сих пор не понимают или же умышленно не желают понять, что все регуляторы солдатского настроения и все возбудители разных неудовольствий помещены в солдатском брюхе.
Не считаясь совершенно с состоянием продовольственных запасов, мальчишки военные министры, богатые только революционным стажем, выбросили на фронт миллионные пополнения и этим сорвали всю систему оборота и подвоза запасов, что стало особенно острым при воцарившихся на железных дорогах развале и беспорядках. Навезли на фронт трусливых, не желающих воевать и работать ртов, которые, помимо того что усилили общий развал, усугубили давно уже надвигавшуюся на фронт продовольственную катастрофу.
Невеселые на завтра перспективы; сколько запросов и сколько обвинений вызовут эти несчастные полфунта хлеба; убеждений и разъяснений никто слушать не будет, а всё свалят на контрреволюцию и злостные подвохи начальства.
17 октября. Весь день провел в Двинске на томительнейшем совещании по вопросу о расформировании третьеочередных и ненадежных дивизий. Мы всегда запаздываем: два-три месяца тому назад всё это было бы очень кстати, но тогда на наши просьбы о необходимости этой меры верхи не обращали никакого внимания; теперь же это не пройдет, ибо это невыгодно для тех, для кого выгоден скорейший и полнейший развал русской армии, и теперь всё это будет свалено в общую кучу карательных и контрреволюционных мер, и никто из товарищей не позволит провести в жизнь эту меру; ведь в этих дивизиях сейчас вся сила большевиков, и они напрягут все старания, чтобы их сохранить; конечно, все подлежащие упразднению и обращению в небытие комитеты этих частей явятся самыми деятельными сотрудниками большевистских заправил. Это надо было делать, пока на нашей стороне была сила; когда, например, всевозможными посулами и уговорами тащили на фронт уже и тогда совершенно безнадежные по своему состоянию 120-ю и 121-ю дивизии, тогда была полная возможность осуществить это расформирование. Сейчас же всё это ушло в невозвратное прошлое; того, что упущено, уже вернуть нельзя. Весь фронт покрыт любезными большевистскому и немецкому сердцам гнойными нарывами в виде совершенно разложившихся, в большинстве преимущественно третьеочередных, дивизий. Помню, как я молил тогдашнего командарма Данилова не губить меня присылкой этих дивизий; и несмотря на все мои просьбы, их мне прислали, и ими погубили до тех пор очень стойко державшийся корпус.
138-я дивизия 47-го корпуса только три дня постояла в районе нашей 18-й дивизии и сразу же внесла полное разложение в ближайший батальон Белевского полка. Всё это было непонятно совершенно оторванным от войск командным верхам; на мои доводы о причинах отказа от 120-й и 121-й дивизий начальник штаба армии Свечин недоуменно меня спрашивал, чем же я буду развивать свое наступление, и никак не мог усвоить моих разъяснений, что наступление можно развивать настоящими дивизиями, а не разнузданными вконец бандами, которых никак не могут уговорить согласиться идти на фронт и которые уже и так искусились в том, что можно не исполнять неприятных для себя приказаний начальства, ибо у последнего нет никаких реальных средств для того, чтобы заставить неповинующихся выполнить такое приказание.
На совещании корпусных командиров я определенно высказал свое мнение, что с расформированием мы уже опоздали и что теперь эта мера ничего, кроме новых скандалов и новых ударов по остаткам власти, не вызовет, и нам придется только лишний раз пережить унижение быть безмолвными и бессильными свидетелями неисполнения наших распоряжений.
Сейчас время крутых распоряжений уже миновало; ныне единственный шанс – это полный покой и бережное устранение всего, что может вызвать острое воспаление и сопровождающие его эксцессы; надо этим путем дотянуть до последней оставшейся ставки – выборов в Учредительное собрание (ставки очень ничтожной, так как надо, чтобы за ней стояла реальная сила, а не одни только воззвания, декларации и резолюции). Большевики развернулись сейчас вовсю, и если они победят, то последние остатки армии и государственности будут неизбежно сметены.
Мое мнение о несвоевременности расформирования ненадежных дивизий и о невозможности осуществить теперь эту меру было поддержано армейским комиссаром. Болдырев недовольно молчал, мнения своего не высказал, но согласился включить мое и комиссара мнения в свой доклад главнокомандующему, но я уехал без уверенности, что он это сделает; вообще мне его тактика не нравится: он очень прозрачно ругает при нас Черемисова, выставляет себя гонимым и всячески хочет свалить всю вину на Псков, но в то же время срывается иногда на мелочах, из которых явно выпирает его заискивание в сношениях с Черемисовым и желание путем двойной игры быть удобным и подходящим и вверх и вниз; для большого начальника это очень скверная политика, и на таком двухцветном Росинанте далеко не уедешь.
Я просил также настоять на том, что если расформирование дивизий будет решено, то пусть приказ об этом будет из Петрограда и исполнение его будет возложено на какие-нибудь особые комиссии такого состава, который исключал бы всякую возможность заподозрить эти комиссии в контрреволюционности. Я все время повторял, что положение фронта сейчас чрезвычайно острое, и ради спасения фронта мы обязаны говорить вверх только правду, как бы остра и неприятна она там ни была. Меня поддержал только командир 45-го корпуса генерал Суханов, а остальные дипломатически молчали.
На совещании присутствовали все корпусные комиссары; настроение их очень неважное, так как они – ставленники уходящего состава армейского комитета и знают, что их дни кончены; по их мнению, настроение солдатских масс очень озлобленное и им надоела кормежка их обещаниями; солдаты убеждены, что главным препятствием к миру и немедленному уходу по домам являются начальники и офицеры, которым выгодно продолжать войну, и поэтому всюду идет самая оживленная агитация, подуськивающая массы к поголовному истреблению начальников и офицеров. Руководство агитацией построено очень умело; одна и та же мысль одновременно, как по телеграфу, в одинаковых даже выражениях бросается и впрессовывается в солдатские массы от Риги до Нароча; те же мысли муссируются одновременно большевистской «Правдой» и немецкими газетами «Товарищ» и «Русский вестник», печатаемыми в Вильне и очень аккуратно разбрасываемыми по всему фронту в особых почтовых минометных бомбах, отличающихся от обыкновенных тем, что их головные части окрашены в красный цвет. Один из начальников дивизий утверждает, что на фронте 19-го корпуса братанием и так называемыми поцелуйными встречами заведовал немецкий майор Менеке, специально натаскивавший наших товарищей на тему о том, что главным препятствием к миру были русские начальники.









































