Читать книгу "Корин"
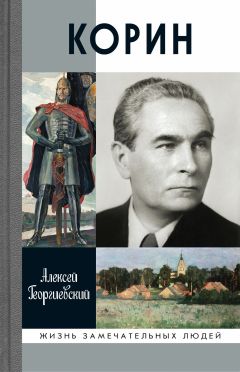
Автор книги: Алексей Георгиевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вот как об этом вспоминала вдова художника: «По дороге в Третьяковскую галерею Павел Дмитриевич встретил Чуракова-отца <…>. Вернувшись домой, Павел Дмитриевич с восхищением говорил: “Какая живописная голова, борода! Шел он, задумавшись, прямо богатырь, шел, переваливаясь, как мельница. Красивая, мощная фигура с клюшкой, оригинальный, очень красивы борода и волосы с проседью. Вот подходящая фигура для моей картины”»8. Просьбу о позировании Корин передал через Степана, сына. Отец, Сергей Михайлович, не был склонен становиться «моделью», но «для такого художника и человека, как Павел Дмитриевич Корин, – как он выразился, – не будет отказа». Сам С. М. Чураков, по свидетельству Прасковьи Тихоновны, «был скульптором-самоучкой. Он вырезал из дерева животных, птиц так замечательно! И дети в семье Чураковых вырезали, лепили, рисовали, писали стихи»9.
Вначале Корин планировал этюд с отцом и двумя сыновьями – еще и со старшим Сергеем. «Павел Дмитриевич yже начал писать его голову, – вспоминал Степан Чураков. – Но Сергею что-то не понравилось, он взбунтовался и отказался позировать. Корин был взбешен и смыл начатый портрет Сергея. Ругался и кричал: “Убирайтесь к черту! Чтоб Вашей ноги у меня не было!” В те годы Сергей уже отошел от Павла Дмитриевича, не был как таковым его учеником, не занимался под его руководством. Отец осуждал Сергея. Он говорил, что если художник взялся за написание чьего-то портрета, то ему надо в этом помогать, а не препятствовать»10.
Создавая галерею образов-портретов к «Реквиему. Уходящей Руси», Павел Корин, можно сказать, стал историческим живописцем, – еще до «Александра Невского». Об этом свидетельствуют все портреты-этюды цикла. Есть среди них особенно показательные и по-своему уникальные в этом смысле. Таковы два портрета иеромонахов Высоко-Петровского монастыря в Москве – Федора (Богоявленского; канонизирован в 2000 году) и Алексия (Сергеева). Можно назвать их антагонистами. Ибо первый после революции и закрытия монастыря стал одним из организаторов тайной духовной общины на его основе и даже духовной академии (чтоб «не прервалась связь времен»), а второй, по имеющимся сведениям (не подтвержденным пока документально), «заложил» их всех, после чего участники общины (кроме его самого) были арестованы ГПУ, а академия разгромлена.
Еще до ареста будущий святой преподобномученик Федор позировал Корину для картины («за послушание»). Художник запечатлел молодого монаха с целеустремленным, вдохновенным взглядом в коротковатом подряснике, старых сапогах, с натруженными руками в напряженных жилах.… Когда работа над портретом уже подходила к концу и оставалось всего несколько сеансов, отец Федор пришел к художнику особенно взволнованным. Из прежних с ним разговоров Корин знал, что коммунистическая власть склоняет его к тому, чтобы «расстричься», уйти из Церкви. Теперь же иеромонах поведал, что вопрос стал ребром: в ГПУ ему сказали, что если он не согласится, его расстреляют. Он же оставался тверд в своей верности Церкви Христовой. Уходя, отец Федор сказал, что если не придет на следующий сеанс, то «знайте: меня уже нет на этом свете, помолитесь, поставьте свечу за упокой моей души». И он больше не пришел…
Позже, во время Великой Отечественной войны, когда П. Д. Корин работал над триптихом «Александр Невский», он изобразил отца Федора на правой части, с булавой, как обобщенный образ воина ХIII века, как символ духовной стойкости истинно русского человека.
По позднейшим свидетельствам11, отец Федор (Богоявленский) не был сразу расстрелян, а брошен в лагеря, где спустя несколько лет и погиб.
Второй иеромонах, Алексий (Сергеев), – антипод отца Федора; после своего предательства в 1932 году (коринский портрет-этюд помечен 1931 годом) он возвысился, стал архимандритом, затем архиепископом и в числе уцелевших семнадцати архиереев принимал участие в церковном соборе, избравшем митрополита Сергия (Страгородского) патриархом в 1943 году. На портрете стальной взгляд его холодных серых глаз, обращенный в сторону, куда-то в только ему ведомое земное будущее, знаменует натуру весьма честолюбивую. По свидетельству художника, портрет произвел на изображенного остро негативное, отталкивающее впечатление; он воскликнул: «Какое выражение лица сатанинское!» То есть еще до открытого размежевания этих монахов Корин инстинктом большого художника выявил человеческую суть обоих. А после, раздумывая об общей композиции, склонный к контрастам, изобразил их на рисунке вместе (с «перемычкой» в лице старца отца Агафона) и подписал: «Опоздал молодой иеромонах, опоздал этот молодой монах. Поздно… Опоздал…» «Все опалены огнем Апокалипсическим. Некто очертил кровавый круг. Его не переступить. Конец»12. (2 июня 1933 года.) И поместил рядом с ним на итоговом эскизе слепца. Любопытно, что автор в целом солидной, прижизненной монографии о творчестве Павла Корина, искусствовед Алексей Иванович Михайлов, – случайно ли, намеренно – отнес эти коринские «опоздал…» к отцу Федору, дав ему такую характеристику, которая отнюдь не исходит из коринской интерпретации этой личности на портрете. Так, он пишет, что лицо отца Федора «с сурово сжатыми губами, сузившимися глазами проникнуто фанатической решимостью»13. Никаких сузившихся глаз, как и фанатизма, на непредубежденный взгляд, здесь нет. Мало адекватного и в последующих инвективах: «Такие фанатики в период острой борьбы старого и нового готовы на всё, только бы остановить победное движение нового»14. Понятие «фанатик», «фанатизм» используется многократно, с разными вариациями, как то: «фанатизм мрачный, изуверский»15 и пр. Характерно и обращение к «первоисточнику» подобных инвектив (истинному фанатику!): «В. И. Ленин говорил, что социализм строится в обстановке ожесточенной, до бешенства (sic! – А. Г.) острой борьбы с силами старого мира»16. «Обреченный», этот монах «из тех, кто пытался остановить стальную поступь истории, остановить неодолимое новое и был смят и растоптан им»17. Понятно, что в советское время, для того чтобы издать монографию о творчестве такого художника, как Корин, были, наверное, необходимы некие ритуальные идеологемы. Но где здесь «ритуальное оттаптывание» советской критики на святых понятиях, а где «затаптывание» истинных религиозных, церковных явлений, укорененных на Русской земле тысячелетием, и где, может быть, какое-то личное заблуждение?
Причем подобное имеет место в монографии и по отношению к другим персонажам коринского «Реквиема». Недаром сам Павел Дмитриевич не дарил эту единственную фундаментальную монографию о его творчестве своим близким именно по указанным мотивам. Многое из этого, к сожалению, подхватил автор последующей, тоже неплохой, если отбросить выморочную идеологию, книжки о Корине – С. Разгонов18.
«Фанатизмом» в этих работах советские искусствоведы называли внутреннюю убежденность церковных людей, духовную наполненность, твердое их «стояние» в вере православной, попираемой коммунистической властью[1].
Мастерство Корина как большого художника-психолога, историка выразилось и в том, что он великолепным чутьем своим выбирал для картины знаковые фигуры времени. Такова в его портретной галерее «Схиигумения Фамарь».
Матушка Фамарь (Марджанова) являла собой образец русской святости (хотя по происхождению была грузинской княжной), ибо ее духовное восхождение шло в непотревоженной органике плодородной русской почвы – Святой Руси. Устроительница Серафимо-Знаменского скита под Москвой в начале века, она была лично близка к таким святым Русской Православной Церкви, как праведный Иоанн Кронштадтский, великая княгиня Елизавета Федоровна, другим новомученикам и исповедникам Российским, еще, быть может, индивидуально и не прославленным, к каковой категории относилась до недавнего времени и она сама. (Прославлена в лике святых Русской Православной Церковью в декабре 2017 года.) Ее Серафимо-Знаменский скит отличался строгой уставностью, правилами пустынножительства. Пробуждение и бодрствование – с 5 часов утра, В 5.45 – начало утренних молитв, утреня и литургия. После – исполнение келейных правил. Насельницы должны были постоянно творить молитву Иисусову и не расставаться с нею на послушаниях; общая же работа сопровождалась тихим пением псалмов или чтением акафистов. Такие строгие правила проистекали из внутренней глубины постижения мира схиигуменией, ее православной духовности. Вовне это выразилось и в видимом устройстве обители, архитектурного ее облика.
Ограда Серафимо-Знаменского скита протянулась на 33 сажени в квадрате в память о тридцати трех годах земной жизни Спасителя. В центре высился храм пирамидальной формы в стиле XVII века во имя Знамения Божией Матери и преподобного Серафима, с усыпальницей и престолом внизу в честь равноапостольной Нины. Снаружи храм имел кверху 24 уступа, по числу 24 апокалипсических старцев и венчался одной главой, знаменовавшей Господа Иисуса Христа. В ограде были расположены, по числу двенадцати апостолов, двенадцать небольших домиков, каждый из которых находился под покровительством того или другого апостола, а потому назывался Иоанно-Богословским, Андреевским и т. д. и имел на наружной стене, составляющей часть ограды, изображение святого покровителя. В центральной части скита у стены был расположен большой образ Спасителя с неугасимой лампадой. Над святыми воротами помещалась звонница с мелодичным подбором небольших колоколов. По углам ограды были выстроены четыре башни; на них укреплены гипсовые, лепной работы, архангелы с трубами, как бы готовящиеся возвестить Второе Пришествие Христово. До революции скит посетила Комиссия по охране памятников искусства; она была тронута высокой идеей, вложенной в него, и выдала настоятельнице особую грамоту, в которой значилось, между прочим, следующее: «Серафимо-Знаменский скит по своему индивидуальному самобытному внутреннему и внешнему устройству заслуживает особого внимания и подлежит сохранению как редкий церковный памятник»19. 23 сентября 1912 года скит и храм в нем освятил митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский; канонизирован в 1990 году). Интересно, что в апреле того же 1912 года владыка Владимир освятил Покровский храм в «обители милосердия» – Марфо-Мариинской20. Но в отличие от раскрытой для общества московской обители Серафимо-Знаменский скит представлял собой внутренне замкнутый круг тридцати трех монахинь (опять же по числу лет земной жизни Спасителя).
После разгрома скита в 1924 году схиигумения некоторое время жила в комнатах расстрелянной великой княгини Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской обители, а с 1926 года с несколькими самыми близкими ей сестрами нашла приют у своих духовных детей под Москвой на станции Перхушково Белорусской железной дороги, где дом для нее снимали в течение нескольких лет Иван и Екатерина Макеевы (Волковы) – дед и бабушка автора этой книги по материнской линии (Екатерина Николаевна – в будущем кума Павла Дмитриевича). Сюда и приезжал Павел Корин в свой очень плодотворный год работы над «Реквиемом» – 1931-й – для того, чтобы договориться о написании портрета. Согласие было получено. Павел Дмитриевич поражался тому порядку, который поддерживался в доме проживания матушки, передавая позже свои впечатления (с улыбкой), что даже в советских наркоматах времен военного коммунизма, где ему по необходимости приходилось бывать, не видел он такой упорядоченности и беспрекословного исполнения всех пожеланий и указаний начальства, как у схиигумении в Перхушкове. (Это еще одно свидетельство того, что духовный авторитет ее был очень высок.)
Корин был готов к работе над портретом. Но в сентябре этого года произошло его знакомство с Горьким, следствием чего стала продолжительная поездка в Италию. По возвращении его в 1932 году матушки Фамари уже не оказалось в Перхушкове: она отбывала ссылку в Сибири. Не без помощи Корина, который после сближения с Горьким и написания его замечательного портрета стал вхож в круги «сильных» тогдашнего «мира сего», и других деятелей искусства (родной брат схиигумении был известным театральным режиссером) ей было разрешено через два года вернуться из Сибири и поселиться не так, как бывало тогда у «лишенцев» – не ближе сто одного километра от столицы, а в привычных местах по Белорусской железной дороге, на сей раз близ станции Пионерская. Здесь в 1935 году, за несколько месяцев до кончины матушки Фамари, получившей в ссылке в холодные сибирские зимы «горловую чахотку» и вернувшейся уже с подорванным здоровьем, и запечатлел ее Павел Корин.
На портрете схиигумения, не дожившая и до семидесяти лет, видится древней старухой, с истонченной голубизной кожи, явно просвечивающимся духовным своим существом… И даже идейно ангажированные советские искусствоведы не могли не оценить по достоинству эту коринскую работу как «подлинный шедевр портретного искусства» (С. Разгонов), отмечая необычность типажа, а также (в более позднее советское время) «вдохновенно-отрешенный лик» изображенной, ее взгляд, «устремленный в бесконечность и обладающий даром проникновенного ясновидения» (А. Каменский).
Если матушка Фамарь является знаковой фигурой в галерее коринского «Реквиема» как таковая – можно сказать, со стороны так называемых «непоминающих», то есть не признавших «Декларацию» митрополита Сергия (Страгородского) о лояльности богоборческой власти и не поминавших его имя за литургией как предстоятеля Церкви, то иная весьма значимая личность, запечатленная художником для картины, – с другого полюса, из молодых, – иеромонах Пимен (Извеков), «держащий» массу церковного народа на итоговом эскизе, – будущий патриарх Московский и всея Руси, ставший им уже после кончины художника, в 1971 году. И надо было быть Павлом Кориным, чтобы в двадцатипятилетнем иноке увидеть значительность будущего первоиерарха. На портрете Корина это очень собранный, внутренне убежденный, сильный человек, тогда как на фотографиях той поры он смотрится смиренным, тихим, углубленным в себя. Здесь можно увидеть пример «пересоздания» фактуры, пример того, что истинный мастер видит скрытое подлинное существо изображаемого. Этот факт еще раз ярко свидетельствует о великом художническом даровании Корина. На этот случай обратила внимание и позднейший исследователь, искусствовед А. Старовойтова21. В подтверждение можно привести еще любопытный жизненный казус, связанный с позированием отца Пимена. Корин не любил показывать холст в процессе написания, до окончания работы над портретом, о чем и объявлял своей «модели» на первом же сеансе. Иеромонах Пимен – единственный из портретированных Кориным не поинтересовался, что же получилось в конце концов. На последнем сеансе просто попрощался с художником и ушел. Много лет спустя, в 1964 году, будучи переведенным с берегов Невы в Москву на Крутицкую кафедру, митрополит Пимен оказался у Кориных в гостях на Малой Пироговке. Зашел разговор и об этом казусе. И на вопрос здесь же присутствовавшего крестника художника, автора настоящей книги, преосвященный Пимен отвечал: «Раз художник предупредил, что не показывает своей работы до окончания, я не знал, может быть, он еще не закончил…» Очевидно, здесь сказались истинно монашеские смиренность и послушание22 – именно те видимые качества, которые в сочетании с внутренней твердостью духа и убежденностью в своих идеалах и сделали возможным его возвышение в коммунистическом, давящем окружении, хотя прежде он пережил и ссылки, и заключение, и много других лишений и испытаний.
После завершения каждого портрета-этюда Павел Корин приглашал к себе в мастерскую Михаила Васильевича Нестерова, чтобы услышать его оценку. Нестеров был доволен своим учеником. Основные герои этюдов отвечали представлениям обоих художников об идеале духовной силы человека. Причем выработанный Кориным художественный стиль отнюдь не был похож на нестеровский: пластически мощная, чеканная форма изображения характеризовала реализм с особыми приемами монументализации и экспрессии.
В письмах своим друзьям, многолетним корреспондентам Нестеров высоко отзывался о творческих и человеческих, моральных качествах ученика. Так, в 1929 году в письме П. И Нерадовскому он замечает: «Корин или Корины – особое дело! Эта порода людей сейчас вымирает и, быть может, обречена на полное уничтожение. И, однако, пока они существуют, я не устану ими любоваться. Любоваться моральными, душевными их свойствами, их, как пишете Вы, “целиной”. <…> П. Д. имеет все, чтобы быть большим художником, мастером, художником с большим специальным умом и сердцем. У него есть все, что ценилось в мое время, что было в лучших художниках моей эпохи. И что, надеюсь, еще когда-нибудь и как-нибудь вернется, как неизбежная реакция – всяческим кривляниям (они часто называются сейчас “исканиями”), салонной болтовне и всяческому моральному безразличию. Как ни велики силы зла, но добро могущественно»23. А позднее, в воспоминаниях, говоря о первоначальном впечатлении при знакомстве с Кориным, отмечал: «Что особенно в нем было ценно – это его глубокая порядочность, какое-то врожденное благородство»24.
Михаил Васильевич радовался успехам Павла Корина, и когда произошло неожиданное посещение коринской мастерской А. М. Горьким с многополезными последствиями, писал с воодушевлением и удовлетворением старшего наставника (А. А. Турыгину): «На той неделе встретил я П. Д. Корина. <…> посетил их, братьев К-х, целый “сонм” с Максимом Горьким во главе, оставались два часа, – пересмотрели все работы, все этюды, всех, кого за последние два года написал П. Д. для своей картины. Много хвалили, восхищались, результатом же было предложение Горького ехать братьям с ним в октябре за границу<…>. Все произошло, как в сказке, по щучьему велению, по Максимову хотению…»25
Очень рад был Нестеров открывшейся возможности для ученика ознакомиться с великим искусством Возрождения, о чем сам он хлопотал в 20-е годы перед «культурными» властями в отношении его, но тогда безрезультатно. Перед поездкой дал подробные рекомендации, на что обратить особое внимание.
В январе 1932 года М. В. Нестеров в ответном письме Павлу Корину в Италию приветствовал его и нацеливал на написание своей большой картины, учитывая творческие, психологические нюансы и опыт всего увиденного:
«Дорогой Павел Дмитриевич!
Спасибо вам за письмо, за поздравление с Новым годом. Желаю и Вам в Новом году поработать так, как работалось в году минувшем, желаю еще большего: чтобы в 32-м была начата картина, чтобы все то, что дала Вам Италия, великие ее художники, претворилось с тем, чем полон Ваш творческий дух, чтобы я еще успел полюбоваться Вами содеянным. Не зная темы Вашей будущей картины, чувствую ее дух живой. Великие мастера объяснят Вам ту сложную и мудрую простоту, которая необходима в искусстве. Ничего лишнего, ничего преднамеренного, того, что нужно было бы пояснять словом. Истинное искусство не нуждается в толмаче. Примером – Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.
Большее, чем допустимо, это название, остальное “от лукавого”.
Картина создается в духовном чреве художника, остальное – дело мастерства, “техники”, той или иной – рафаэлевской, палеховской, репинской или иной какой. Я уверен, что Италия научит Вас не только любить великих мастеров, но и следовать по их путям. И вот еще что: дайте сейчас себе хорошую передышку, отдохните возможно дольше в Сорренто, не работайте там вовсе, любуйтесь дивной природой (Везувием, что ли), дайте улечься римским впечатлениям, чтобы они утряслись хорошенько и все стало на свое место. Помните, впереди у Вас еще Флоренция и, может быть, главное – Венеция с ее великими живописцами. Им надо оставить свое место в Вашем художественном восприятии. После Тинторетто, Тициана Вечеллио, Веронезе – Тьеполо будет казаться Вам ловкой талантливой акварелью. В Вероне не забудьте Веронеза с вороным конем в Сан-Джорджо. Всем им надо дать место, а вернувшись в Москву, как-то вспомнить, как-то претворить в своей картине, – как – не знаю, думаю, как-то по-своему, по-корински, однако, не позабыв вековых традиций родного Палеха»26.
К концу заграничной поездки братьев Кориных Нестеров писал А. А. Турыгину: «Я жду Павла с понятным нетерпением, он как-то, мое “детище”»27.
А по их приезде и последовавшим благам: назначении Павла Дмитриевича главным реставратором Музея изящных искусств (позднее – ГМИИ имени Пушкина), предоставлении ему для окончания картины – по хлопотам Горького – новой большой мастерской с жилыми комнатами при ней и закупке уже написанных этюдов к картине всесоюзным художественным объединением «Всекохудожник» (позднее – Худфонд), – воодушевление учителя шло по нарастающей: «в ближайшее время П. Д. Корин перебирается со своего чердака в новую, огромную, с колоссальным окном мастерскую – дом-особняк в несколько комнат с особой усадьбой, на которой зимой будет каток, а летом разбит сад» (письмо А. А. Турыгину от 24 ноября 1933 года)28. Конечно, никакого катка там никогда не было, но радостная эйфория творческого человека дополняла «милости». И далее в письме: «Там он и предполагает писать свою десятиаршинную картину. Хотел бы я дожить до ее окончания <…>».
После Италии Корин весьма значительно «двинул» вперед свою работу над картиной. Были написаны внушительные двойные «этюды»: помимо иеромонаха Пимена с епископом Антонином, ярко «православные» образы схиигумена Митрофана с крестом в руке и иеромонаха Гермогена, а также тройной женский: две монахини и светская фигура – княжны С. М. Голицыной. Об этих больших по формату и значительных по изображению, в частности, двойных этюдах Павел Дмитриевич высказывался как об особенных, называя их образно: они – «басы-профундо» среди прочих.
А с Голицыными, художнической семьей, Корин сблизился в 20–30-е годы, когда так называемые «бывшие» оказались «под дамокловым мечом» и стремились к общению с таким художником и человеком, как Павел Корин.
Осталось свидетельство посещения ими коринской мастерской, характеризующее атмосферу того времени:
«Сперва мы решили посетить большую выставку московских художников, в здании Исторического музея. Запомнил я там лишь одно огромное полотно прославленного, а ныне вовсе забытого художника Александра Герасимова – “Товарищ Сталин делает доклад XVII партсъезду”. …С той пышной выставки отправились мы на чердак к Корину. Лестница с черного входа была чрезмерно крута. Как это немощный Максим Горький по ней поднимался? Перед нашими глазами предстала просторная комната со скошенными стенами, стояли гипсовые статуи античных богов; они были спасены Кориным со двора Строгановского училища, куда их выбросили футуристы.
Нас приветствовали Павел Дмитриевич и его жена Прасковья Тихоновна. Он был в той темной толстовке, в которой его изобразил Нестеров, – тонкие, красивые, одухотворенные черты лица.
И началось священнодействие. Художник брал один за другим холсты, поворачивал их изображением вперед, говорил, кто на нем запечатлен, последним нам показал портрет скрюченного нищего. Он только что его написал, еще не высохли краски, рассказывал, как увидел его на паперти Дорогомиловского собора, как привез домой, с трудом помог ему подняться по лестнице. И в течение нескольких дней писал его портрет. Досталось Прасковье Тихоновне с этим нищим хлопот!
Впечатление от эскизов, изображавших столпов гонимого православия, было настолько сильное, что я потом несколько дней ходил точно ошалелый. Так необычно было искусство Корина в сравнении со всем тем, что я видел на тогдашних выставках. Так невероятно было то, что он сам, совершенно чуждый всему тому, о чем тогда кричали газеты, мог творить, и жить, и продолжать творить. И каким мелким казалось все то, что называлось пролетарским искусством!» (С. М. Голицын)29.
Любопытен и еще один эпизод, связанный с Голицыными; в нем видны отношение Кориных к своему времени, их бесстрашие и готовность помочь ближнему, невзирая на возможные негативные последствия.
«После ареста Владимира Михайловича Голицына его жена Елена сразу отправилась к Корину, который тогда еще не получил своей великолепной квартиры на Девичьем поле, а ютился с женой на арбатском чердаке. Владимир изредка ночевал у своего давнишнего друга, всегда встречал у него и у его жены Прасковьи Тихоновны живейшее участие. А тут оба они воскликнули: “Ну почему же Владимир Михайлович не пришел ночевать к нам!”» (С. М. Голицын)30.
Корин не мог игнорировать «пролетарские выставки», ибо других тогда не было. Он принял участие в 1933 году в выставке «Художники РСФСР за пятнадцать лет», о которой упоминал С. Голицын. В прессе ей был посвящен, в частности, обзор искусствоведа, художественного критика А. М. Эфроса, который уже почувствовал в Корине «классового врага», некое несоответствие его искусства веяниям времени, хотя и подтверждал его несомненный талант, воздавая ему должное:
«Павел Корин – фигура таинственная. Его физическая молодость настолько условна, что уже начинает пятый десяток. А вместе с тем он один из самых молодых живописцев; в качестве художника он выступает впервые только сейчас. Да и сейчас выступает скупо, всего несколькими вещами: двумя портретами, двумя пейзажами и кое-какими набросками. Но этих немногих вещей достаточно, чтобы унести с выставки убежденное впечатление, Корин – одно из самых больших явлений нашей живописи <…>. Но бесспорно, что это огромное дарование, что оно все еще в росте, что величину его пока даже нельзя определить. И еще одно столь же редкое свойство: это – художник, до края наполненный высокой мыслью, высокой содержательностью, – один из тех одиночек, которые, прежде всего, наполняют зрителя внутренней значительностью того, о чем они говорят кистью. На Корина глядишь – думая, а не глазея, как на подавляющее большинство его товарищей кругом. Я говорю не о сущности коринской живописи, – я говорю о принципиальности его высказываний. Вероятно, с Кориным придется крепко бороться, когда он выскажется полнее и яснее. Сейчас только можно предугадывать, что это пессимист и мизантроп, созерцатель, а не действенник. Впрочем, он выставил слишком мало, чтобы я имел право на обобщения… Но уже и теперь несколько основных свойств его натуры настолько явственны, что назвать их можно: Корин – академист, Корин – монументалист, Корин – реалист, Корин – созерцатель»31.
И вот это «с ним придется крепко бороться» предвещало нечто зловещее для Корина в будущем.
Общественную атмосферу того времени хорошо передают и два эпизода, рассказанные Павлом Дмитриевичем автору этих строк.
В конце 1920-х – начале 1930-х годов черные силы, находившиеся у власти в России, развернули новую усиленную кампанию против религии и Церкви. Был разрушен Храм Христа Спасителя. А в Кремле взорваны древнейший Чудов монастырь, основанный в 1365 году святым митрополитом Московским Алексием (Бяконтом), и замечательной архитектуры «воздушный» Вознесенский женский монастырь.
В главном храме Чудова монастыря, посвященном Чуду Архистратига Михаила, перед уничтожением властями было разрешено снять старинные, прекрасной сохранности и качества фрески. Этим занимались Павел Дмитриевич Корин, в то время реставратор Музея изящных (изобразительных) искусств, с помощником Степаном Чураковым. С болью в сердце и бережно, тщательно, со всевозможной осторожностью, чтобы не нанести непоправимые повреждения, отсоединяли они от стен вместе со штукатуркой чудесные росписи. Работа, естественно, шла не быстро. Снятое складывали в подготовленные для вывоза ящики.
Когда уже большая часть работы была проведена, вспоминал Павел Дмитриевич, в один из тогдашних тяжких дней влетает к нему в мастерскую Степа Чураков и от волнения и слез не может вымолвить ни слова. То, что он вскоре сообщил, повергло Корина в шок. Оказалось, что все их старания пошли прахом: Чудов монастырь взорван вместе со всеми оставшимися фресками, в том числе со сложенными в ящики.
Изощренное варварство и вандализм власть захвативших видны и в другом случае, произошедшем в жизни художника, уже познакомившегося с Горьким и побывавшего в Италии.
По всей Москве начали одну за другой разрушать прекрасные древние церкви. Павел Корин, понимавший в полной мере их ценность для русского народа и всего мира – ведь в столице строились лучшие, своеобразные, отражающие национальные достижения в зодчестве, духовном созидании храмы, крайне обеспокоенный, явился со своей болью к Алексею Максимовичу Горькому. Тот, поняв его тревогу и боль, решил серьезно поговорить с Генрихом Ягодой, начальником ГПУ – НКВД, «строительная бригада» которого и совершала вандализм.
– В условленный день и час, – вспоминал Павел Дмитриевич, – по приглашению Горького я пришел в особняк у Никитских ворот. Вскоре приехал Ягода. Алексей Максимович говорил в тот вечер о недопустимости разрушения древних исторических храмов, говорил о них как о явлениях истории и культуры России. Разговор закончился на том, что Ягода попросил дать ему список храмов Москвы, имеющих особую историческую и культурную ценность. Договорились, что я принесу его завтра на Лубянку.
Почти всю ночь я сидел, – продолжал Корин, – составлял этот список, делал аннотации, боясь что-то упустить. Очень было на душе неспокойно, когда шел на Лубянку. Вернусь ли обратно домой? Сердце захолонуло! Вдруг меня как защитника церквей посадят в каталажку? Но нет, Ягода подписал обратный пропуск. Я все время волновался, и когда прошел через контрольную, сдал пропуск, вышел на улицу, – то будто гора свалилась с плеч, вышел как из тюрьмы, ведь в этом доме томились сотни людей. Тут же сообщил Алексею Михайловичу, что все прошло благополучно, и мы оба порадовались, что сделали доброе дело. Прошло немного времени, и что же я вижу? Разрушают храмы – прямо по моему списку. Я волосы на себе рвал, зачем я передал список в руки злодея!
Заканчивая этот рассказ, Павел Дмитриевич, переживал все будто заново, менялся в лице, голос его дрожал…
«Черная и огромная тень Люциферова крыла» покрывала в те времена Россию…32
Корин попал в весьма непростую ситуацию: с одной стороны, ему покровительствовал Горький и он мог продолжать делать свое дело, но с другой – не мог жить, как разумный человек, «в безвоздушном пространстве», игнорируя всё совершающееся в окружающем его мире. Ему приходилось и чем-то поступаться. Так, ему пришлось после знакомства с Ягодой писать портрет последнего, по его желанию, так как этот страшный человек оказался в ближайшем кругу Горького (по многочисленным свидетельствам, у него был роман с невесткой Алексея Максимовича, женой его сына Максима, – Надеждой: ее звали в семье Тимошей). По словам ученика Корина, мужа младшей дочери Нестерова Натальи Михайловны, – Федора Сергеевича Булгакова, в этом портрете художник «вывернул всю его потаенную суть наизнанку». То есть Корин, как исключение, отнюдь не наделил портретируемого никакой по большому счету значительностью, а, напротив, выявил существо «мелкого беса». Позднее, после опалы Ягоды и его расстрела, следующий начальник Лубянки Ежов приказал этот портрет уничтожить.









































