Читать книгу "Корин"
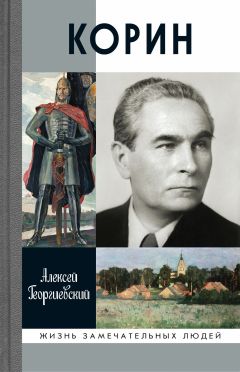
Автор книги: Алексей Георгиевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Потом я писал горы один, а Павел Дмитриевич занялся досками для панорамы, которые принес ему шофер Сеня Осипов. После завтрака писали Бакланку. Был сильный прибой без ветра, калаш, как здесь называют. Павел Дмитриевич очень страдал и мучился, когда писал. В первый раз море с прибоем близко пишет. Пришла Прасковья Тихоновна, стала что-то говорить по хозяйству. Павел Дмитриевич на нее как зашумит! Всерьез рассердился! Очень он яро работает. Вышло хорошо, особенно берег удаляющийся. Море не так.
31 июля. Павел Дмитриевич кончил по утрам работать. Сделал долину реки Бакланки на одном листе – и баста. А то он очень устает. Послe завтрака вместе писали панораму гор. Я рассердился на одно место у себя на этюде (остатки снега на горе Дзышра), писал, старался, ругался. Ни черта не выходит. За вечерним чаем Павел Дмитриевич смотрел мои работы и как раз это место похвалил. Я рассказал, как было. “Это всегда так, – сказал он, – рассердишься, думаешь, не вышло, а потом поглядишь, чуточку правды и поймал”.
1 августа. Утром не работали. После завтрака с вином я заснул на кровати. Павел Дмитриевич, идя писать панораму, увидел меня, нашел фанеру и углем крупно начертал: “Позор”. Фанеру поставил у стены на кровати. Я скоро проснулся и присоединился к нему. Работали мало – жарко. Любовались облаками над Новым Афоном. “Облака с толком писать надо, а не так, как теперь, словно копытом пишут. Из картины ни одного облака нельзя убрать безнаказанно. Вот как писать нужно!” Вечером писали горы, а потом сидели в саду в шезлонгах. Павел Дмитриевич размечтался: “Осенью приедешь к себе в Палех. Дождь, грязь невозможная. Мать пельменями накормит, чайку попьешь, ляжешь на печь на овчину. Пахнет знакомо. Сухим горячим кирпичом. Кот в ногах лежит. Лежишь и думаешь: вот тут есть, действительно, пуп земли! Нигде я себя так хорошо не чувствую, как в Палехе”. Сегодня Павел Дмитриевич закончил долину реки Бакланки. Завтра хочет ее дома написать. Вообще он после работы, уже в комнате подолгу рассматривает этюд.
2 августа. Утром я писал один. Павел Дмитриевич дома доканчивал долину Бакланки. В два часа дня пошли в гости к гудаутским знакомым. На обратном пути, когда переходили улицу, Павел Дмитриевич остановился как вкопанный, увидев почти черную вечернюю тень на кипарисе. Потом на ходу всё любовался розой в своей руке, которую ему подарили. Вечером он написал панораму гор. Я не маячил. Когда совсем стемнело, сели на “завалинку” любоваться луной. Я предложил ринуться в воду. Он неожиданно для всех согласился, и мы выкупались. Павлу Дмитриевичу ужасно понравилось ночное купание. Он прямо в восторге. Неделю назад он пришел бы в ужас от моего предложения. Сухопутный человек!
3 августа. Полежали утром на пляже. “Ультрафиолетились”. Ноги свои больные погрели. Поговорили о старых выставках. Павел Дмитриевич начал ходить на выставки с 1911 года. Вначале ничего не понимал. Очень ему понравилась выставка Машкова и его учеников. “Вот это пишут”, – думал он тогда. <…>
5 августа. С утра ходили с женами в город. Стриглись. Потом решили “кутить”. Но в ресторане, к сожалению, форсунка сломалась в печи. Выпили по стакану вина и поехали на фаэтоне домой. Вечером Павел Дмитриевич писал панораму гор, а я его нарисовал за работой – плохо вышло.
6 августа. Художник Черемных с женой приехал. Павел Дмитриевич с ним учился в школе живописи и ваяния. Хотим его разыграть. Как пойдут мимо нас по берегу, Корин сядет к конторе с греком Мидой на кровать, и будет плести сеть в платке и моей полосатой тельняшке. А я скажу Черемныху, что вот здесь один художник из Москвы живет, служит сторожем на рыбном промысле. Живопись бросил, подавленный врагами. Павел Дмитриевич предвкушал удивление Черемныха.
7 августа. После завтрака я писал долину Бакланки. Пришел Павел Дмитриевич, лег рядом и делал очень ценные указания (холодны на первом плане камни, песок слишком рыж…). Вечером Павел Дмитриевич писал панораму гор. Он очень не любит, когда мешают или смотрят сзади. Черемныхи шли мимо, Корин окликнул Михаила Михайловича. Тот не сразу узнал – пятнадцать лет не виделись. Окна РОСТА вместе делали. Михаил Михайлович рисовал образец, а братья Корины резали трафареты и размножали. Маяковского там видели.
8 августа. Когда спать шли, Павел Дмитриевич, показывая на нашу шелковицу, освещенную “контрюи” луной, сказал: “Дерево Леонардо да Винчи”. Правда, удивительно похоже на знаменитый рисунок дерева. Как я раньше не заметил! “Леонардо да Винчи силуэт брал, выискивая контур”, – добавил Корин.
9 августа. <…> Вечером Павел Дмитриевич писал панораму гор. Расстроился, что не выходит. В этот момент пришли Черемныхи. Он их не подпустил. Я с ними и разговаривал у калитки, показывая свою панораму. Хвалили. Очень они хорошо о Павле Дмитриевиче отзывались. Михаил Михайлович мне сказал: “Вам большое счастье выпало с таким мастером рядом сидеть”. Я говорю, что часто одним глазом поглядываю, как Корин рисует. “Нет, двумя нужно смотреть”, – сказал Черемных.
10 августа. Писали каждый свою панораму гор, а Прасковья Тихоновна нам читала. Он это любит.
11 августа. Утром я писал свою панораму гор. Павел Дмитриевич “Сагу о Форсайтах” читал. Днем я работал у моря. Павел Дмитриевич подошел ко мне и сказал, что пора кончать. Я подписал работу. Сегодня он много о себе рассказывал. Первое посещение Третьяковской галереи. 14 лет. Помнит только, что у васнецовских “Богатырей” небо не понравилось – не чисто написано. У него были большие сапоги. Бежал за живописцами – старшими мастерами живописной мастерской, куда он попал по приезде в Москву, которые шли очень быстро. Всё боялся упасть на скользком паркете, и на поворотах его заносило.
Потом уже он ходил по праздникам. Целыми днями проводил в галерее. Очень тогда нравилась картина Бронникова “Гимн пифагорейцев”. Позднее под влиянием Степанова (у которого жил) полюбил старых итальянцев – фра Анжелико, Гоццоли, Ботичелли. Даже своих русских сколько-то перестал ценить. Степанов заставлял Корина копировать множество картин, а потом продавал. Он хотел возродить у нас ученичество эпохи Возрождения. Рассказывая про годы юности, Павел Дмитриевич сказал, что жил, всецело поглощенный одним искусством. “Я не пил, не гулял с ребятами. Только одним жил. Вся страсть туда ушла”.
<…>
14 августа. Говорили о путешествиях. Кант из Кенигсберга никуда не выезжал, Микеланджело был только в Риме, Флоренции, Венеции и Болонье, Рафаэль и того меньше.
Павел Дмитриевич на свою панораму смотрит не как на этюд, а как на законченную картину. Я ему это заметил. “Этюд – сказал Корин, – это только передача момента освещения. Я на своих панорамах даю общий характер пейзажа, не ставя себе границы”.
15 августа. Рыбаки готовили фелюгу к спуску. Павел Дмитриевич, глядя на силуэт филюги с мачтой и сложенным парусом, заметил: “Очень красивая вещь – турецкая фелюга, найденная форма”. Он почти закончил свою панораму гор. На моей указал, где недостатки.
16 августа. Много говорили сегодня об обучении живописи. Сколько кого как ни учи, а если сам не будешь доходить – ничего не поможет. Нет никаких теорий в обучении. Главное – серьезное отношение к работе. Фотографическая точность ужасна, а какая-то правда нужна.
17 августа. Утром я писал панораму гор. Подошел Павел Дмитриевич и сказал: “Первый план светлее. И вот эта куча колючек похожа на гору”. Про отдельные былинки сказал, что в таких панорамах их нужно поменьше писать. Изыскать характерную форму.
<…> Послезавтра Корины уезжают. <…>
18 августа. В час дня Елена приехала на фаэтоне за нами, чтобы ехать в Лыхны. Как отъехали от моря, Павел Дмитриевич оживился: “Нет! Я все-таки сухопутный человек!” Восхищался красотой местности. Очень напоминает Италию. Только нет произведений человека. Там на каждом холме или горке замок, церковь или городок вырастает из земли. Через полчаса подъема в гору мы выехали на площадь села Лыхны. Павел Дмитриевич восторгался церковью XII века (“Вот она вросла в пейзаж”) и кипарисами около нее. Особенно одним, тонким, как шпага. “Какое благородство линии. Каменная кладка, увитая плющом! Кипарисы! Очень жаль, что раньше сюда не приехали на целый день. Какой этюд прелестный можно было бы написать!” Павел Дмитриевич долго стоял во дворе церкви и всё любовался. Примерял, откуда написать. Место указал. Написать, вырисовать благородные контуры кипарисов. А не так, как сейчас кипарисы мажут с одного маха сверху вниз. Ожил Павел Дмитриевич в Лыхнах. Все повторял: “Сухопутный человек”. Море надоело.
Вечером он показал нам свои законченные панорамы. Очень хорошо! Часов в двенадцать пришли с моря наши рыбаки после трехдневных приключений. Был шторм, и им пришлось убегать до новых Гагр. Павел Дмитриевич им помогал вытаскивать фелюгу. Ворот вертел.
Уф! Наконец смогли отправить Кориных в Москву. 20-го и 21-го не могли достать машину и решили отправить их морем. 22-го Елена с утра пошла за фаэтоном. Вытащили вещи к калитке. Беспокоились, что долго не едет. Наконец приехала. Погрузили и в 10.30 покатили в порт. Пошли в духан. Покушали, выпили по два стакана вина. Павел Дмитриевич развеселился. “Теперь я стал совсем пиратом”. Показался “Норд”. Взяли вещи. Погрузили. Так трогательно поцеловались. “Норд” отчалил. Павел Дмитриевич долго махал нам платком57.
В этих записках видны разные стороны личности Павла Корина. Прежде всего, конечно, его трудолюбие, приверженность своему призванию художника. Но из всех иных особенностей хочется обратить внимание на понимание и склонность к юмору. Иногда приходится встречать представление о Корине как об угрюмом нелюдиме, строгом человеке с насупленными кустистыми бровями и чуть ли не отшельнике, «схимнике». Эти бытовые зарисовки, картинки развеивают такое представление. Конечно, Павел Дмитриевич был сдержан в своих проявлениях: время с его специфическими трудностями пригнетало. К тому же благородная сдержанность была природной его особенностью. И тем не менее художник мог и сам пошутить, и принять хорошую шутку. Многое он стремился перенять от дома Нестерова: открытого, шумного, веселого, яркого. Там он был свидетелем и участником различных староинтеллигентских шуток, розыгрышей, которые шли от богатства натур, прежней неизмученной жизни.
Так, в дом Нестерова как-то весной, на Пасху или на Троицу, после звонка в дверь почтовый служащий внес большущий букет, можно сказать, целый куст сирени, завернутый в плотную бумагу. Михаил Васильевич вышел в прихожую и попросил почтовика развернуть его. Тот, отнекиваясь, сказал, что свое дело доставить букет он сделал, предложил далее действовать самому хозяину. Нестеров начал разворачивать «гостинец» и – что же оказалось? Прямо «из сирени» вышла его хорошая знакомая и замечательная писательница, драматург Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, особа весьма субтильная. Радостному удивлению и воодушевлению всех не было предела…
Поддерживались шутки и розыгрыши и у Кориных. Так, в бытность их еще «на чердаке» на Арбате к ним довольно часто приходил «крестьянский» поэт Николай Клюев, читал свои, как он называл, былины́. Порой утрачивал ощущение времени, что называется, «мучил» слушателей долгим чтением.
Это последнее обстоятельство и послужило поводом для первоапрельской шутки в семье художника. Прасковья Тихоновна, воспользовавшись моментом, когда супруг был углублен в свое художество, тихонько пробралась к входной двери и, открыв ее, позвонила. Изобразила затем возгласами очередной приход Николая Алексеевича и, войдя в комнату, как бы опережая гостя, объявила: «Клюев…» Павел Дмитриевич, как гостеприимный хозяин и по-доброму относившийся к поэту, принял, хотя и не без некоторого усилия, приветственное радушное выражение, как говорится, натянул на лицо улыбку, приготовившись встречать. Тут-то и открылась шутка: первое апреля!
Все эти розыгрыши, шутки давали возможность хоть немного отвлечься от суровой действительности, забыться от постоянных треволнений. А напряженность была разлита в воздухе…
Как оказалось – и ныне это документально подтверждено, – за Кориным в те годы шла тотальная слежка со стороны спецслужб. Публикатор на короткое время в 1990-х годах частично рассекреченных в отношении П. Д. Корина архивов КГБ В. И. Терешкин утверждает58, что началась она еще при жизни Горького, в 1934 году: в сводке «секретно-политического отдела ОГПУ от 11 июня 1934 года он фигурирует как один из гостей проповедовавшего религиозные воззрения художника М. В. Нестерова». Такова была реальность той жизни, ныне всем известная. В поле зрения спецслужб, думается, Корин попал еще раньше: сразу после заграничной поездки и оказавшись в окружении А. М. Горького. Но «сводки» отложились именно с указанной даты. Это документально свидетельствует и о том, что Михаил Васильевич Нестеров тогда (в 1934 году) рассматривался ОГПУ как основной «фигурант».
Нестеров – особенно в советское время – пример удивительного духовно-светского уникума. Столь глубокий по своей внутренней сути художник, оставшись после революции на родине, где практически всё его предшествующее творчество подверглось остракизму, ибо несло отвергаемый советской коммунистической властью, ее идеологией, религиозный дух, нашел свою нишу, линию поведения и в конце концов оказался принятым советским «истеблишментом». Но для этого ему пришлось в большой степени «стать на горло собственной песне», перейти на создание портретов современников, причем даже таких, каких прежде он и помыслить не мог, «рекомендованных» ему: например, «полярного исследователя», госчиновника Отто Юльевича Шмидта. (И это вместо того, чтобы, как писал Нестеров позже в воспоминаниях, «уяснить для себя образ русского Христа»; но, «став лицом к лицу с событиями 1917 года», «приходится останавливаться над этими задачами и, по-видимому, навсегда их оставить»59.) Это было горькое признание. Но необходимо оказалось содержать большую семью, что в нестабильных обстоятельствах проявилось со всей строгой очевидностью. Кроме того, так удалось избежать прямых репрессий. (Можно вспомнить, что после революции М. В. Нестеров был арестован и месяц «сидел» в Бутырках.)
Корин «подзаряжался» от оптимизма и присутствия духа Нестерова, в доме которого проходили музыкальные вечера, постоянно бывали разные люди, господствовала творческая атмосфера. Вероятно, и тот и другой чувствовали постоянный «пригляд» и считали жизненно необходимым «держать дверь дома открытой». Если для «экстравертной» натуры Нестерова это было довольно органично, то для более углубленного в себя Корина стоило определенных усилий. Но делать было нечего: надо было развенчивать инвективы, газетные обвинения, подозрения о «контрреволюционном, мракобесном гнезде». Дом и того и другого художника, судя по «сводкам», «рапортам» и донесениям, прямо-таки кишел «искусствоведами в штатском».
Так, один из них в донесении от 29 октября 1934 года сравнивал творчество Павла Корина и Александра Иванова, верно определяя Корина как продолжателя «религиозно-философских идей автора “Явления Христа народу”», считающего «свое искусство служением Богу»60 – что тогда подразумевало некую «крамолу».
Сомнения в политической благонадежности, «лояльности» Корина к власти содержатся, например, в сводке предположительно 1936 года. Признавая безусловный талант и незаурядность художника, автор называет его «исключительно ярким антисоветским элементом – церковником, мистиком и монархистом», видящим в Церкви единственное спасение России и возрождение ее народа. За этим следует вывод: «Будучи очень крепким по своей идеологии и очень принципиальным человеком, Корин, на мой взгляд, представляет собой человека крайне нежелательного в совучреждении вообще…»61 То есть вполне верно понимая идеологические и творческие позиции художника, его принципы, эти «искусствоведы» делают свои «советско-партийные» умозаключения и выводы, лишающие его будущего.
О том, что судьба и жизнь Павла Корина на рубеже 1936/37 года висели «на волоске», свидетельствуют и другие – официальные – документы. Так, 8 декабря 1936 года заместитель заведующего культпросветотделом ЦК ВКП(б) А. Ангаров направил Сталину и секретарю ЦК А. А. Андрееву докладную записку «О художнике Павле Корине», в которой давалась оценка картине «Уходящая Русь» как «художественно исключительно сильной, но антисоветской по сути»62.
По-видимому, весной 1937 года планировался визит в мастерскую Корина самого Сталина, который решил непосредственно познакомиться с его творчеством и с ним самим, сделать свои выводы и принять в отношении художника окончательное решение. В связи с этим в недрах НКВД спешно подготавливались «объективки». И родилось такое «резюме» (2 апреля 1937 года): «Он с детских лет работал живописцем по церквам, поддерживал отношения с духовенством, женился на бывшей монашке», «встречался с разоблаченными врагами народа», «писал портреты бывших попов, митрополитов, монахов, схимников для своей будущей картины, посвященной православию». В заключение высказывается необходимость «расследовать все эти обстоятельства, так как возможно, что здесь сплеталась сеть преступных деяний, особенно ввиду предполагаемого приезда т. Сталина в мастерскую Корина». Через две с половиной недели на первом листе этого документа появилась резолюция: «Через 2 дня дать справку на арест. 21/4»63.
После такого заключения, скорее всего, Сталина отговорили ехать к художнику. Но и ареста не произошло. Все тогда зависело от решения Сталина, а он, зная о Корине от Ворошилова и других лиц своего окружения, зная (по многочисленным репродукциям) прогремевший коринский портрет Горького, такого разрешения не дал. Понимая уникальность художественного дарования Корина, диктатор, по-видимому, посчитал возможным «перенаправить» его творчество, ввести в нужное большевикам русло. Тем более что Корин не отказывался от написания портретов «советских героев», рекомендованных ему. Так, он дал принципиальное согласие на написание портрета летчика М. М. Громова; портрет был написан в январе 1938 года.
Информация о П. Д. Корине стала поступать в НКВД ежедневно! «Изучались его настроения, разговоры, реакция на аресты знакомых и происходившие вокруг него события, текущие дела и планы на ближайшие дни»64.
Изворачиваться, кривить душой было не в натуре Корина. При всем понимании занесенного над ним «дамоклова меча», он не считал для себя возможным лгать, подлаживаться. Это видно и по тому, что «надзиратели» правильно характеризуют его в донесениях.
Простодушие, доверчивость – вообще изначально присущие русским людям характеристические черты.
Весьма прямые высказывания Павла Дмитриевича фиксируются «органами» и несколько позднее – после «пика выживания» 1937 года, в очень сложный период начала войны, когда, как известно, всех подозреваемых в нелояльности «отправляли в расход».
Приведу ряд донесений «сотрудников 2-го и 3-го управлений НКВД – НКГБ СССР о художнике П. Д. Корине», как они представлены публикатором65, с комментарием.
Итак, на третий день войны составлена следующая запись:
«24 июня 1941 г.
Совершенно секретно
КОРИН Павел Дмитриевич – художник, религиозный фанатик, антисоветски настроен, группирует вокруг себя художников с подобными взглядами, быв[ший] иконописец. Корин был близок с Ягодой, Бухариным, Славинским и др., которые посещали его квартиру.
В момент объявления войны я был у художника Павла Дмитриевича Корина, который заявил: “Россия обречена на ужасающее разорение. Для Гитлера встает вопрос: жизнь и[ли] смерть, и удар его на нас будет ужасен. Одна надежда на то, что С[талин], и так злой, обозленный вызовом нам и угрозой разгрома, бросит все силы на немцев. Это будет ужасная резня, в которой уцелеют немногие, но жесткость и решительность могут спасти Россию. Как ни страдали мы от этого кулака, сейчас он может нам пригодиться”».
Наряду с прямотой, в то время явно крамольной (ведь подумать только! – «великий вождь всего прогрессивного человечества» – «злой кулак»!), обращают на себя внимание прозорливость Корина, его верные предощущения и, конечно, чувство общности, родственности со своим народом.
Продолжаю цитировать документ:
«Далее разговор коснулся вопроса охраны художественных ценностей. “У нас ведь ничего не приготовлено к спасению сокровищ искусства. В Музее изобразит[ельных] искусств ни технической силы нет, ни тары для эвакуации не заготовлено. Хранители музея – ничтожные люди без инициативы, и кто бы поверил, а вчера (21.VI) в канцелярии музея, в том месте, где всегда полно посетителей и работников и подготовка[3], утром рухнула деревянная резная скульптура XVI века, сломала стол и расплющила пишущую машинку. Если такова охрана внутри музея, то что будет, когда музей подвергнется бомбардировке или начнется эвакуация? Конечно, нужно было бы точно начать эвакуацию и отправить ценности в другие города, хотя бы лучшие, уникальные произведения. И если у нас в Москве такая бесхозяйственность, то что же делается в периферийных городах? В Звенигороде недавно закрыли музей и большинство дорогих музейных вещей бросили на произвол судьбы, свалив их в церковь, а многое и разграбили”.
Мл. лейтенант госбезопасности (подпись)».
Как настоящий гражданин и патриот, Корин неравнодушен к отечественному достоянию, искусству, своей миссии сохранителя.
По-видимому, его слова возымели действие: в Музей изобразительных искусств была прислана тара (деревянные ящики, доски), рабочая сила; и под руководством самого Корина до конца 1941 года было должным образом упаковано и эвакуировано свыше тысячи экспонатов.
Приведу еще одно характерное донесение военного времени.
«15 мая 1942 г.
Совершенно секретно.
Был у Павла Дмитр[иевича] Корина – самого художника не застал. Беседовал с женой Прасковьей Тихоновной.
“Мы сидим совсем без денег, никаких сил не хватает, обеды у мужа обходятся в 15–20 рублей, дом наш стоит бешеных денег, мы уже много задолжали. Деньги платят плохо, говорят, задерживают, чтоб рубль не падал так быстро. Вот делаем огород на своем участке, а кому с него урожай пойдет – никто не знает”. “Муж не думает уезжать к себе в Палех?” Корина: “Нет, ни при каких обстоятельствах мы Москву не бросим, осень показала, что все будет раскрадено, у нас – дом, все добро, картины, вся жизнь здесь, а в Палехе полный голод. Сейчас мы как-то работаем, кормимся, а там, впереди, Бог не без милости, зачем на рожон лезть, как-нибудь выкрутимся. Бомбежки тоже не очень боимся – в щель ночевать уходим, в подвале очень удобно, теплее, чем в комнатах зимой было, а большего нам, Кориным, бояться нечего: мы – не евреи и не лизоблюды какие-нибудь, чтоб нам могло быть плохо. Да авось и не будет страху-то. Осенью думали – вот с часу на час придут, а он откатываться стал. Одни говорят – ослаб немец, другие, что удар готовит не на Москву, а на Кавказ, чтоб отрезать нефть и заставить наших мир с ним заключить”.
Ст. лейтенант госуд[арственной] безопасности
(подпись)».
Очень жизненные переживания представлены через живую речь жены художника, подчеркну – простосердечную.
С течением военного времени стало меняться на самом верху отношение к традициям, национальным ценностям, к Церкви, и в донесениях «по Корину» уже нет характеристики: «религиозный фанатик».
Так, например, в донесении начала осени 1942 года:
«15 сентября 1942 г.
Совершенно секретно
Справка: КОРИН П. Д. – видный художник.
В беседе <…> Корин сказал: “Несмотря на то, что советская власть доставила мне много плохого, я – патриот, люблю свою Родину. Ненавижу иноземцев, люблю свои поля, села, церкви, все это мило моему сердцу. Жду и буду радоваться первому нашему успеху. Я его жду на Кавказе. Немецкая сволочь недоучла выносливость русского человека, они узнают, и это их ошибка. Они погибли с первого дня своего наступления на нас. Я все время хожу убитый нашими временными неудачами. Пью водку с горя. Художник Нестеров М. В. – больной, и он очень переживает наши неудачи, не может работать, лежит, от него скрывают сводки Информбюро, а если бы он услышал о победах, он, наверно бы, поправился, такой это большой русский человек”.
Лейтенант госбезопасности (подпись)».
По-видимому, поняв, с кем имеет дело, Корин высказывается по общественно-политическим вопросам предельно ясно, даже декларативно, подкрепляя свои слова именем и позицией учителя М. В. Нестерова.
Отношение к Корину явно меняется, тем более что он в это время пишет патриотический героический триптих «Александр Невский». Павел Дмитриевич начинает активно действовать и как член Комиссии по охране памятников искусств при Комитете по делам искусства: осматривает состояние древних московских церквей, соборов и монастырей (оставшихся после волны тотального уничтожения начала 30-х годов). При этом четко фиксируются его личностные предпочтения.
«2 января 1943 г.
Совершенно секретно
27 декабря 42 г. художник П. Д. Корин заявил, что 29 декабря пойдут осматривать б. Преображенский собор Новоспасского монастыря с целью установления, в каком состоянии там находится стенная живопись.
Преображенский собор Новоспасского монастыря является фамильной усыпальницей дома Романовых, в нем похоронены многочисленные родственники из семейства Захарьиных и члены дома Романовых. Здание собора сооружено в 1647 году и имеет стенную живопись XVII века, действительно являющуюся памятником древнерусского искусства. В здании собора помещается с 1925 года архив № 1 Моск. обл. упр. НКВД; здание не ремонтировалось с 1925 года – у него сильно разрушена крыша.
Быв. церковь Марфо-Мариинской обители, помещающаяся по Б. Ордынке, дом № 34 сооружена А. В. Щусевым в 1908 году; в 1910—12 гг. внутри расписана стенной живописью академиком Нестеровым и П. Д. Кориным.
При осмотре 29.XII-42 года П. Д. Корин в разговоре с директором архива сообщил ему, что теперь на охрану б. церквей, являющихся древними памятниками, обращают исключительное внимание и заботятся об их сохранении; далее, узнав, что гробы похороненных под церковью членов дома Романовых выброшены уже давно, он сказал: “Какое безобразие так неуважительно относиться к бывшим великим людям”.
После осмотра П. Д. Корин сказал мне, что “надо провести осмотр 7–8 древних церквей в Москве, собрать материалы и со всей решительностью поставить вопрос в Комитете по делам искусств у тов. Храпченко, а может быть, и выше, о чем поговорит с Пешковой, взяться за действительную охрану памятников, а не так, как охраняет Д. П. Сухов (зампредседателя Комиссии по охране памятников искусств. – А. Г.), который только описывает да учитывает памятники, а никаких мер к их охране умышленно не принимает, считая, что это должен делать кто-то другой”.
30 декабря 42 г., обследуя б. Марфо-Мариинскую церковь, П. Д. Корин заметил мне, что доску, вделанную в наружную стену, где написано, что в 1912 году церковь посетил Николай II, необходимо застеклить и принять все меры к ее сохранению. Так же бережно надо охранять и само здание, и в особенности находящуюся внутри него живопись Нестерова. При уходе из этой церкви с Кориным встретился неизвестный мне китаец, с которым сердечно поздоровался и поговорил. Расставшись с ним, Корин рассказал мне, что этот кореец (так в документе. – А. Г.) знаком с ним с 1910 года, он сейчас работает сторожем в доме № 37. “Очень хороший человек, его А. В. Щусев хорошо знает, правда, его портит сильно израненное лицо”.
Далее выяснилось, что у П. Д. Корина часто бывают Л. А. Давид (сотрудник Академии архитектуры. – А. Г.), реставратор икон И. А. Баранов, несколько раз был Дейнека А. А., с последним он 29 декабря даже распил в ЦДРИ бутылку шампанского.
Ст. лейтенант госбезопасности (подпись)».
Обращает на себя внимание в этих донесениях, помимо действительно значимого, отражение даже как бы будто «проходных» деталей, нюансов, случайностей. Что в общем-то создает некоторую «объемность» общей картины жизни.
Тотальная слежка продолжалась, причем, возможно, и с использованием подслушивающих устройств, поскольку, например, в следующем донесении фигурируют планы Корина на день, высказанные им «утром у себя дома».
«6 января 1943 г.
Совершенно секретно
3 января с. г. член Комиссии по охране памятников искусств при Комитете по делам искусства художник Корин П. Д. утром у себя дома заявил, что “мы сегодня пойдем осматривать состояние быв. Покровской церкви Марфо-Мариинской общины, находящейся на Б. Ордынке, д. 34. Это здание построено в 1908–1911 гг. академиком А. В. Щусевым и расписано стенной живописью академиком Нестеровым и мною в 1912 г. Здание Покровской церкви сейчас используется не по назначению. Одно время, перед войной, в нем хотели открыть музей иконописи в виде филиала Третьяковской галереи, но теперь необходимо сохранить это здание от каких бы то ни было переделок, и самое лучшее, конечно, если в нем будет открыта общиной верующих церковь. Когда церковное здание находится в руках верующих, то за его судьбу можно быть спокойным. Было бы очень хорошо, если бы осмотренный нами в декабре б. Преображенский собор Новоспасского м-ря, был бы взят верующими”».
По-видимому, для того чтобы заострить проблему сохранения столь дорогого ему по начальной работе с Нестеровым Покровского храма Марфо-Мариинской обители перед заседанием секции монументальной живописи Комиссии по охране памятников искусств в этот же день (о чем свидетельствует документ ниже), Павел Дмитриевич говорит о новом посещении его, только что, за несколько дней до этого посещенного, – понимая, что «и стены уши имеют».
Продолжу цитирование документа:
«3 января 43 г. в кабинете проф. Сухова в Академии архитектуры состоялось заседание секции монументальной живописи Комиссии по охране памятников искусств. На заседании присутствовали – проф. Сухов, худ. Корин П. Д., Виннер А. В., А. Н. Лурнецкая. Обсуждался вопрос о результатах осмотра б. Покровской церкви Марфо-Мариинской обители. По сообщению проф. Сухова, выяснилось, что здание этой церкви не состоит в списке подлежащих госохране, и профессор Сухов посоветовал худ. Корину, чтобы подал в Комиссию по охране памятников заявление от группы художников, в котором бы указывалось на значение этой церкви как произведения искусства, с просьбой взять ее на госохрану. Сухов тут же пояснил: “Одно дело, когда комиссия постановит взять на госохрану здание церкви, и другое дело, когда она это делает по требованию общественности”. Корин охотно согласился и после заседания комиссии заявил: “Я переговорю с худ. Журавлевым, позову Дейнеку и еще двух-трех художников, и мы совместно напишем заявление о необходимости госохраны этой церкви”.









































