Читать книгу "Корин"
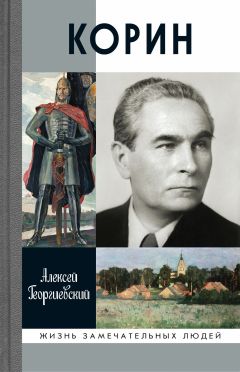
Автор книги: Алексей Георгиевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Через Горького Корина узнали и первые лица государства. Так, в новую его мастерскую приходил Николай Бухарин (естественно, до своей опалы). Павел Дмитриевич рассказывал скульптору В. Цигалю и о посещениях его Климом Ворошиловым: «Раньше ко мне часто заходил Ворошилов. Иногда с Горьким. Ворошилов говорил: “Корин, брось писать попов!” Мы с ним схватывались и начинали бороться, падали на диван, а потом по полу продолжали… Он сильный был, но и я тоже. Это мне нравилось: Ворошилов командовал Армией, но не командовал в искусстве»33.
Но прежде, конечно, новое коринское место жительства и его мастерскую (Малая Пироговская улица, дом 16, флигель 2) посетил А. М. Горький. Он остался доволен помещением и теми новыми портретами к «Уходящей Руси», которые художник исполнил за два последних года, после возвращения из Италии. По свидетельству П. Т. Кориной, «уходя, Горький сказал: “Вы накануне написания замечательной картины. Напишите ее, слышите, обязательно напишите! Вот большая мастерская, пишите, ни о чем не заботьтесь”»34. Он же помог Корину с заказом необычайно большого по размерам холста, который должен был быть без единого шва. По спецзаказу такой холст сделали, как теперь бы сказали, как нечто «эксклюзивное», в Ленинграде, с особыми предосторожностями привезли в мастерскую Корина.
Об этом вспоминал Степан Чураков: «Холст был больше ивановского “Явления Христа народу” на 0,5 кв. м [размер коринского холста 551 × 941] и внушительно стоял в мастерской. Подрамник был сделан особый, по расчетам Евгения Васильевича Кудрявцева, заведующего реставрационной мастерской Третьяковской галереи. У подрамника были раздвижные углы на винтах в виде барашков, так что холст, натянутый первоначально, не провисал. Павел Дмитриевич понимал преимущества такого подрамника. Это большое cooружение было детально продумано. Я помогал натягивать и грунтовать холст. Натягивали холст вместе с Константином Алексеевичем Федоровым. Под подрамник были сделаны подставки в виде крестов из доски толщиной 5 см для натяжки. Их подставляли под углы и по периметру подрамника. Высота подставок была 50 см. Мы с Костей сидели на полу, подсунув ноги под подрамник, и таким образом натягивали холст. Натянутый холст надо было ставить – для этого Павел Дмитриевич пригласил ребят. Надо было дружно, всем сразу, поднять одну сторону, в центре упереть доской, чтобы середина не прогибалась. Поставили холст. Он сразу сделался большой, и Павел Дмитриевич глядел на него, представляя, как он скомпонует, разместит все свои этюды в композицию.<…> На фоне холста Павел Дмитриевич иногда расставлял свои этюды и мечтал, как это будет, прикидывая композицию “Руси уходящей”»35.
Весь 1934 год ушел на обустройство нового жилья. Павел Дмитриевич решил оснастить и обиходить его сообразно самому помещению и своему художественному видению – на достойном уровне. Для этого он искал и находил мебель красного дерева, антикварные люстры и прочее (рояль, на котором позднее играли Игумнов, Юдина, Рихтер, фисгармонию, на которой Прасковья Тихоновна, получившая в обители азы знания нотной грамоты, исполняла песнопения Бортнянского, Сарти…). На всё это ушли почти все средства, вырученные от «Всекохудожника», у которого деньги были получены и в счет еще не написанных этюдов (таковы были условия кредита, что впоследствии вышло художнику боком).
Следующий, 1935 год – пиковый и в основном завершающий в подготовке к картине. Наряду с большими и значимыми портретами-«этюдами» тогда же были написаны Кориным замечательные этюды-интерьеры Успенского собора Московского Кремля, куда художник был допущен по ходатайству опять же А. М. Горького, ибо в то время Кремль был закрыт для обычных граждан. Соборы находились со времен революции запущенными, в плачевном состоянии. Интерьеры были необходимы как фон будущей картины.
В том же году в Париже открылась Всемирная художественная выставка, куда Горький, сам уже «невыездной» и потерявший годом ранее сына, смог послать жену Екатерину Павловну с невесткой «Тимошей» и… Павлом Кориным, чтобы тому «ознакомиться с современным искусством».
«Тимоша» к тому времени числилась ученицей Корина, ибо входила в группу занимающихся у него в Музее изящных искусств по вечерам два раза в неделю (иногда занятия переносились в особняк Горького у Никитских ворот). Вот как об этом вспоминал Степан Чураков:
«Она сразу внесла свой особый дух. <…>. Надежда Алексеевна приносила завтраки, и у нас жизнь пошла другая. Как-то она принесла ветку хурмы с листиками. Я первый раз это увидел. А какие она приносила булочки! В эти годы мы такого хлеба не видели.
Вечером после работы в музее мы ходили к Надежде Алексеевне Пешковой рисовать. Руководил рисунком Павел Дмитриевич Корин. Моей обязанностью было доставать натурщиков. Было это в доме Рябушинского у Никитских ворот. На самом верхнем этаже находилась мастерская, где мы вечерами рисовали: Н. А. Пешкова, С. С. Уранова и я. Приходил Павел Дмитриевич, смотрел, поправлял, показывал, как надо строить натуру, как начинать рисунок. Это было здорово»36.
(Впоследствии «Тимоша» тряслась от страха, боясь разделить участь Ягоды, когда тот стал неугоден, развенчан и уничтожен Сталиным.)
А в поездке в Париж был интересный момент: визит всех троих к Шаляпину. По давнему знакомству с ним Екатерины Павловны Пешковой решено было навестить великого русского певца, которого Корин видел на оперной сцене в России и был восхищен его искусством и голосом. По словам Павла Дмитриевича, Шаляпин показался ему сильно сдавшим, но с неким великосветским шармом, что было удивительно у простого по происхождению человека; он предстал в виде, как отмечали и иные его давнишние знакомцы, «стареющего льва» (лишний раз это свидетельствует о большом значении культурной почвы, в которой произрастает талант). Федора Ивановича гости звали вернуться на родину, в Россию. На что он, кивнув в сторону младшей дочери кукольной красоты с распущенными пшеничными волосами, сказал: «Куда же я от нее уеду?» Родные его не хотели покидать Францию.
В эти годы (1934–1936) Корин стал особенно много общаться с творческой интеллигенцией: и во время долгих гощеваний у Алексея Максимовича Горького в подмосковных Горках, и в Крыму, в Тессели. Горький, лишившись сына, по-видимому, начал испытывать к Павлу Корину какие-то, может быть, отцовские чувства. Корин вспоминал о Горьком в одном из интервью: «Часто к себе приглашал. Гостил у него в Горках и в Тессели, подолгу гостил с женой, месяца по два. Бывает, ездят к Горькому разные люди, надоедят, он говорит: “Что ко мне всякие идиоты ездят, позовите ко мне Корина”. Крючков, секретарь Горького, приедет за мной на машине и привезет. Чем-то я ему нравился…»37. Ездил он и к новым знакомым из круга Горького – молодым писателям Вс. Иванову, Л. Леонову на их только что обретенные дачи в учрежденном Горьким писательском поселке Переделкино.
Общался с тогдашним литературным мэтром Алексеем Николаевичем Толстым, с которым познакомился еще в Сорренто у Горького. Как вспоминал С. Чураков: «Однажды Алексей Николаевич Толстой попросил Павла Дмитриевича сводить его в церковь, где бы больше чувствовалась старина. Алексей Толстой в это время работал над романом “Петр I”, и ему необходимо было набирать, впитывать дух той эпохи. Павел Дмитриевич посоветовался со мной, куда лучше сходить. Решили пойти в церковь Зачатия св. Анны, что в Углу. Она находится в Зарядье. В этой церкви был хороший хор певчих. Я расписывал для диакона этой церкви большую свечу.
Мы поехали на машине. Оставили ее в переулке и пошли пешком до церкви. Я не помню, был какой-то праздник. Народу было много. Мы встали посреди храма все трое рядом. Алексей Николаевич внимательно наблюдал за прихожанами. Служба была красивая. Павел Дмитриевич мне как-то говорил, что можно и в двадцатом веке видеть и писать шестнадцатый. В церкви стойко сохраняются древний уклад, традиции, иконы, облачения и песнопения. Надо только уметь видеть. А какая была люстра с орлом, сложившим крылья, и дивные резные золоченые царские врата. Это замечательный памятник!»38
Павел Корин оставался глубоко верующим и церковным человеком и, несмотря на оголтелую антирелигиозную пропаганду власть захвативших, отнюдь не скрывал этой своей жизненной позиции.
Недоброжелатели, завистники, которых он непроизвольно нажил (а без таких страстей жизненный муравейник не обходится – тем более по отношению к нему, такому, как тогда многим казалось, «везунчику»), нашептывали Горькому: «Что вы якшаетесь с “отсталым элементом”, ведь он верит в Бога, надо подействовать на него, обратить его в “прогрессивную веру – в коммунизм”». На что Горький отвечал: «Оставьте его самим собою».
Многократно посещал новое коринское жилище и мастерскую Михаил Васильевич Нестеров, радовавшийся жизненным и творческим успехам своего «детища». «От всей души желаю, чтобы Вы написали одну из значительнейших картин русской живописи»39, – говорил он ученику, когда впервые оказался на Малой Пироговке (март 1934 года). А в дальнейшем: «Если Вы не напишете этой картины, я Вам с того света буду грозить»40.
В это время Нестеров писал портрет известного физиолога академика Павлова в Колтушах, которому рассказывал о Павле Корине, о его задуманной картине и портретах-этюдах. Павлов просил передать Корину привет и пожелание успехов. В доме Нестерова Корин также познакомился с солистами Большого театра К. Г. Держинской, П. М. Норцовым, артистами Художественного, Малого театров, писательницей Т. Л. Щепкиной-Куперник.
Следуя совету Нестерова, Корин старался не пропускать интересных, значительных явлений, событий культурной жизни. Еще до революции находил возможность, покупал лучший билет в партер Большого театра, сидел там в пиджаке с рукавами, измазанными краской, рядом с дамами в бриллиантах и лощеными господами, ходил и в другие театры, и на выставки.
Весной 1935 года записал у себя в тетради: «Вечер. Колонный зал. “Реквием” Берлиоза. Помни “День гнева”. Какое величие! Вот так бы написать картину. “День гнева, день суда, который превратит мир в пепел”. Какая музыка!»41 Сопрягая сходное по теме музыкальное произведение мировой классики с замыслом своей картины, подпитываясь из смежного вида искусства. В марте 1936 года повторно слушает «Реквием» Гектора Берлиоза в Большом зале Московской консерватории: «Этот пафос и стон должен быть в моей картине, гром, медные трубы и басы… Этот почерк должен быть. Мое искусство должно быть Духовно-Титаническим. На высоте Духа»42. То есть Бога. Таков творческий «замах» художника.
В это время Павел Корин на всех парах движется к завершению подготовки к картине, делает несколько эскизов общей композиции.
На вечере празднования 74-летия со дня рождения и 50-летнего юбилея творческой деятельности Михаила Васильевича Нестерова, 1 июня 1936 года, юбиляр после приветственных и «славящих» его речей берет слово и, коротко благодаря, провозглашает тост «за своего друга, пришедшего двадцать пять лет тому назад юношей, похожим на тех юношей, что написаны на фресках Гирландайо во Флоренции, в церкви Санта Мария Новелла, потом этот юноша стал моим другом, а теперь лучшим, самым замечательным художником нашей страны, это был П. Д. Корин»43. Описывая это празднование в письме своей племяннице, Нестеров снова связывает свой юбилей с Кориным: «Пятьдесят лет, как я работаю самостоятельно, семьдесят четыре года живу на свете, двадцать пять лет, как знаю и люблю чудесного человека и художника Павл. Дм. Корина. Много, много прошло событий и людей мимо меня. Знал я людей замечательных (Толстого, Менделеева, Павлова, Сурикова, Васнецова, Репина), многому научился и век бы учился, да старость мешает»44. Письмо это заключает многозначительная фраза: «Очень волнуюсь болезнью Горького из-за Павла Дм.»45. И эти волнение, озабоченность не были напрасны. Ведь всем, а Нестерову в особенности, было понятно, что благополучие Павла Корина зиждется на всемерном патронаже и защите его А. М. Горьким.
Павел Дмитриевич встречал новый, 1936 год вместе с Горьким в Тессели. Это было последнее их общение. Когда Алексей Максимович возвращался в мае из Крыма в Москву, он сразу с вокзала решил посетить могилу сына на Новодевичьем кладбище и после, по дороге, заехать к Павлу Корину. Но звонившая по его просьбе «Тимоша» не дождалась ответа на звонки (пространства в новом доме были не маленькие, подойти к аппарату быстро не всегда получалось). Так не произошла их последняя встреча, о чем Павел Дмитриевич позже очень сожалел. Горький вскоре слег в постель и уже не поднялся. Его смерть действительно оказалась чудовищным ударом по Корину в момент его наивысшего полета к достижению поставленной цели, цели всей жизни и творчества.
Вскоре в центральной печати – газете «Известия» – появились две статьи, подписанные псевдонимами «Нехудожник» и «Нелитератор», перечеркивающие творчество Павла Корина и шельмующие его политико-идеологическое положение. В первой из них говорилось, что «художник П. Корин, окруженный враждебными элементами и оградившийся от советской художественной общественности, работает над антисоветским произведением». В другой статье, сходной по стилю и, по-видимому, принадлежащей тому же автору, выдвигались еще более зловещие и грозные обвинения: «троцкистско-фашистская нечисть создала в мастерской художника Корина лабораторию мракобесия»46. П. Т. Корина вспоминала: «После этих публикаций стали избегать Павла Дмитриевича. Идем, например, по улице. Навстречу – близко знакомый человек. Не доходя до нас, он переходит на другую сторону улицы»47.
После подобных «публичных доносов», как мы знаем, в то время следовали меры полицейско-репрессивного характера. И они не заставили себя долго ждать (хотя и не оказались для Корина, к счастью, безысходно-трагическими).
Но прежде осложнения проявились с бытовой стороны. Корин получил огромный счет по оплате дома и мастерской, за которые прежде, как оказалось, плата автоматически вносилась по распоряжению А. М. Горького. К тому еще, как вспоминала Прасковья Тихоновна, «поднялся вопрос об этюдах для картины “Уходящая Русь”. За них заплачено, и выходит, что их надо сдать во “Всекохудожник”. Павел Дмитриевич надеялся продолжить работу над картиной, этюды эти могли ему еще понадобиться. Боялся, что если их возьмут, то могут и уничтожить. Он согласился вернуть деньги, чтобы оставить этюды за собой. “Продажа этюдов стала терзанием и ужасом моей жизни”, – записывает Павел Дмитриевич у себя в книжке. Он выплачивал эти деньги в течение двадцати лет. В дальнейшем, когда писал портреты, эскизы, пейзажи – все они шли за долги (подумать только!)»48.
В самом конце 1936 года коринскую мастерскую посетила государственная комиссия Комитета по делам искусств во главе с ее председателем Платоном Керженцевым. Эта комиссия нашла его творчество «неактуальным». Корин в разговоре назвал лучшего из конъюнктурщиков того времени Александра Герасимова («Ленин в Смольном», «Сталин и Ворошилов в Кремле» (так называемые «два вождя после дождя»), «Нарком Ворошилов на лыжной прогулке» и пр.) «царем халтуры». Всесильный официозный А. Герасимов (впоследствии многолетний президент Академии художеств) стал его злейшим врагом на всю жизнь. Это – плюс ко всему прочему («неактуальности») – сильно усугубляло его положение. На каких-то уровнях власти было принято решение выселить Корина из мастерской – в качестве первого шага в развязывании против него других репрессий. По-видимому, инициатива исходила из ведомства Ежова, сменившего Ягоду как начальника на Лубянке. Корину пришлось обратиться за защитой к А. Н. Толстому, в то время депутату Верховного Совета СССР. Тогда это возымело действие, но через некоторое время гонения и притеснения возобновились и продолжились.
1937-й – год страшный, как теперь всем известно. Судьба и жизнь Павла Корина висели на тонкой ниточке, готовой в любой момент оборваться. Все последующие два года (1937-й и 1938-й) он был на волосок от гибели. Между двойными дверями передней дома постоянно висел мешок со сменой белья и сухарями – на случай ареста[2].
Интересно, что последние этюды к «Уходящей Руси» были выполнены Кориным в 1936 и 1937 годах снова по принципу контраста. Оба красочные и, по утверждению искусствоведов, наиболее разработанные в живописном отношении.
Этюд 1936 года – «Архимандрит Никита». В миру отец Никита – Николай Николаевич Курочкин-Степанов (1889–1937): «один из продолжателей духовных традиций православного старчества в советское время, духовный наставник молодого поколения монахов последних тайных общин в Москве в 1930-е годы»50. Этот портрет завершал галерею образов старого, истого священства, не могущего смириться с оголтелым и тотальным богоборчеством. Отец Никита, «постриженник» Зосимовой пустыни, в советское время подвергался многократным арестам и ссылкам. А между ними служил в Высоко-Петровском монастыре, где привечал молодого послушника, затем иеромонаха отца Федора Богоявленского, был его духовником. И этот молодой инок, также изображенный Кориным, сменил своего «авву» на месте последнего служения – в Знаменском храме села Ивановское близ Волоколамска.
А в 1937 году, по-видимому, в том числе и для того, чтобы показать «властям предержащим», что он живописует не одних изгоев, париев официоза, Корин создает такой же, во весь рост и в полном облачении, образ митрополита Сергия (Страгородского) – официально приемлемую церковную фигуру, наверное, пытаясь таким образом «легализовать» и весь свой цикл. Как представляется, в начале замысла и осуществления своей картины Павел Дмитриевич включать в нее такую фигуру не предполагал.
Митрополит Сергий, ученый монах, до революции был ректором Санкт-Петербургской духовной академии, архиепископом Финляндским, председательствовал на собраниях Религиозно-философского общества в Петербурге, где участвовали многие из известных философов религиозного возрождения начала XX века (среди них В. В. Розанов, Д. С. Мережковский и др.). В 1910-е годы входил в состав Святейшего синода как председатель Предсоборного совещания, позднее председатель Миссионерского совета. После 1917 года многократно арестовывался и подвергался ссылке. И свою знаменитую «Декларацию» о лояльности новой власти написал в заключении у большевиков, возможно под пытками, найдя единственно возможный, как казалось, путь сохранения легальной Церковной организации, с тем чтобы не лишать православных возможности приобщения Святым Тайнам, совершения Евхаристии. Но в связи с тем, что в этом документе по отношению к богоборческим властям имелось выражение «ваши радости – наши радости» и пр., это повергло многих церковных людей – иерархов, священников и мирян – к несогласию, отпадению и так называемому «непоминанию» его имени как первоиерарха за литургией, что представляло их перед советскими властями как нелояльных и вело к административным последствиям, репрессиям.
На портрете Корина митрополит Сергий – через десять лет после своей «Декларации» – изображен благодушным и спокойным, без всякой экстатичности и внутреннего напряжения.
Павел Корин, безотносительно к живописным и психологическим особенностям персонажей, по воспоминаниям Прасковьи Тихоновны, так сказал тогда обо всем цикле: «Этюды мои стали как бы документами эпохи»51. Желание запечатлеть для истории прежде всего праведников, новомучеников подтверждает и факт написания портрета палехского священника, последнего перед закрытием Крестовоздвиженской церкви ее настоятеля – отца Иоанна, Ивана Степановича Рождественского, с крестом в вытянутой руке, просветленного видом. Этот священник был расстрелян в 1922 году, а портрет Корин написал почти через десять лет после этого, в 1931 году, по памяти, не внеся впоследствии этот образ ни в один из вариантов композиции, очевидно, написав его только с названной целью – отдать дань его памяти, запечатлеть для потомков. (Протоиерей Иоанн Рождественский причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских в 2000 году.)
Да и фигуры иного полюса добавляли к общему представлению об эпохе свою краску, делали объемной всю композицию, расширяя ее диапазон и звучание.
В 1937 году Корина не тронули, по-видимому, только вследствие того, что через Горького он был уже достаточно известен в «верхах», о нем знал Сталин (хотя о встречах с ним Корина в доме Горького, как, например, Леонида Леонова, которого тот гипнотизировал «тигриным» взглядом, нет сведений). И они, эти самые «верхи», надеялись на то, что его можно использовать, повернуть как художника в нужное им русло (что частично и произошло – со стороны Корина, конечно, вынужденно). Но это будет несколько позднее, а пока… тучи над ним отнюдь не рассеивались, а – напротив – сгущались.
10 сентября 1937 года Павел Дмитриевич записывает в своем дневнике: «Все мои вещи в Третьяковской галерее из экспозиции сняты. На днях сняли и портрет А. М. Горького. Дали бы мне люди в зрелом возрасте сделать то, что мне предназначено сделать!» А в конце этого же года, 31 декабря, следующая запись: «Я превратился опять в реставратора и преподавателя рисования. Мне 45 лет»52. (Корин оставался главным реставратором ГМИИ имени Пушкина и давал частные уроки рисования, живописи.)
В 1938 году кампания по изгнанию Павла Корина из дома и мастерской возобновилась. Он записывает: «В конце 1938 года меня решили выгнать из дома и мастерской. Я был вызван председательницей Фрунзенского райсовета А. И. Шилиной, и она мне объявила, что я в пятидневный срок буду из мастерской выселен. Я попросил у А. Н. Толстого помощи»53. К тому еще, по ходатайству М. В. Нестерова, за Корина тогда вступился и известный архитектор А. В. Щусев (создавший для великой княгини Елизаветы Федоровны Покровский храм Марфо-Мариинской обители, а для большевиков – мавзолей Ленина).
В присутствии Кориных А. Н. Толстой позвонил по телефону этой самой Шилиной, вел с ней, как вспоминала Прасковья Тихоновна, «очень серьезный громкий разговор, возбужденно говорил, что он как депутат этого не позволит сделать, употреблял крепкие русские слова. Говорил, что при нем за столом велись все дела Горького с Павлом Кориным относительно постройки дома. Отстоял, остались в доме, но сколько волнений!»54
В этом же году, летом, Корин с супругой отдыхал на Кавказе, в Гудаутах, на даче Голицыных, главу семьи которых – Владимира Михайловича, он вызволил из заключения, поручившись за него перед Г. Ягодой, когда тот был «в силе», во время сеансов его портретирования. Остались дневниковые записи В. М. Голицына о гудаутском житье-бытье с Кориными.
На вопрос о картине Павел Дмитриевич отвечал: «Такие громадные вещи всегда писались и пишутся с помощью общественности. Нужно полное спокойствие нервов, а его нет»55.
Ценные бытовые детали содержат эти воспоминания. Любопытно всё, начиная со дня приезда, ибо рельефно показывает черты натуры, личности художника.
Итак:
«18 июля. Приехали. По моему плану, – пишет В. М. Голицын, – который был послан в письме, они [Корины] после некоторых поисков, доехали благополучно. Провел их во флигель. Комната, приготовленная для них, им понравилась. Красота и величие гор поразили Павла Дмитриевича. Он был небрит и ужасно грязен с дороги. Перед бритьем долго смотрел на сильную седину в бороде и, шутя, говорил, что нужно бороду отпустить. После бритья все пошли на пляж купаться. (Море – 35 метров от дома.) Полезли в море. Прибой здоровый, балла на четыре. После купания пили чай с акациевым медом. Павел Дмитриевич выпил двенадцать стаканов. Немного отошел с дороги. Горы наши ему необычайно понравились – будет писать».
И на отдыхе художник-профессионал не мыслит себя без творчества.
«19 июля. Пошли выбирать место, откуда писать панораму. Павел Дмитриевич сказал, что он теперь не так детально вырисовывает, как на панораме Палеха. Главное – характер взять. Отношения. Наш первый план напоминает ему Северную Италию.
20 июля. Хочет написать Нестерову и Надежде Алексеевне Пешковой и нарисовать им свой “палаццо” с Прасковьей Тихоновной в дверях. Павел Дмитриевич любит в письмах делать рисунки.
21 июля. Вчера к вечеру он начал этюд гор. Ущелье Белой речки. Меня приглашает сесть рядом работать.
22 июля. Вчера вечером сели вместе писать горы. Он пишет прямо на плотной бумаге, итальянской, без грунтовки. Рисунок карандашом делает очень бегло. Иванов писал без грунтовки. Накануне было другое освещение, и он почти заново переписал начатое. Я стал тщательно вырисовывать свое. Павел Дмитриевич сказал, что не нужно так вырисовывать.
Горы дальние он пишет сразу вместе с небом. Пишет короткими точными ударами. Когда совсем стемнело, он разошелся, вдохновленный красотой. Жалко кончать.
С утра сегодня тучи и ветер зюйд-ост пять баллов. Собрались идти в Лыхны, но горы очень хорошо явились, и мы сели писать. Вскоре солнце и бриз победили тучи, и я сбежал от жары. Павел Дмитриевич остался сидеть, скорчившись на маленькой скамеечке, держа в руке зонт Прянишникова, а на коленях этюдник. Вообще на него не похоже, что он работает без соответствующего обеспечения удобствами. Он даже сказал, когда я это ему заметил, что не любит художников, которые обставляются. Море его не привлекает, а горы очень. Вечером много рассказывал про свои квартиры в дореволюционной Москве у разных бедняков. Вот горя и нужды перевидел!
23 июля. С утра горы очень хороши были. Сели писать. Я сделал тент на двоих. Павел Дмитриевич пишет медленно – кусочек с пол этой страницы (дневника) второй день. Сразу заканчивает. Изредка указывает мне: слишком сине, серее, светлее надо брать небо и горы.
24 июля. Встали в шесть часов. Любовались горами. Нужно на рассвете писать. Вчера Павел Дмитриевич писал долину реки Бакланки. Я указал ему на красивое облако справа над Новым Афоном. Он его сразу написал на том же этюде снизу (это его манера). Пригодится. Когда после работы мыл кисти, сказал мне, что у него, если этюд удается, настроение хорошее, удовлетворенное. Рассказывал, как он свои работы сжигал в молодости. Накопится ящик – сожжет. Куда с ними таскаться! А то в голодное время буржуйку топил этюдами. В Палехе на чердаке много пропало, племянники пожгли. Когда пора идти писать, Павел Дмитриевич всегда говорит: “Зовет к священной жертве Аполлон”. Палитра у него такая: белила цинковые, лимонная желтая, поль веронез (особенно любимая), кобальт, краплак, зеленый вермильон и кармин. Это для неба и гор. Еще охра для первых планов. С моими ребятами очень забавен. Ларюшку убеждает не реветь, есть чеснок после сладкого и держать зонт, Мишке поручил почесывать ему спину, когда он пишет. Шутил, что когда он разбогатеет, то будет писать с “рабами” – один обмахивает, другой спину чешет» 56.
Павел Дмитриевич, конечно, старался использовать этот отдых и как возможность хоть немного отойти от напряженности каждодневного своего состояния жизни дома, в Москве.
И далее, из дневника В. М. Голицына:
26 июля. <…> Работаем часов по пяти в день. После обеда сели писать пароход. Он его очень ловко и правильно схватил, хотя всякую технику ненавидит. Заметил на таком расстоянии, что грот-мачта черная. Про пароход всё меня спрашивал – так ли нарисовал. Я ни к чему не мог придраться. После обеда Павел Дмитриевич писал панораму гор. Я не писал – у соседей заболтался (глупо!). Вечером сидели на завалинке и говорили о Грюневальде и других немецких художниках. Павел Дмитриевич мне сказал, что мне писать с натуры больше нужно. Частичка правды попадает на рисунки. Сами увидите, насколько лучше работать будете. Природа поддерживает художника.
27 июля. Опять с утра писали горы. Длинный разговор о впечатлении, когда я ему указал, что горы он пишет выше, чем oни на самом деле видны. Ругал Альберта Бенуа, который меня поправлял когда-то и показывал, как с помощью стекла можно проверить.
28 июля. Сегодня мои именины и Мишкин день рождения. Павел Дмитриевич подарил мне вина и грозился на большом булыжнике футов на пятнадцать написать кипарисы, море и парус. Я же учу его лежать в воде на спине, а он уморительно тонет, растопырив ноги и руки. Вечером сели писать панораму гор. Павел Дмитриевич на длинной фанере кнопками укрепил еще лист, впритык к первому. Я поработал немного и бросил, так как мои горы были закрыты облаками. Стал делать мольберт. Пошел в лабаз попросить у Миды веревочку. Возвращаюсь. Павел Дмитриевич спрашивает меня с горечью: “Художник ли вы?” Вижу, правда, красота неописуемая. Небо зеленое, и синие облака на нем прекрасного рисунка, и еще большое оранжевое облако над хребтом Хипста. “Веронез”, – сказал Павел Дмитриевич. А у него – смотрю – скандал. Он перенес с этюдника ущелье Дзышры на фанерку длинную, но жидкую, рядом справа впритык прикнопил другой лист бумаги, на котором писал долину реки Бакланки. А теперь для хребта Хипсты, слева от Дзышры, налепил двумя кнопками еще лист. Oн весь не помещается да и фанерка узка – небо на воздухе. Порыв ветра сдул этот лист. Павел Дмитриевич позвал Прасковью Тихоновну лист держать. Еще подставил табуретку. Очень шаткое сооружение получилось, дрыгает и валится поминутно. А веронезовское освещение меняется. Павел Дмитриевич разнервничался. Палитру уронил. Ругается. Мишка прибежал, стал держать фанеру справа. Я принялся срочно три палки связывать, “мольберт” делать. Даю Павлу Дмитриевичу. Он сгоряча не так поставил. “Мольберт” упал. Тогда я стал держать фанерку и лист справа, Мишка слева, Прасковья Тихоновна – табуретку. Так, вчетвером и дописали этюд. Вот баня была!..
29 июля. Павел Дмитриевич меня похвалил, что отношения лучше брать стал – точнее. За долиной реки Бакланки высится гора Шапка Сафер-бея, красноватая, стройная, со снеговым полем. Павел Дмитриевич прозвал ее “Готическим собором” (мы тогда не знали, как ее зовут), потому что она напоминает ему собор в Орвьето. Oн сейчас в хорошем настроении – всё с моими ребятами дурачится. Стал ходить в одних трусах. Платок на голове. Загорел. Пузо полосами! На себя не похож.
30 июля <…> Утром лежали на солнце под зонтом. Очень хорошо сравнивал Павел Дмитриевич Александра Иванова с его современниками. Гора Шапка Сафер-бея. Там далеко на ней в полном одиночестве Александр Иванов приносит жертву Богу, а другие копошатся со своими житейскими делами внизу в Гудаутах, в долине. Хорошо это он сказал. Я не совсем точно передаю. (Конечно, Корин имел здесь в виду и себя, свое стремление творить «на воздусях». – А. Г.)









































