Читать книгу "Корин"
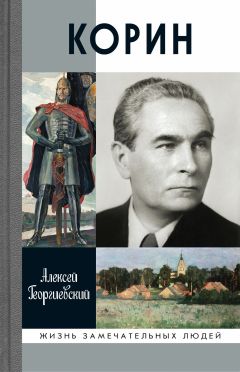
Автор книги: Алексей Георгиевский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Просматривал его подготовленные портреты митрополитов и монахов, которые приготовлены и готовились с 1925 по 1937 г., их несколько десятков. На вопрос, где он их доставал, Корин ответил, что “с этими монахами и схимниками я всегда, рискуя жизнью, поддерживал связь и знал, где они живут и прячутся, некоторые жили за городом, многие умерли в ссылке, некоторые, как митрополиты Сергий и Симеон, высылались по нескольку раз, но они тяготы переносили стойко ради веры, потому что они русские люди. Я и теперь знаю некоторых. Большая часть умерла”. Объясняя свои картины, с какой страстью он их писал и боялся, то ясно, что он – такой же фанатик, как и они. Он их называл фанатиками.
Работы выполнены по качеству не все одинаково, из всех этюдов к картине в художественном отношении удачных не более 3–5, все остальные, даже по его признанию, выполнены за несколько часов, так как это было связано с волнениями, и он удивляется, почему их так хвалили. Эти подготовительные работы не являются такими работами, какие были у наших мастеров Нестерова, Васнецова, Репина или Сурикова. В каждом этюде видны спешка и условные серо-зеленые краски. (Оставим эти рассуждения на совести майора, неквалифицированного искусствоведа в штатском. Со стороны же Павла Дмитриевича, по-видимому, было намеренное принижение значения своих этюдов, чтобы с ними «чего не вышло», ведь могли после публичного обозрения на выставке, высокой оценки специалистов и уничтожить как идеологически чуждые. – А. Г.)
Все эти монахи будут изображены на фоне икон Успенского собора. По словам Корина, по замыслу эта картина должна быть насыщена фанатизмом к религии.
Картина, которую Корин задумал писать, будет, по его мнению, отображением положения религии и верующих, которые переносили в СССР гонения и страдали в ссылках за свою веру.
Корин часто подчеркивает в разговоре, что эти люди прятались и страдали в ссылках. На переднем плане картины изображены человек с поднятым крестом, очень внушительно, также митрополиты, которые тоже прошли через все лишения, несли свой крест. Он об этом ясно не говорит, но мысль невольно появляется после его объяснения, кто эти верующие.
Майор госбезопасности (подпись)».
Итак, после всего процитированного, трудно ли ответить на вопрос, мог Корин приняться за «Реквием. Уходящую Русь» при сложившихся обстоятельствах? Ответ очевиден. Хорошо еще, что его не коснулась участь многих из персонажей задуманной им картины.
Публикатор донесений утверждает, что слежка за Кориным не прекращалась до 1961 года, когда «было утверждено заключение, в котором отмечалось, что данных о враждебной деятельности П. Корина не имеется и материалы, как “не представляющие интерес”, подлежат уничтожению»66. Однако, как мы видим, уничтожены они не были. Более того, даже после смерти мастера в открывшийся в его доме-мастерской музей в 1969 году был внедрен искусствовед-информатор с легендой «от Питирима», весьма далекий по духу от коринской «высоты» (потом, правда, несколько эволюционировавший). Так что в этом смысле «сталинщина» продолжилась «андроповщиной»: все сколь-нибудь заметные явления – будь то в искусстве или общественной жизни – всё советское время были «под колпаком», в тотальной тайной слежке у спецслужб.
Так же, как и – особенно – возродившаяся Церковь. Русская Православная Церковь выстояла. И это радовало Корина и вело к некоторой переакцентировке в «Реквиеме».
Определенное изменение подходов к композиции наметилось еще раньше, в 1937 году, после написания портрета патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). Но он, как уже было сказано, избранный впоследствии (в 1943 году) патриархом, был принят и признан не всеми церковными людьми. Поместный же собор, состоявшийся в феврале 1945 года (на церковной службе по окончании его заседаний и был запечатлен Павел Дмитриевич Корин на кинопленке молящимся, что нашло отражение в донесениях), избрал на Патриарший престол митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), которого признало уже подавляющее большинство членов Церкви, как в Отечестве, так и за его пределами.
Патриарх после низложения монархии, думается, воспринял функцию царя для народа – как «удерживающего» нацию в единстве, от греха, порока. И патриарх Алексий, епископ с 1913 года, столбовой дворянин из старинного рода псковских и московских бояр и воевод Симанских, подходил на эту роль («удерживающего») как никто другой, осуществив преемственную связь с дореволюционной Церковью.
Церковь земная и Церковь небесная – единое целое. Соединение и взаимодействие этих двух частей и есть та истинная симфония, к которой следует стремиться.
Тот сонм страстотерпцев, мучеников, которые обличили новую власть, ее преступления против народа, Церкви – небесные святые. Иерархи, пошедшие на компромисс с попущенной свыше богоборческой властью, понимали, что не могут оставить народ Божий без благодатного приобщения, причастия Святых Христовых Таин. Для этого видимая, земная часть Церкви должна функционировать, при этом ни на йоту не поступаясь ни в вероучении, ни в богослужении. Если бы среди православных пастырей не нашлось людей, достаточно дипломатичных, с природными дарованиями сдержанности, благочестия и мудрости, то произошла бы дьявольская подмена и в управлении земной Церкви оказались бы нечестивые обновленцы.
Понимая всё это, как и весь церковный народ, Павел Корин отнесся к новоизбранному патриарху Алексию I с большим почтением и сделал несколько зарисовок с него, наряду с другими иерархами, участвовавшими в Соборе, намереваясь поместить его образ в будущую композицию «Реквиема».
Непосредственное же знакомство художника с патриархом произошло в 1948 году. За год до этого из ближнего круга патриарха поступило к Павлу Дмитриевичу обращение-просьба оценить рисунки, живописные работы крестника Святейшего, увлекшегося изобразительным искусством. Работы эти не оказались того уровня и качества, чтобы Корин мог посоветовать профессионально заняться ему живописью. Однако, «если он желает улучшить свой рисунок “для себя”, то может приходить в Музей изобразительных искусств им. Пушкина, копировать произведения мировой скульптуры», а Корин понаблюдает за его занятиями в дни, когда сам бывает в музее, – таков был ответ мастера. Павел Дмитриевич со своей стороны выразил желание написать портрет патриарха. Он еще от Нестерова слышал о благородстве, особой «харизме богослужения» тогда еще митрополита Алексия Симанского, который во время недавней войны выказал высокий патриотизм, все 900 дней Ленинградской блокады оставался со своей изнемогающей паствой, нравственно ее вдохновляя и укрепляя. Подвергся реальной опасности жизни: в его кабинет в Никольском соборе залетел немецкий снаряд, обломки которого широко разлетелись, но Господь хранил будущего патриарха: он в этот момент вышел из кабинета. Патриарх Алексий, когда ему было высказано пожелание Павла Корина написать его портрет, не возражал. Он знал, что Корин ученик Нестерова, с которым был знаком лично, и согласился позировать, к тому же не раз говорил: «Нет у меня ни одного портрета, похожего на меня».
В один из воскресных дней 1948 года Павел Дмитриевич с супругой Прасковьей Тихоновной были приглашены в Московскую патриархию, где состоялось знакомство четы Кориных с патриархом Алексием. Радушный хозяин пригласил гостей к чаю. За чайным столом вспоминали замечательные московские храмы – памятники старины: «“Никола большой крест” на Ильинке, “Успения” на Маросейке и др., а также “Василия Кесарийского” на Тверской, где служил часто Патриарх, будучи в сане епископа, и пел хор под управлением регента-композитора П. Г. Чеснокова; “Большое Вознесение” у Никитских ворот, где венчался Александр Пушкин с Натальей Гончаровой, а последнее время служил известный московский протодьякон В. Д. Прокимнов. Вспоминали и выдающихся служителей Церкви: митрополита Трифона (Туркестанова), архидиакона К. В. Розова, протодьякона Холмогорова, который часто служил объектом художественного внимания Корина»67. Непосредственно позирование для портрета решили на некоторое время отложить: у патриарха не было времени в связи с подготовкой Всеправославного совещания, посвященного 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви. А Павел Дмитриевич должен был закончить портрет маршала Ф. И. Толбухина (тогда командующего Закавказским округом), для чего на два месяца отбыть в Тбилиси. Затем Корин получил большой заказ на оформление строившихся станций Московского метрополитена; этим были заняты 1950–1951 годы: станции «Комсомольская-кольцевая» и «Новослободская», а в 1952–1954 годах – «Смоленская» и «Арбатская». За украшение Московского метро П. Д. Корину была присуждена Сталинская премия (1952 год).
На все это было потрачено много сил. «Обмывать» премию приехали к нему палешане. Чтобы не прослыть на родине скупым, неотзывчивым человеком, Павлу Дмитриевичу пришлось «выставить» для них ящик водки и принимать участие в праздновании наравне с ними. Этот житейский факт, а подспудно неудовлетворенность от невозможности реализовать свой главный замысел привели к тому, что вскоре художник слег с инфарктом.
Поправлялся он медленно, и следующая встреча и попытка приступить к написанию портрета патриарха пришлись на январь 1957 года.
В заранее оговоренное время Павел Дмитриевич явился в Патриархию с художественными принадлежностями для предварительных этюдов. Патриарх вышел в Красный зал в полном облачении – куколе и мантии, как и было условлено. Однако позировать столько, сколько было необходимо по времени, не получилось. Патриарха часто отрывали срочные телефонные звонки, отлучался он и для приема сотрудников и посетителей по неотложным делам. В конце концов, после многочисленных отлучек, патриарх Алексий вернулся к художнику уже без упомянутых знаков патриаршего достоинства и с благожелательным участием предложил перенести позирование, а еще лучше – приехать к нему в загородную резиденцию в Переделкино, где никто не будет мешать.
Тем временем подошло лето. Патриарх уезжал в свою летнюю резиденцию при Успенском монастыре в Одессе, и побывавший в Переделкине Павел Дмитриевич получил приглашение – и принял его – приехать в Одессу. Но тут произошло непредвиденное: у него случился повторный инфаркт.
Больше попыток к написанию этого портрета не возобновлялось. Но по сохранившимся наброскам[5] Павел Дмитриевич, создавая в 1959 году эскиз к своей большой композиции, сразу перенес этот образ на холст, определив там место патриарха Алексия первым за служащими митрополитом Трифоном и архидиаконом Холмогоровым, – рядом со святителем Тихоном.
Общение двух выдающихся людей эпохи тем не менее не прекратилось. Когда в 1963 году открылась персональная выставка П. Д. Корина в Академии художеств, патриарх Алексий посетил ее в свой день Ангела, 25 февраля, и в книге отзывов оставил следующую запись:
«25 февраля 1963 г.
С большим интересом осмотрел замечательную выставку картин Павла Дмитриевича Корина. Незабываемое впечатление. От всей души желаю знаменитому художнику еще многих успехов на его художественном поприще.
Поистине – П. Дм. художник Милостию Божией.
Патриарх Алексий».
А по прибытии в Патриархию, под свежим впечатлением, написал личное письмо художнику, где дал развернутую характеристику его творчеству. Строки этого письма свидетельствуют о вкусе и тонкости восприятия Святейшего:
«Дорогой Павел Дмитриевич!
Мне было очень приятно посетить Вашу замечательную выставку картин. Мне, конечно, было хорошо известно, какой Вы замечательный, многообразный, яркий и плодовитый художник; но Ваша выставка меня поразила тем совершенно исключительным характером Ваших произведений, который свидетельствует о Вашем великом даровании Милостью Божией.
Все мне понравилось, все виды Ваших работ. Виден большой труд всей жизни, и внутреннее осияние, и то, что ни одно из жизненных впечатлений не прошло мимо.
Очень хорош Палех с его чудесной русской природой, ароматом Православной Русской старины. Пейзажи такие характерно русские, нежно-певучие, с простором лугов, ощущением шелеста травы с мелькающими головками простых луговых, но таких милых цветов, с кружевной каймой лесных опушек, уютным ансамблем деревянных строений с их чудесной простотой и сказочной нарядностью. Дома, в которых покойно и радостно от множества св. икон, тепло от лежанок, уютно от шипящего самовара… Все это не только уходящее, но уже ушедшее; но все так знакомое и понятное.
Хороши пейзажи Италии с их необыкновенными красками и архитектурой, пережившей века, но не утратившей своей значимости. Хороши копии великих мастеров Возрождения и нашего Иванова.
Замечательны интерьеры Успенского собора, – просто не оторвешься – так все тонко прочувствовано и проработано!
Дальше – многие образы нашей истории на фоне русской старины.
Портреты своеобразны своей какой-то проникновенной остротой.
И, наконец, – “Уходящая Русь”!
Это словно исходит от “св. Руси” Нестерова и является ея продолжением. Целая галерея людей, – большинство их – избравшие путь подвига и иночества, – вступающие в него, идущие по нему и его завершающие – и в нежной юности, и в сознательной зрелости, и у ветхих деньми – чувствуется сила их внутреннего устроения…
Вот мои краткие и несовершенные заметки по поводу посещения и осмотра Вашей выставки, дорогой Павел Дмитриевич. Еще раз скажу, что я вынес от посещения ея незабываемые впечатления.
Помоги Вам Господь и в дальнейшем так обильно приумножать талант, данный Вам Богом.
Сердечно уважающий Вас
П. Алексий.
25. II. 63»68.
Перед весьма ответственной, важной поездкой в США в 1965 году со своими картинами для выставки в Нью-Йорке художник счел необходимым получить благословение у первосвятителя, который тогда пребывал в Троице-Сергиевой лавре. А по завершении поездки, в декабре того же года, был приглашен с супругой в патриаршую резиденцию в Переделкине, где после воскресной литургии в домовом храме во имя Архистратига Михаила за общим трапезным столом на веранде патриаршего дома рассказывал о своих впечатлениях от поездки и выставки, оказавшейся очень удачной.
По кончине Павла Дмитриевича патриарх в том же домовом храме провел заупокойную литию по художнике, столь близком ему по духу.
В 1940—1950-е годы Корин работал над монументальными проектами для метро, создавал светские портреты, занимался реставрацией, преподавал живопись. (А, например, во второй половине 40-х годов ему пришлось давать частные уроки сыну Лаврентия Берии Серго, который женился на внучке Горького Марфе!) Для Корина в то время, когда действие «охранной» горьковской «грамоты» утратило силу, этот факт – объективно – способствовал выживанию в тяжелых условиях. Это с одной стороны. А с другой – можно отметить, что известное «ведомство» старалось использовать его как только возможно, во всех качествах. Но глубоко внутри себя держал он своей главной целью написание «Реквиема», с горечью осознавая всё отдалявшуюся такую возможность.
Только немного отойдя от первого инфаркта, придя домой после молитвы в Богоявленском соборе, Корин записал в свой скупой Дневник:
«19 апреля 1953.
<…> Елоховский патриарший собор <…>
Под пение размечтался о своей картине, о своих былых замыслах. Да, я мог бы написать картину, картину возвышенную – торжественную».
А в завершение года, после работы над витражами гастронома в высотном здании на площади Восстания (Кудринской):
«31 декабря 1953.
<…> С каким трудом мне приходится отвоевывать право на жизнь художника-человека!..»69
В конце 50-х годов – в так называемое «оттепельное» время, то есть время относительной либерализации, уже став академиком живописи, – он все-таки «прорвался» к своей картине – написанием обобщающего, значительного эскиза, который пометил 1935–1959 годами. Таким образом был очерчен временной диапазон работы непосредственно над композицией. Церковь, олицетворяющая у Корина Святую Русь, после многочисленных гонений, притеснений и репрессий священников, всё же выстояла. Поэтому в эскизе композиции 1959 года, в отличие от первоначальных эскизов с настроением Страстной седмицы, Корин усиливает пасхальное начало, вводя яркую цветовую гамму: это не только алый ковер, занимающий всю центральную нижнюю часть полотна, но даже и красный цвет мантии патриарха Сергия (хотя патриарший цвет ее должен быть зеленым). Приходит как аналогия, безотносительно к фигуре Сергия (Страгородского), исторический прецедент: если географическая карта Российской империи обозначалась до 1917 года зеленым цветом (также и на глобусах), то после революции и гражданской войны РСФСР и СССР обозначались красным. В народе говорили, что Россия окрасилась кровью. Было ли это в замысле художника или нет, но объективно такая аналогия приходит на ум – лишний раз характеризуя то страшное, в прямом смысле кровавое для Церкви (и для России) время.
На этом, оказавшемся итоговым эскизе изображен русский церковный люд, большинство из которого – репрессированные священники, те из них, кто выжил, испытав в 20–30-е годы XX века неимоверное давление со стороны большевистской власти, существовал как бы «под запретом» и в последующие советские десятилетия. Можно отметить и широкий спектр социально-сословных типов духовенства: от «сергианцев» до «непоминающих», от иерархов до рядовых монахов, а также светских персонажей: от простолюдинов и нищих до, например, княжны Голицыной. Все они исполнены предчувствием конца времен, предощущают скорый Страшный Суд и Воскресение. Недаром взгляд служащего митрополита Трифона обращен к фреске Страшного Суда, расположенной на западной стене Успенского собора, на образ Спасителя…
В галерее портретных образов каждый несет свою психологическую характеристику, чему способствует мастерское использование цвета, особенно черного, имеющего на коринских полотнах множество оттенков. Все они внушительны, даже нищие отнюдь не производят жалкое впечатление, а все вместе скорее походят на «воинство Христово».
Автор настоящей книги, крестник художника, можно сказать, вырос в коринском доме, вообще воспитывался в традиционном духе, однако – по времени – «в советском окружении», которое нельзя было игнорировать. В конце 50-х, начиная осознавать жизнь в большей мере, удивлялся и сожалел, что столько трудов крестный положил на грандиозную работу только «для себя», ибо был уверен, что эти коринские портреты «Реквиема» не выйдут за пределы мастерской. Это было к тому же время новых, «хрущевских», гонений на Церковь. Однако то, что произошло через четыре-пять лет, можно оценить как чудо: многие из этих этюдов оказались экспонированы на юбилейной (к 70-летию Павла Корина) выставке в Академии художеств. Но об этом подробный рассказ впереди. А в конце 40-х – 50-е годы о Корине среди художников, прежде всего следующих, более молодых поколений, не просто ходили слухи. Родился некий миф, конечно, связанный с «Реквиемом. Уходящей Русью»: как у истоков этого замысла стояли, помогая художнику, великая княгиня Елизавета Федоровна и затем – парадоксально! – Максим Горький, какие это необычные по исполнению этюды-портреты… Стали проситься в его мастерскую, посмотреть этюды. Так зачинался среди художников «суровый стиль», идущий, конечно, во многом от Корина, его «Руси», «Реквиема».
К тому же Павел Дмитриевич преподавал живопись в Суриковском институте. Один семестр в 1950 году (январь – июнь), после чего его «попросили» уйти из-за политической неблагонадежности по отношению к властям предержащим и веры в Бога. Но за этот семестр он оказался в фаворе у своих учеников. Один из них, в будущем известный художник Дмитрий Жилинский, вспоминал о том времени, оговариваясь, что еще до личного знакомства с Кориным слышал о «гигантском белом холсте, который будто бы больше “Явления Христа народу” А. Иванова», «о строгой затворнической жизни мастера»: «Корин для нас, студентов, был легендой»70. Мастерской в институте руководили В. Н. Яковлев и А. М. Грицай. «И вот однажды Яковлев приводит на занятия живописью П. Д. Корина. Я до этого момента Корина близко не видел. <…> В сопровождении В. Н. Яковлева и А. М. Грицая Павел Дмитриевич входит с палочкой, но твердой походкой. Здоровается, “окая”, лицо необыкновенно красивое, брови густые, нависшие, глаза голубые, внимательные, глубоко посаженные, нос прямой и – сдержанная застенчивая улыбка. Молча обошел, посмотрел работу каждого.
Василий Николаевич представляет нас, хвалит (“какие хорошие ребята!”), уговаривает согласиться преподавать. Павел Дмитриевич благодарит: “Спасибо. Подумаю, подумаю”. Обойдя всех, попрощался, уходит со всегда спешащим Василием Николаевичем. По совету А. М. Грицая догоняем Павла Дмитриевича в коридоре, горячо просим прийти к нам преподавать. Позже, уже из рассказов, узнаем, какое первое впечатление произвела наша мастерская: убогость обстановки, грязь в этюдниках, небрежно натянутые холсты, плохие кисти. Все это убожество вначале оттолкнуло его, и он уже хотел наотрез отказаться, но искренние просьбы и желание учиться у него сломили его сомнения.
Входя в класс, Павел Дмитриевич негромко здоровался и обходил всех, никого не пропуская, немногословно давал советы. Или касался кистью, после разрешения, в основном требуя четкой формы. Говорил: “Посмотрите, как в натуре любопытно”, с неизменной сдержанной улыбкой. Никогда не повышал голоса. Говорил о великих мастерах Греции, Возрождения и Руси, ставя выше всех А. Иванова. Первое посещение дома Корина, я думаю, для каждого – событие, вошедшее глубоко в память. Я не знаю другого дома, атмосфера которого так бы действовала, где мыслить и говорить хотелось о самом возвышенном и великом. Громадная мастерская с огромным натянутым белым холстом у стены, а на других – копии с А. Иванова, небольшие этюды, античные рельефы, бельведерский торс в углу и еще много античных скульптур. У стены против окна аккуратно составлены большие холсты, этюды к “Уходящей Руси”. Павел Дмитриевич всегда сам ставил их перед нами, студентами, не позволяя даже своему верному другу Прасковье Тихоновне помогать ему. Ставил и как бы извинялся перед нами, что вот, мол, не получалось так, как хотелось, в этом холсте – то, а в том – другое. Помню, обращаясь к одной нашей студентке, В. Самедовой, которую очень ценил за природный талант к живописи, сказал серьезно: “Вот вы, Ваджа, человек талантливый, у вас все само получается, а я добиваюсь великим трудом”.
После просмотра грандиозных этюдов осматриваем другие комнаты, увешанные великолепной сохранности чудесными иконами, от каждой из них с трудом отрываешь взгляд. Уникальная мебель, редкие книги по искусству и в первой комнате справа – граммофон, на который Павлом Дмитриевичем ставилась пластинка Шаляпина, любимого Кориным, как все великое. Кончалось все в столовой, за круглым столом пили чай, разливаемый Прасковьей Тихоновной. Велись разговоры на разные темы, но в основном о художниках, об искусстве. На стенах столовой поражали наше воображение копии акварелью с великих мастеров Возрождения: Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Тинторетто; необыкновенной законченности пейзажи Палеха, натюрморт с гвоздикой и иконой, любоваться которыми я не перестаю до сих пор.
Осенью 1950 года, после летнего перерыва, мы узнаём – Корин больше у нас живопись не ведет, ему предложили подать “по собственному желанию” заявление об освобождении от преподавания. Кому-то из высшего начальства было “виднее”, и большого мастера, так необходимого молодежи, который внушал личным примером бескомпромиссность и любовь к жизни, к великому искусству, – отстранили. Дружбу с Павлом Дмитриевичем мы, уже молодые художники, окончившие институт, поддерживали до последних дней его жизни, и всегда встреча с замечательным человеком и большим художником давала нам силы и энергию к разрешению больших творческих замыслов.
Договорившись по телефону о дне и часе посещения, мы, стараясь не опаздывать ни на минуту, собирались у дома Корина на Малой Пироговской и всегда с некоторым волнением нажимали на кнопку звонка, входили большой компанией, тщательно вытирая ноги (Прасковья Тихоновна сама натирала полы), входили в этот таинственный и прекрасный дом, музей, мастерскую. Каждый раз обходили все комнаты, увешенные иконами. Павел Дмитриевич сопровождал каждый раз, рассказывал что-нибудь новое о той или иной иконе, как она к нему попала, о ее живописи и содержании. В мастерской он иногда показывал холсты, над которыми работал в то время, и очень внимательно прислушивался к нашим суждениям. И, конечно, после обхода дома и мастерской все переходили в столовую к круглому столу. Много интересного было рассказано Павлом Дмитриевичем об Италии, где он написал Р. Гуттузо, и об Америке после большой выставки его работ в Нью-Йорке. Расспрашивал каждого, кто над чем работает, и стыдно было, если нечего было рассказать. А как он вдохновлял и поддерживал серьезные замыслы! Выставки, в том числе и молодежные, Павел Дмитриевич осматривал, не пропуская ни одной работы, стоял перед некоторыми подолгу, уважая труд художника. Увидев картину Г. Коржева “Влюбленные”, Павел Дмитриевич назвал ее замечательной, сделанной большим мастером. Похвалой, а иногда и серьезной критикой Корин помогал нам, молодым, выйти на большую трудную дорогу художника»71.
Жилинский также вспоминал, как он с несколькими приятелями-художниками (в 50-е годы) предложил Корину помочь в первоначальной прописи его огромного холста для «Реквиема. Уходящей Руси». Но Павел Дмитриевич отказался: «“Нет, уж я сам, сам. Вот, еще рука не дрожит, сам могу”, – и показывает руку, держа ее на весу»72.
Другой художник, того же поколения, что и Жилинский, – Павел Никонов, говоря о своем незабываемом первом посещении мастерской Корина, свидетельствовал: «Была мифологема, что Корину грозили, чуть не арестовывали, но его вытащил Горький. Говорили, что на Корина пытались воздействовать, чтобы отказался от замысла, а он спрятал всё, не отрекался. Вот такие мифы ходили. И самое главное – никто ничего не видел из “Руси уходящей”, но все думали – это что-то невероятное!» И ожидания оправдались: «Впечатление было сногсшибательное по остроте и активности. Это было неожиданно по качеству, ощущение чего-то абсолютно нового, острого, не менее злободневного и актуального, чем авангард, который казался уже прошедшим. И главное Корин утверждал, утверждал в каждом персонаже. Это была не просто скорбь по уходящему или, как у Нестерова, лирика… Нет, это было такое мощное, материальное утверждение права этой Руси на существование»73.
И еще, говоря о запечатленных на портретах цикла людях, Никонов замечает: «Ощущалось какое-то самоутверждение, духовное превосходство этих людей. Главными героями были несгибаемая внутренняя убежденность, дух и вера в то, что все эти люди состоялись. Состоявшаяся Русь – это было главным»74.
А привело молодого тогда художника к Корину следующее обстоятельство: дело было после разгрома Хрущевым абстракционистской выставки в Манеже, и «побитые» художники решили написать коллективное письмо руководству, чтобы объясниться и не подвергать себя впредь ограничению в своих «эстетических поисках». Их поддерживал в этом и, можно сказать, «настропалил» писатель левых убеждений Илья Эренбург, сам предложив текст письма. Нескольких сочувствующих из молодых они призвали поддержать их. И вот группа совсем не авангардистов (помимо Никонова, Ил. Голицын, Жилинский, Андронов), но настроенная «на свободу творчества» и явилась к мэтру, до него подписав текст у Шостаковича и Фаворского. Корин отказался подписывать (хотя считался среди них, как вспоминает Никонов, одним из главных борцов за «свободу творчества»), мотивируя следующим: «Ребята, не влезайте в это дело, не надо, это политика. Это не наше дело. Наше дело – творчество»75. Это многих из них тогда разочаровало, а потом Никонов понял, что Корин был прав: «…гражданская позиция художника не в том, что он подписал, а в его живописи. И в своих произведениях Павел Дмитриевич проявил себя как настоящий борец, защитник своего образа Руси»76.
Это всё правильно. Однако, думается, дело здесь в другом. Всё не так однозначно. Корин ставил свою подпись в дальнейшем на письмах и «по политическим мотивам». В частности, он подписал «Письмо 25 деятелей советской науки, литературы и искусства Л. И. Брежневу против реабилитации И. В. Сталина» (1966). Просто ему были чужды левацкие «загибы» таких, например, художников, как Эрнст Неизвестный, принявший на себя основной гнев Хрущева на выставке, да и других, более явных абстракционистов. Конечно, он был далек от такого тона и отношения, какие демонстрировал тогда Хрущев, но не подписал это письмо не из-за «политики», а по художественным своим убеждениям.
Известно, что во время заграничной поездки в 1932 году в парижском кафе «Ротонда» он встретился с инициатором, «закопёрщиком» того коллективного письма «в помощь» молодым «левым» художникам И. Эренбургом и не нашел с ним общего языка. Произошла следующая сцена:
«Корин начал с восторгом рассказывать ему о своем многомесячном путешествии по всей Италии и Парижу. Говорил о Микеланджело, о Рафаэле, о том, что его мечты осуществились: он увидел двух великих гигантов живописи и восхищение его беспредельно.
Эренбург сказал: “Вы восхищаетесь манерной живописью Рафаэля, а как вы относитесь к величайшему художнику, к пророку – мессии будущего – Пикассо?” (Тогда в Париже проходила его выставка. – А. Г.) Павел Дмитриевич прямо, не задумываясь, выпалил, что это не живопись и не искусство, а гниение живописи, труп смердящий искусства»77.
Позже, после американской поездки 1965 года, Корин несколько изменит свою оценку, увидев воочию «Гернику» Пикассо. Но общее его отношение к художественным выкрутасам XX века высказано в приведенных словах и изменению не подлежало. Всё то, из чего позднее произошли так называемые «актуализм», «концептуализм» и прочие по названию фиговые листки, прикрывающие зачастую творческую несостоятельность и художественное бессилие, характеризовалось им как шарлатанство (ныне не часто употребляемое понятие, а зря). Причем, помнится, в произношении Павел Дмитриевич, очень обаятельно перекатывая шарики «р» и «л» в этом слове, убедительно и ярко припечатывал: это же шарлатан! – говоря о том или другом «явлении», не могущем рассматриваться с его строго профессионального «верха» настоящим искусством78.
Из позднейших воспоминаний о Павле Корине любопытны свидетельства двух многолетних сотрудниц Третьяковской галереи, а в 50-е годы молодых девушек, студенток, делавших свои первые шаги в искусствознании. Их тогдашние впечатления о коринском цикле «Реквиема» оказались во многом сходны с моим детским. Это Мария Реформатская и Лидия Иовлева. Последняя, в частности, утверждает, что Корин, в ту пору «очень импозантный, моложавый, еще очень бодрый человек с удивительными синими глазами», «словно не терял надежды начать когда-нибудь работу над большой картиной. Хотя нам, тогда еще молодым, многим из нас во всяком случае, было ясно, что эта картина никогда не может быть написана. Чувствовалось, что с момента замысла прошло уже очень много времени, было впечатление, что вряд ли этот замысел будет вообще осуществлен и по идеологическим соображениям»79.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































