Текст книги "К истории русского футуризма. Воспоминания и документы"
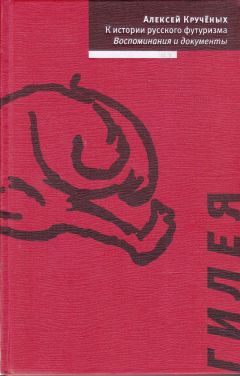
Автор книги: Алексей Крученых
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Слышу носом
– Я носом зорок, —
Слышу верхним чутьем:
Белые звери есть,
Будет добыча.
– Брат, чуешь?
Пахнет белым зверем.
Я зорок
А ну-ка, – гончие – братва!..26
Таким образом, от войны национальной, войны государств, Хлебников переходит к изображению классовой борьбы – войны гражданской. Ей посвящены лучшие вещи последнего периода его творчества: “Ладомир”, “Настоящее”, “Разин”, “Ночь перед Советами”, “Ночной обыск” и др.
Учение Хлебникова о войне, его “взоры на будущее” естественно переходят в научные утопии.
Для современного читателя интересны его мечты о городах будущего. То, что неясно для некоторых и сейчас, волновало Хлебникова еще в 1914 г.
Например, строительство новых домов:
На город смотрят сбоку, будут – сверху. Крыша станет главное27 (с развитием авиации. —А.К.).
Так Хлебников предвосхитил “фасады с воздуха”, которыми уже занимается современная архитектура.
В постройках будущего должно быть
чередование сгущенной природы камня с разреженной природой-воздухом28 (к озеленению городов. —А.К.).
И общие соображения:
Только немногие заметили, что вверить улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома – значит без войны вести жизнь одиночного заключения; мрачный быт внутри доходных домов очень мало отличается от быта одиночного заключения…29
(“Мы и дома. Мы и улицетворцы”)
Дальше его мечты о школах на площадях среди зелени, преподавание посредством кино и радио. (Надо не забывать, что все это писалось 10–15 лет тому назад!)
Небокниги
На площадях, около садов, где отдыхали рабочие или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь толпились толпы народа, и здесь творецкая община тенепечатью на тенекнигах сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьма. Новинки земного шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения родных своих родственников, приказы Советов.
(“Лебедия будущего”, 1915 г.)3°
Дальнейшее развитие этих мыслей мы находим в вещах 1921 г.:
Радио будущего – главное дерево сознания – откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество.
Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись “Осторожно”, ибо малейшая остановка работы радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания.
(‘Радио будущего”)31
Уже в наши дни и на наших глазах многие мечты Хлебникова осуществляются, утопия становится бытом.
Детство и юность будетлян
Ради ясности дальнейшего – кратко о себе. Делаю это не из “эгоцентризма”, а просто потому, что моя биография в известной степени восполняет воспоминания о моих товарищах по искусству.
В 1912-13 гг., когда мы бились плечо-о-плечо, никто из нас не думал об “истории футуризма” и мало интересовался прошлым, хотя бы даже своим. Но теперь, когда история футуризма уже вошла в общую историю литературы, становится необходимой и полная биография.
Деятелей каждого литературного направления – реалистов ли, символистов ли, романтиков и т. п. отбирают, в конечном счете, экономические и социальные факторы. Это они подготовляют ту или иную группу писателей или художников к ее роли в искусстве. Вот почему мы часто без труда наблюдаем сходство биографий участников подобных групп, хотя бы эти люди выросли далеко друг от друга, ничего не зная о своих будущих друзьях и даже не сознавая себя зачинателями определенного направления.
Завершается развитие одного цикла искусства, и настает пора развертываться другому. Будто раздается бой барабана… Гогены словно просыпаются, бросают филистерское сидение за служебным столом, забывают семью, едут на Таити… Появляются новые формы, раздаются хохот и улюлюканье староверов и т. д. и т. д. Известен путь новаторов. Он варьирует в подробностях у каждого, но в основном один. Нужды нет, что Гоген не отрезал уха, как Ван Гог, Сезанн не ездил на Таити и жил филистером в Арле, – все-таки их биографиям обще резкое расхождение с трафаретом. Это дает повод мещанам обвинять людей искусства в пороках, в преступлениях, наделять их всевозможными недостатками. Эти “недостатки” обычно сопутствуют рождению новых форм.
Вот так именно я смотрю на свою биографию. Я полагаю, что мои угловатости созвучны необычностям моих товарищей, но те и другие мастерски укрепляли позиции футуризма. Публика этого, конечно, не понимала. Когда она травит и улюлюкает новонаправленца – футуриста, символиста или кого хотите, – обывательщина не понимает, что футурист не может не делать того, что ее возмущает. Футурист борется за осуществление новых форм.
В этой борьбе находят отражение и борьба за существование, и классовая борьба, словом, здесь действуют основные исторические законы.
И понятно, что силы для такой борьбы подготовляются историческим процессом, а каждый отдельный участник борьбы – своим жизненным и литературным опытом.
И чем личность более упорна в своих отличиях и “недостатках”, чем крепче она их вырастила, тем более они пригодятся ей тогда, когда барабан забьет тревогу.
Итак – моя биография, думаю, имеет типовой, а не индивидуальный характер.
Родился я 9 февраля 1886 г. в бедной крестьянской семье, в одной из деревень под Херсоном1. До восьми лет – рос обыкновенным крестьянским мальчишкой, диким, необузданным, капризным и т. п. Помню такой случай из раннего детства. Моя тетя-монашка все обучала меня религиозным песням. Мне это, видимо, мало нравилось, и однажды я ей в упор выпалил:
– Чтоб вы, тетя, сдохли!
Вообразите ужас всей набожной семьи!..2
Когда мне было восемь лет, мои родные перебрались в Херсон, куда я и привез из деревни все, что развилось во мне на воле, без присмотра, в степи. В этом отношении в Херсоне мало что изменилось, хотя меня отдали в начальное училище и дальше – в высшее начальное. На улицах и в школе я был первым шалуном, крикуном, дерзилой, драчуном3. Учитель говорил, бывало, что меня недаром зовут “Крученых”.
Вдобавок ко всем шалостям я был крайне свободолюбив, не терпел стеснений, был наивно правдив – настоящий дикарь. Да, вот слово найдено!4
Вспомните, что в эпоху футуризма были вытянуты из-под спуда этнографических музеев не только так называемые “примитивы”, т. е. работы художников раннего средневековья, но и прямо произведения дикарей5. И постфутуристское новаторство дореволюционного времени все больше приближалось к первобытному искусству с его палочками, квадратиками, точечками и т. п. (супрематизм, беспредметничество). Но это к слову…
Итак, я не терпел школьного начальства, мало “пострадал” от воспитания, тем более, что дома о нем и не подозревали. В этом смысле я был беспризорным “гадким утенком”. Среда меня ненавидела и платила за мой дикий нрав не менее диким отношением. За мной установилась бедовая слава. Тогдашние шкрабы не могли меня “оценить” и понять. Однажды донос обвинил меня в таких поступках, от которых я сам содрогнулся. Меня исключили, не слушая оправданий. Пришлось заклейменному “членовредителю” докончить образование в другой школе.
Деревня и пыльные улицы Херсона потворствовали моему дикарству. Школа – все же немножко цивилизовала. Я страстно полюбил книги, зачитывался Гоголем, чуть ли не наизусть знал его “Вечера” и “Миргород”6. Мне было уже 14 лет. Был у нас ученик, изумительно передававший “Записки сумасшедшего”. На меня это чтение производило неотразимое впечатление. Дома я, потихоньку от всех, старался подражать своему товарищу. В пустой квартире раздавался дикий хохот помешанного…
Еще учеником – начал заглядывать в театр. Сезоном 1902 или 1903 гг. в Херсоне была труппа Мейерхольда. Особенно поразил меня “Потонувший колокол”7. Свежий, голодный глаз пожирал игру Мейерхольда, Кашеварова, Мунт, Снегирева и др. Впечатление было необычайное! Особенно от начала. Я видел перед собой не декорации, но дремучую темную зелень глухого леса. И на этом фоне развертывались захватывающие события: Генрих скатывался по оврагу в страшную пропасть, Раутенделейн чесала свои неестественно-длинные золотые волосы, кричал леший, хохотала и завывала старуха-ведьма; из замшелого колодца вырастала зеленая скользкая голова водяного (играл сам Мейерхольд).
Окончательно потрясли его дикие слова:
Кворакс!
Брекекекекс!..8
Запечатлелись и другие драмы, комедии и даже оперы.
На актеров Херсону везло. В городском театре в те же годы играла королевистая Алла Назимова, оглушал Орленев и трагедийствовал сутулый Россатов9.
В 1905-06 гг. выступал А. Закушняк, тогда еще молодой, темпераментный10. Он превосходно читал рассказы Чехова и модные тогда либеральные стихи. Его выступления имели шумный успех. Молодежь устраивала даже политические демонстрации.
Искусство театра покоряло, но не настолько, чтобы уйти в него. Да и как это сделать? В 15 лет такой переизбыток сил, что влечет слишком многое. А основным был протест против всего, связывающего порывистые и противоречивые устремления. Я был полон “вольнобесия”, искал выхода.
В нашей школе попадались и хорошие педагоги. Особенное влияние имели на меня “столичные” учителя рисования. Они знакомили [нас] с “декадентством”, говорили об импрессионистах. Случайно это было или, может быть, я ошибался, но мне казалось, что преподаватель русского языка был слабее: литература в этот период меня не так захватывала, как рисование. Вот почему, когда я окончил херсонскую школу и мне предстояло выбрать специальность, я решительно повернул к живописи. Меня тянуло к чему-нибудь огромному, красочному, а главное – свободному.
Понятно, что я ничего не знал, например, ни о технике, ни об инженерах, производство казалось мне скучным, мизерным. Строить однообразные дома для тогдашней жизни? Не дело! Была еще карьера чиновника. Но это мертвое рабское сословие, помешанное на взятке, кстати, высмеянное Гоголем, – меня просто пугало. А тогдашняя военслужба – чистое самоубийство!
Спорить со мною по поводу выбора профессии было, разумеется, напрасно, как и вообще спорить со мною: окончив курс высшей начальной, я был более нервен, неуживчив и неприличен, чем даже до школы11. У меня был уже свой идеал, который, я уверен, не могли бы свалить никакие силы в мире. “Свободный художник” – это звучало гордо, в этом было что-то магическое. Конечно, я мог бы попытаться поступить и в университет, но для этого требовалось долгое время на подготовку. Оттяжка, замедление, скучная зубрежка были не в моем характере и не в моих силах, а “свободные искусства” перетягивали все. Словом, вскоре я был в одесском художественном училище…12
Для будетлян в этой тяге к живописи было нечто “роковое”.
Поговорим о некоторых совпадениях. Как известно, почти все кубофутуристы были сперва художниками, но как это случилось? Значительно позже, в 1922-32 гг., когда я познакомился с биографиями и автобиографиями моих товарищей по футуризму, “созвучность” нашего прошлого выступила довольно отчетливо. У всех та же бесшабашность, сходство интересов, тяга к яркому, красочному.
Вот, к примеру, о раннем детстве Маяковского по рассказам его сестры:
Звери – любимые друзья Володи.
Любимыми играми были путешествия, с лазаньем по деревьям, заборам, переходы по бурным рекам, карабканье по скалам. Он любил крабов, которые расползались по всей квартире.
Одно из любимых занятий, придуманных Володей, было скатывание на камнях с горы к реке Ханис-Цхали. Он уговаривал сестру:
– Так хорошо лететь вниз, кругом все сыплется, трещит страшно, а все-таки остаешься целым.
С семи лет отец брал Володю с собой в объезд лесничества на лошади. Этого Володя ждал всегда с нетерпением13.
В своей автобиографии Маяковский рассказывает, как в пятилетием возрасте, начитавшись “Дон-Кихота”, он сделал деревянный меч и разил все окружающее14.
Там же Маяковский вспоминает, как восьмилетним мальчиком держал экзамен в гимназию:
Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве). Знал хорошо. Но священник спросил “что такое “око”?” Я ответил: “Три фунта” (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что “око” это “глаз” по-древнему церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошел и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм15.
905 г.
Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался) – на переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника Исидор, от радости вскочил босой на плиту – убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо!16
В поэме “Люблю” Маяковский рассказывает о своем детстве уже в стихах.
Я в меру любовью был одаренный
Но с детства
Людье
Трудами муштровано.
А я —
Убег на берег Риона
и шлялся,
ни черта не делая ровно.
Сердилась мама:
– Мальчишка паршивый!
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой
Играл с солдатьем под забором в “три листика”.
Без груза рубах
Без башмачного груза
Жарился в кутаисском зное
Вворачивал солнцу то спину
То пузо
Пока под ложечкой не заноет.17
И еще:
Меня ж из пятого вышибли класса
Пошли швырять в московские тюрьмы.18
Но кто не играл в детстве в разбойников. Потом обычно остепеняются. Не то было с Маяковским и почти с каждым из нас. Вышибленный Маяковский попал в революционное подполье, отсидел ы месяцев в Бутырках, а выйдя оттуда, мог найти только одну подходящую для себя легальную профессию “свободного художника”. Он поступил в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества. Было это за два года до его вступления на литературную арену19.
Подобные же куски из биографии другого “бесша-башца” В. Каменского.
12-летним мальчиком, – вспоминает он, – нашел на базаре “Стеньку Разина” – с ума спятил от восхищенья, задыхался от приливающих восторгов, во снах понизовую вольницу видел, и с той поры все наши детские игры сводились – подряд несколько лет – к тому, что ребята выбирали меня “атаманом Стенькой” и я со своей шайкой плавал на лодках, на бревнах по Каме. Мы лазили, бегали по крышам огромных лабазов, скрывались в ящиках, в бочках, мы рыли в горах пещеры, влезали на вершины елок, пихт, свистели в 4 пальца, стреляли из самодельных самострелок, налетали на пристань… добро делили в своих норах поровну.
Вообще с игрой в “Стеньку” было много работы, а польза та, что мы набрались здоровья, ловкости, смелости, энергии, силы.
Я перестал писать плаксивые стихи о сиротской доле. Почуял иное.
Например:
Эй, разбойнички, соколики залётные,
Не пора ли нам на битву выступать,
Не пора ли за горами
Свои ночки коротать.
Уж мы выросли отпетыми…
И т. д.
(В. Каменский. “Путь энтузиаста”.Изд. “Федерация”. М., 1931 г.)20
Как известно, дело не ограничилось мальчишеским увлечением. Вся жизнь В. Каменского проходит под мятежным знаком Разина и Пугачева.
В 1909 г. Вас. Каменский показывал свои стихи о Степане Разине В. Хлебникову.
Ушкуйничья кровь горяча и т. д.21
А став взрослым, В. Каменский написал и роман, и поэму, и пьесу о Степане Разине, пьесу и поэму о Пугачеве.
До вступления на литературное поприще В. Каменский тоже отдал дань живописи. Сам Каменский вспоминает:
Следует сказать, что за это время (осенью 1908 г. по выходе “Садка судей”) я работал по живописи в открывшейся студии Давида Бурлюка, сделал картину и повесил на выставке, как настоящий художник.
(“Путь энтузиаста”, стр. 107)22
Занятия живописью у Каменского были непродолжительными. Разбойничьи стихи и поэмы скоро вытеснили ее.
< Давид > Бурлюк вспоминает о своем детстве в автобиографии (изд<анной> в Нью-Йорке, 1924 г.).
Отец, охотящийся на волков…
Отец мой был зверски сильный человек!23
В своей поэме “Апофеоз Октября” Д. Бурлюк пишет, вспоминая Россию:
…поросли поля полынью.
А о себе вспоминает так:
Уверовал: я пролетарий.
Я футурист и сверхбосяк!
(Газета “Русский голос”, Нью-Йорк, 6 ноября 1927 г., и отдельной книгой – “Десятый Октябрь”, Нью-Йорк, 1928 г.)24
Шестнадцати лет Бурлюк поступил в Казанское художественное училище.
– Страсть моя к рисованию, – рассказывает он, – в это время достигла такого напряжения, что я не мог ни о чем другом думать, как только о живописи25.
Правда, биографии Д. Бурлюка до сих пор нет, а имеется только очень скупой автоконспект ее26.
Я вспоминаю, как еще в 1912 г. Бурлюк, подбивая меня на самые резкие выходки, сладострастно приговаривал:
– Главное – всадить нож в живот буржуа, да поглубже!
В начале 1914 г. Бурлюк вместе с Маяковским были (конечно!) исключены из школы живописи, ваяния и зодчества за публичные выступления.
О Бурлюках подробнее будет в дальнейших моих воспоминаниях.
Велимир Хлебников родился в селе Тундутове, Астраханской губ<ернии>.27 Раннее детство его прошло среди природы. Биография Хлебникова изобилует пробелами, но, очевидно, это был своеобразный и дикий ребенок, раз уже в 13 лет он жил так:
Уже тогда его тяготила обывательская обстановка. Он вынес из комнаты всю мебель, оставив кровать и стол, а на окна повесил рогожи. В такой обстановке он обычно жил повсюду и в дальнейшем.
(См. его биографию в 1 т. соч. Хлебникова.Изд. Писателей в Лнгр.)28
С 1908 г., т. е. с 23-летнего возраста, начинаются его постоянные скитания и переезды. В 1911 г. он исключен из Университета. В 1914 г. он порвал с “отчим домом” и блуждает один по всей России.
Первые поэмы Хлебникова (примерно до 1910 г.) посвящены дикой первобытной жизни.
Зверь с ревом гаркая
Лицо ожег
Гибель какая
Дыханье дикое
Глазами сверкая
Морда великая
(“И и Э”. Повесть каменного века)29
Первые вещи, подобные этой, В. Хлебников дал для печати в “Аполлон”, но, конечно, тонконогие эстеты и “Аполлоны с моноклем” не могли принять такую поэзию.
До вступления на литарену В. Хлебников тоже уделял много времени рисованию30.
Еще раз напоминаю:
Я вовсе не хочу сказать, что, не будь компании этих “диких людей”, не было бы и футуризма. Он, конечно, возник бы, независимо от нашего существования. Люди нашлись бы. Но, вероятно, и они имели бы биографию, наиболее подходящую для разрушителей старого официального академического искусства…
Раннего детства сотоварищей я касаюсь лишь мельком, дабы показать, что наши биографии во многом очень схожи.
О том, что происходило уже на моих глазах, в дальнейшем расскажу подробнее.
А сейчас вкратце об Одессе.
В одесском художественном училище я попал в мир богемы. Мне не к чему было привыкать в этом мире: я словно жил уже в нем сотни лет. Товарищи по школе – длинноволосые бедняки, мнившие себя “гениями”. Все, однако, зверски работали и по-настоящему любили искусство. Голодали, нуждались во всем, но верили в будущее и презирали [всех] не понимавших их необыкновенные работы. “Хохот толпы” – это была награда. Главное – верить в свое чувство. А оно было молодо, искренно и еще ничем не разочаровано. Прибавьте к этому окружающую обстановку: огромное, мятежное море, одесский порт, Ланжерон – место купаний, прогулок и встреч с “политическими” и даже “нелегальными”, знакомство с художественной литературой в библиотеке училища и, наконец – 1905 год, демонстрации, забастовки и героический “Броненосец Потемкин”. Одним словом, будь впечатлений даже в тысячу раз меньше, их достало бы, чтоб закружить хоть кого.
И все же результаты школьной учебы оказались неожиданными для молодого мечтателя.
С чем, собственно, я вошел в стены художественного училища? Это хорошо помню: я жаждал яркости, необъятных просторов, ощущал в себе подспудные силы, которые искали выхода.
Но когда я взял уголь, чтобы с фотографической точностью и аккуратностью оттушевывать бесконечных Венер и Аполлонов, завитки орнаментов и т. п. дребедень, то скоро набил оскомину. Необъятные горизонты закрылись передо мною, яркость зачахла, и моя свобода, увы, спряталась в карман. Я продолжал заниматься и даже окончил (в 1906 г. со званием “учителя рисования”!) школу, но машинально, как во сне31.
Едва же очнулся после школы, я совершенно иначе осознал живопись, как воссоздание и перестройку мира в яростных красках, широких обобщающих пятнах32. Как мало общего с этим огневым искусством было в рутинерских самодовлеющих и прилизанных деталях, которым поклонялись архаические изожрецы, но из которых не возникало ничего целого, осмысленного. Где уж тут творить новые миры, если даже серенькая обыденная действительность разбита вдребезги, в черепки тощих [дохлых] натюрмортов и греко-римских носов.
И не было плана, не было монтажного чертежа, чтобы из этого мусора восстановить, собрать хотя бы самую жалкую фотокопию жизни33.
Скорее всего, именно поэтому я в конце концов отказался от “чистой” живописи и ушел в шаржи. Зло деформировать натуру было так радостно после рабского и тупого следования ее случайным обрывкам.
В 1908-10 гг. я работал в московских юмористических журналах, рисовал шаржи на профессоров (вышла серия открыток) и наконец выпустил у себя на родине два литографированных альбома “Весь Херсон в карикатурах”34. Таким образом, я впервые выступил публично как нарушитель затхлого благочиния провинциальных кладбищ. Но разоблачение обезьяньей сути передоновских рож, воспроизведение их гнусных ужимок и дряблых гримас было ниже моих устремлений и не растраченных еще возможностей. Словом, я оставил кукрыниксово – Кукрыниксам35.
Совсем как далекий эпизод вспоминаются мои мимолетные живописные успехи. Помню, в Москве участвовал даже в солидных выставках рядом с Репиным, и профессорские “Русские ведомости” одобряли меня, порицая Илью Ефимовича36. Это многим бы вскружило голову, но мне уже тогда представлялось не больше чем занимательным курьезом.
Вспоминаю еще, что мои пейзажные этюды и портреты хорошо и без остатка продавались. В “Искре” (приложение к “Русскому Слову”) как-то в начале 1912 г. появилась даже целая страница снимков с моих работ, посвященных подмосковным Кузьминкам37. Словом, с материально-карьеристской стороны мне угрожала серьезная опасность погрязнуть в трясине модного украшательства мещанского бытия. Но ни деньги, ни хвалебные рецензии, ни сама живопись уже не устраивали меня. Я был более “широкой” натурой, чем это нужно для художника. Только видеть мир мне было мало. У меня был острый слух. Молчащая картина, косноязычная среда художников отнимали у меня половину мира, делали его однобоким. Мой мир должен был звучать, великие немые должны были заговорить.
Конечно, так же не могла бы удовлетворить меня и одна музыка: она обесцвечивает мир, как живопись – обеззвучивает. Искусство ищет синтеза, Скрябины мучаются над светомузыкальными поэмами. Нет, однако, более естественного, совершенного и многогранного средства выражения себя в искусстве, чем слово. Можно жить без живописи и музыки, но без слова – нет человека! От живописи я повернул к поэзии, как к последнему и неотъемлемому рычагу, которым можно сдвинуть землю38.
Это было неизбежно для меня при всех условиях. Но, несомненно, здесь сыграл важную роль и 1905 год. Разлив страстных речей, трибуны первой революции, ее многоголосые митинги впервые показали мне, еще мальчишески впечатлительному, могущество живого слова. Тогда я мечтал стать оратором, властелином гудящего человечьего моря39. Взрослому мне – неудовлетворенному живописцу – уже естественно было сознательно избрать своим уделом самую красочную – поэтическую, образную речь. А ораторские вожделения молодости заставили вынести поэзию на эстраду публичных литературных турниров, диспутов и будетлянских вечеров.
Здесь опять уместно отметить совпадение жизненных путей футуристов зачинателей.
Маяковский тоже начинал как подающий блестящие надежды рисовальщик. Еще профессора Школы живописи отметили его как старательного и способного. Теперь, когда вышел “весомый” альбом рисунков Маяковского40, в его талантливости как художника не может быть сомнения. И все же Маяковский усомнился и ушел от станка и масла к громовым раскатам, к “грозному оружию” своих железных строк. Причины? Они ясны из ряда высказываний самого Маяковского о Школе живописи и современной художественной жизни.
– Поступил в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества… Удивило: подражателей лелеют, самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых.
(Из автобиографии Маяковского)41
То же говорит он в одной из своих ранних статей (1914 г.):
– “Свободные художники” училища внимательно следили за добрым настроением училищных умов: лишили ученика всякой борющейся самостоятельности…
– Никто и никогда не писал картин, да и не мог писать. Писание картин – это знание о том, как расположить на холсте красочные пятна, какую дать этим пятнам форму и как их отнести друг к другу. Эта первая, главная наука, называющаяся композицией, – так вот классов, посвященных ей, нет совершенно…
– Копируют, копируют, без конца копируют натуру… Преподаватели вкладывают в еще беззубый рот ученику свой пережеванный вкус, совершенно не заботясь о том, не покажется ли после этого несчастному даже радостная весна коричневой и горькой, как пастернак42.
Как видно, московская школа мало отличалась от одесской!
Ясно, что, несмотря на большие способности к живописи, Маяковский в такой школе долго удержаться не мог. Его критическое отношение к школе, ее профессорам и современной живописи вообще, и его борьба за новое искусство, за творческую самостоятельность привели к исключению Маяковского (совместно с Бурлюком) из училища, якобы за нарушение ее “правил внутреннего распорядка”.
Впрочем, не “уйди” Маяковского начальство, он, несомненно, ушел бы из школы сам, так как к тому времени его взгляды на современную художественную жизнь мало отличались от его оценки брошенной школы. Вот что он писал тогда:
– Все именующие себя художниками занимаются очень полезными вещами, но к живописи это имеет отношение только подготовительное… Современности не выражают…43
– Характерно: выставки, десятки выставок; должно быть, на каждой улице обеих столиц трепались за год всехцветные флаги различнейших “передвижных”, “союзов”, “посмертных”, “независимых”, “валетов” и других несметных полков живописцев и… ни одной живописной радости, ни одной катастрофы, ничего захватывающего – ни разу не хотелось стать перед вещью надолго и, может быть любя, может быть негодуя, смотреть, смотреть и смотреть44.
Жадный глаз Маяковского остался без пищи.
– Живопись оказалась профессией без определенных занятий…45
Голос, этот самый совершенный инструмент, математически точно воспроизводящий мысль и образ, краски и звуки, и все многообразие бытия, – полонил Маяковского и был покорен им. Поэт подчеркивал это даже в названиях своих книг: “Маяковский для голоса”, “Во весь голос”. Все вещи Маяковского написаны для громкого чтения, для эстрады, для площади. Маяковский весь в голосе, и даже собственные живопись и рисунок он поставил на службу своей поэзии.
Еще скорее прошли мимо живописи В. Каменский46 и В. Хлебников.
А Б. Пастернак, как известно, дезертировал в поэзию из лабиринтов контрапункта и постных полуцерковных зал консерватории. Не смогла музыка надолго подчинить и С. Третьякова47.
Единственным, быть может, исключением является Д. Бурлюк – “всеобъемлющий работник”. Поэт, охочий до пения, он и до сих пор не оставил живописи48. Но об этом особо, в главе “Одноглазый сатир”.
А сейчас еще несколько слов о себе, чтобы покончить со своей вовсе не легкой юностью.
Осенью 1907 г. я впервые приехал в Москву. По инерции еще продолжал свои занятия живописью, хотя прибыл уже с некоторыми особыми “идеями”. Собирался, например, тогда бороться с расхищением “сексуальных фондов” (особенно среди молодежи), восставал против культа любви49. Следствие увлечения митинговым проповедничеством! Но старшие товарищи меня засмеяли…
Как известно, 1907-09 гг. – эпоха реакции. В культурных областях – мрак. В искусстве – расцвет мистикополовых проблем, розановщина и санинщина, стена отчаяния Л. Андреева, махровые фижмы и мушки Кузмина, навьи чары Сологуба. Все это под медлительные переплески бальмонтизма, под гнусавость мишурной лиры псевдо-аполлонов.
Философия – бездны, богоискательство и провинциальное ницшеанство.
Я было написал статьи “Право на преступление” (что-то достоевистое) и “Заблудившееся добро” (о Льве Толстом)50. Но… профессор-юрист, которому я дал на прочтение первую статью, заявил, что такого “права” быть не может, а редактор газеты ужаснулся при виде второй.
Пописывал изредка и стишки. О них знакомая курсистка даже отозвалась похвально: “Это так же остро, как у Бодлера”. Помню строчки:
Мой рот косноязычен,
Зубы желты,
Губа дрожит
И нос таит испуганность иголки…51
Словом, меня бросало во все стороны. На этом распутье меня выручил Д. Бурлюк. С ним я встретился в Москве еще в 1908 г. Мы много беседовали об искусстве, читали друг другу свои первые хромоногие литопыты. Бурлюк заражал неисчерпаемой жизнерадостностью, остротой, здоровым смехом. Прекрасное противоядие против жалобных стишков и захолустных теорий!..
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































