Текст книги "К истории русского футуризма. Воспоминания и документы"
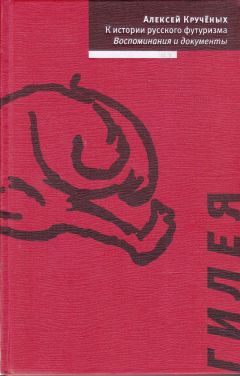
Автор книги: Алексей Крученых
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В пьесе особенно поразили слушателей песни Испуганного (на легких звуках) и Авиатора (из одних согласных) – пели опытные актеры. Публика требовала повторения, но актеры сробели и не вышли.
Хор похоронщиков, построенный на неожиданных срывах и диссонансах, шел под сплошной, могучий рев публики. Это был момент наибольшего “скандала” на наших спектаклях!
В “Победе” я исполнял “пролог”, написанный для оперы В. Хлебниковым.
Основная тема пьесы – защита техники, в частности – авиации. Победа техники над космическими силами и над биологизмом.
Солнце заколотим
в бетонный дом!
Эти и подобные строчки страшным басом ревели “будетлянские силачи”.
Вот что говорили о главной идее оперы ее оформители, мои соавторы – композитор Матюшин и художник Малевич сотруднику петербургской газеты “День”:
Смысл оперы – ниспровержение одной из больших художественных ценностей – солнца – в данном случае… Существуют в сознании людей определенные, установленные человеческой мыслью связи между ними.
Футуристы хотят освободиться от этой упорядоченности мира, от этих связей, мыслимых в нем. Мир они хотят превратить в хаос, установленные ценности разбивать в куски и из этих кусков творить новые ценности, делая новые обобщения, открывая новые неожиданные и невидимые связи. Вот и солнце – это бывшая ценность – их потому стесняет, и им хочется ее ниспровергнуть.
Процесс нисповержения солнца и является сюжетом оперы. Его должны выражать действующие лица оперы словами и звуками14.
Впечатление от оперы было настолько ошеломляющим, что, когда после “Победы” начали вызывать автора, главный администратор Фокин, воспользовавшись всеобщей суматохой, заявил публике из ложи:
– Его увезли в сумасшедший дом!
Все же я протискался сквозь кулисы, закивал и раскланялся. Тот же Фокин и его “опричники” шептали мне:
– Не выходите! Это провокация, публика устроит вам гадость!
Но я не послушался, гадости не было. Впереди рукоплещущих я увидал Илью Зданевича, художника Ле-Дантю15 и студенческую молодежь, – в ее среде были наши горячие поклонники.
Теперь покажем, как все это представлялось со стороны.
А.А. Мгебров в той же книге “Жизнь в театре” пишет:
Итак – о спектаклях футуристов. Это были “Трагедия” Владимира Маяковского и опера Крученого “Победа солнца”[10]10
Мгебров ошибается. Не Крученого, и не “Победа солнца”, а “Победа над солнцем”. Что это, в Древнем Египте происходило? Так перепутать имена и заглавия! А еще “Academia”! – А.К.
[Закрыть]. Я был на обоих. Наступил вечер второго спектакля.Теперь в воздухе висел настоящий скандал. Занавес взвился, и зритель очутился перед вторым из белого коленкора, на котором тремя разнообразными иероглифами изображался сам автор, композитор и художник. Раздался первый аккорд музыки, и второй занавес открылся надвое. Появился глашатай и трубадур – или я не знаю кто – с кровавыми руками, с большим папирусом. Он стал читать пролог.
– Довольно! – кричала публика.
– Скучно… уходите!
Пролог кончился. Раздались странно-воинственные окрики, и следующий занавес снова разодрался надвое. Публика захохотала. Но со сцены зазвучал эффектный и красивый вызов. С высоты спустился картон, который был весь проникнут воинственными красками; на нем, как живые, были нарисованы две воинственные фигуры: два рыцаря. Все это в кроваво-красном цвете. Вызов был брошен. Теперь началось действие. Самые разнообразные маски приходили и уходили. Менялись задники и менялись настроения. Звучали рожки, гремели выстрелы. Среди действующих картонных и коленкоровых фигур я различил петуха в символическом петушином костюме.
Тут уже окончательно никто ничего не понял, но недоумения было много. Были споры, крики, возбуждение. Вызов был брошен, борьба началась. Кого же с кем? Неведомо. Где и зачем? Скажет будущее. Быть может, на смену нынешним футуристам придут иные, более талантливые, более яркие и сильные. Будут ли это футуристы или другие – не все ли равно!.. Но эти наши, теперешние, все же что-то почувствовали; они были более чутки, чем мы; они не постыдились, не убоялись бросить себя на растерзание грубой, дикой, варварской толпе во имя овладевшего ими творчества. Вот их заслуга, вот их ценность в настоящем.
Мои заметки о спектаклях футуристов я окончил такими словами, обращенными к ним:
“Будьте мудрыми и сильными. Сохраните себя до конца дней своих теми, кем вы выступили сегодня перед нами. Да не смутит вас наш грубый смех, и да не увлечет вас в вашем шествии вместо искреннего искания духа – дешевая популярность и поза. Люди рано или поздно оценят вас как подлинных пророков нашего кошмарного и все же огромного времени, неведомо к чему ведущего. Добрый путь!”16
Если в те дни люди искусства почувствовали в футуризме какое-то сильное и новое дуновение и только не могли еще себе ясно представить, с кем, против кого и чего шла борьба, то продажная желтая пресса твердо продолжала свое дело. Как и после трагедии Маяковского, посыпались всевозможные издевательства, улюлюканье, и даже в большей степени. А чаще это было уже не руготней или неким подобием критики, а просто доносом.
“Петербургская газета” от 8 декабря 1913 г. (№ 337) поместила интервью со знаменитым в свое время артистом К.А. Варламовым. “Дядя Костя” – так называли его в то время – был совершенно напуган словом “футурист” и, хотя не был на спектаклях, однако дал длиннейшую “беседу”, в которой открещивался от нас в таких выражениях:
Судя по тому, что рассказывают о спектакле, – это сумасшедшие, и не обыкновенные сумасшедшие, а очень наглые, показывающие чуть ли не язык публике. Что мне за интерес смотреть таких выродков человеческого рода? – И т. д. и т. д.
Некоторые газеты, захлебываясь от бешенства, визжали, что футуристы ловко выманивают деньги у публики, дурача и мороча доверчивых. Что нажива – единственная забота футуристов.
Л. Жевержеев, бывший председатель “Союза молодежи”, прекрасно знавший, что от спектаклей союз получил одни “неприятности” и дефицит, вполне справедливо отмечает (“Стройка”, № и, 1931 г.):
Разумеется, нам и в голову не приходило рассматривать это предприятие с коммерческой точки зрения. Мы хотели дать оплеуху общественному мнению и добились своего17.
Мы же, авторы, убедились, что:
1) Публика, уже способная слушать наши доклады и стихи, еще слабо воспринимала вещи без сопроводительного объяснения.
2) Публики этой было еще мало, чтобы изо дня в день наполнять большие театральные залы.
3) Зная, что будетлянский театр, идущий вразрез с обычными развлекательными зрелищами, не может быть воспринят сразу, мы старались, по возможности, подойти вплотную к публике и убедить ее, т. е. дали первые опыты публицистического театра, правда, еще в самой зачаточной форме.
Актеры, ведшие спектакль, не только разыгрывали перед зрителем свои роли, но и обращались к нему непосредственно, как оратор с трибуны или конферансье (Маяковский, исполнявший такую роль, был даже, в отличие от остальных актеров, без грима и в собственном костюме)18. В оперу был введен пролог, построенный как вступительное слово автора. Но конферансье, например, говорил теми же стихами, что и остальные актеры. А пролог был так же мало понятен широкой публике, как и сама опера. Словом, такими средствами “объяснить” спектакль, довести его до широкого зрителя, было трудно, и сил у нас на это еще не хватило19.
О П. Филонове
Думаю, что именно здесь будет кстати уделить несколько особых слов Павлу Филонову, одному из художников, писавших декорации для трагедии В. Маяковского. В жизни Филонова, как в фокусе, отразился тогдашний быт новаторов искусства.
Филонов – из рода великанов – ростом и сложением как Маяковский. Весь ушел в живопись. Чтобы не отвлекаться и не размениваться на халтуру, он завел еще в 1910-13 гг. строжайший режим. Получая от родственников 30 руб. в месяц, Филонов на них снимал комнату, жил и еще урывал на холсты и краски. А жил он так:
– Вот уже два года я питаюсь одним черным хлебом и чаем с клюквенным соком. И ничего, живу, здоров, видите, – даже румяный. Но только чувствую, что в голове у меня что-то ссыхается. Если бы мне дали жирного мяса вволю, – я ел бы без конца. И еще хочется вина – выпил бы ведро!
– …Я обошел всю Европу пешком: денег не было – зарабатывал по дороге как чернорабочий. Там тоже кормили хлебом, но бывали еще сыр, вино, а главное – фруктов сколько хочешь. Ими-то я и питался…
– …Был я еще в Иерусалиме, тоже голодал, спал на мраморных плитах церковной паперти, – за всю ночь я никак не мог согреть их…
Так мне рассказывал о своей жизни сам Филонов.
Лето 1914 г. я жил под Питером, на даче в Шувалове. Там же жил Филонов.
Однажды у меня было деловое свидание с ним и с М. Матюшиным. Собрались на моей квартире в обеденное время. Угощаю всех. Филонов грозно курит трубку и не прикасается к дымящимся кушаниям.
– Почему вы не едите?
– А зачем мне есть? Этим я все равно на год не наемся, а только собьюсь с режима!
Так и не стал есть! Стыл суп, поджаренные в масле и сухарях, бесцельно румянились рыбки…
Работал Филонов так: когда, например, начал писать декорации для трагедии Маяковского (два задника), то засел, как в крепость, в специальную декоративную мастерскую, не выходил оттуда двое суток, не спал, ничего не ел, а только курил трубку.
В сущности, писал он не декорации, а две огромные, во всю величину сцены, виртуозно и тщательно сделанные картины. Особенно мне запомнилась одна: тревожный, яркий городской порт с многочисленными тщательно написанными лодками, людьми на берегу и дальше – сотней городских зданий, из которых каждое было выписано до последнего окошка1.
Другой декоратор – Иосиф Школьник2, писавший для пьесы Маяковского в той же мастерской, в помещении рядом с Филоновым, задумал было вступить с тем в соревнование, но после первой же ночи заснул под утро на собственной свеженаписанной декорации, а забытая керосиновая лампа коптила возле него вовсю.
Филонов ничего не замечал! Окончив работу, он вышел на улицу и, встретя кого-то в дверях, спросил:
– Скажите, что сейчас – день или ночь? Я ничего не соображаю.
Филонов всегда работал рьяно и усидчиво.
Помню, летом 1914 г. я как-то зашел к нему “на дачу” – большой чердак. Там, среди пауков и пыли он жил и работал. Окном служила чердачная дверь. На мольберте стояло большое полотно – почти законченная картина “Семейство плотника”3. Старик с крайне напряженным взглядом, с резкими морщинами, и миловидная, яйцевидноголовая молодая женщина с ребенком на руках. В ребенке поражала необыкновенно выгнутая ручонка. Казалось – вывихнута, а между тем как будто и совсем нормальна4. (Писал все это Филонов в натуральную величину, но без натуры.)
Больше всего заинтересовал меня на первом плане крупный петух больше натуральной величины, горевший всеми цветами зеленоватой радуги.
Я загляделся.
Зайдя на другой день к Филонову и взглянув на эту же картину, я был поражен: зелено-радужный петух исчез, а вместо него – весь синий, но такой же красочный, торжественный, выписанный до последнего перышка.
Я был поражен.
Захожу дня через три – петух однообразно-медно-красный. Он был уже тусклее, грязнее.
Я обомлел.
– Что вы делаете? – обращаюсь к Филонову. – Ведь первый петух составил бы гордость и славу другого художника, например Сомова!5 Зачем вы погубили двух петухов? Можно было писать их каждый раз на новых холстах, тогда сохранились бы замечательные произведения!
Филонов, помолчав, кратко ответил:
– Да… каждая моя картина – кладбище, где погребено много картин! Да и холста не хватит…
Я был убит.
Филонов вообще – малоразговорчив, замкнут, чрезвычайно горд и нетерпелив (этим очень напоминал В. Хлебникова). К тем, чьи вещи ему не нравились, он относился крайне враждебно, – говоря об их работах, резко отчеканивал:
– Это я начисто отрицаю!6
Всякую половинчатость он презирал. Жил уединенно, однако очень сдружился с В. Хлебниковым. Помню, Филонов писал портрет “Велимира Грозного”, сделав ему на высоком лбу сильно выдающуюся, набухшую, как бы напряженную мыслью жилу.
Судьба этого портрета мне, к сожалению, неизвестна7.
В те же годы8 Филонов сделал несколько иллюстраций для печатавшейся тогда книги В. Хлебникова “Изборник”9.
Это удивительные рисунки, графические шедевры, но самое интересное в них – полное совпадение – тематическое и техническое – с произведениями и даже рисунками самого В. Хлебникова, что можно видеть из автографов последнего, опубликованных в “Литературной газете” от 29 июня 1932 г. Так же сходны с набросками В. Хлебникова и рисунки Филонова в его собственной книге: “Пропевень о проросли мировой” (Пг., 1914 г.)10.
Особенно характерна в этом отношении сцена перед стр. 9.
В лёте и прыге распластались чудовищные псы, все в черных и тревожных пятнах-кляксах. Рядом – охотник – “пещерный человек” – со злым, суженным глазом, короткоствольным ружьем (прототип обреза). Упругость линий и четкость как бы случайных пятен, доведенные до предела.
Остальные рисунки этой книги сделаны в обычной его манере (соединение Пикассо со старой русской иконой, но все это напряжено до судорог).
Рисунки настолько своеобразны, что послужили материалом для книги современного беллетриста. В своей повести “Художник неизвестен” В. Каверин так говорит о Филонове, бессознательно нащупывая пути к “одноглазию” Бурлюка:
Если нажать пальцем на яблоко глаза, – раздвоится все, что он видит перед собой, и колеблющийся двойник отойдет вниз, напоминая детство, когда сомнение в неоспоримой реальности мира уводило мысль в геометрическую сущность вещей.
Нажмите – и рисунки Филонова, на которых вы видите лица, пересеченные плоскостью, и одна часть темнее и меньше другой, а глаз, с высоко взлетевшей бровью, смотрит куда-то в угол, откуда его изгнала тушь, станут ясны для вас.
Таким наутро представился мне вечер в ТУМ’е. Каждое слово и движение как бы прятались за собственный двойник, который я видел сдвинутым зрением, сдвинутым еще неизвестными мне самому страницами этой книги (стр. 55)11.
Текст книги “Пропевень о проросли мировой” написан самим Филоновым. Эта драматизированная “Песнь о Ваньке Ключнике” и “Пропевень про красивую преставленницу”. Написаны они ритмованной сдвиговой прозой (в духе рисунков автора) и сильно напоминают раннюю прозу В. Хлебникова.
Вот несколько строк из этой книги:
в кровь переливает струями гостя и бредит ложномясом…
евым едом въели опинается медым ясом…
Утопает молчалив утопатель…
Промозжит меч… полудитя рукопугое…
(стр. 15–17)12
Вообще, мрачного в тогдашних произведениях и в тогдашней жизни Филонова – хоть отбавляй.
Особенно запомнился мне такой случай. Филонов, долго молчавший, вдруг очнулся и стал говорить мне, будто рассуждая сам с собой:
– Вот видите, как я работаю. Не отвлекаясь в стороны, себя не жалея. От всегдашнего сильного напряжения воли я наполовину сжевал свои зубы.
Я вспомнил строку из его книги:
А зубы съедены стройные13.
Пауза. Филонов продолжал:
– Но часто меня пугает такая мысль: “а может, это все зря? Может, где-нибудь в глубине России сидит человек с еще более крепкими, дубовыми костями черепа и уже опередил меня? И все, что я делаю, – не нужно?!”
Я успокаивал его, ручался, что другого такого не сыщется. Но, видно, предчувствия не обманули Филонова: время было против него. Филонов – неприступная крепость – “в лоб” ее взять было невозможно. Но новейшая стратегия знает иные приемы. Крепостей не берут, возле них оставляют заслон и обходят их. Так случилось с Филоновым. В наше время его – крепость станковизма – обошли. Его заслонили плакатами, фотомонтажем, конструкциями, и Филонова не видно и не слышно.
После войны14 я не встречался с Филоновым и мало знаю о его жизни и о его работах, но они мне рисуются именно таким образом: в его лице погибает необычайный и незаменимый мастер живописного эксперимента15.
Правда, я знаю, что в Ленинграде есть школа Филонова, что его среди живописцев очень ценят, но все это в довольно узком кругу16.
Думаю, что только невысоким общим уровнем нашей живописной культуры можно объяснить неумение использовать такую огромную техническую силу, как Филонов. А между тем еще в дореволюционное время загнанный в подполье и естественно развивший там некоторые черты недоверия, отрешенности от жизни, самодовлеющего мастерства, Филонов после Октября пытался выйти на большую живописную дорогу. Он тянулся к современной тематике (его большое полотно “Мировая революция” для Петросовета, фрески его школы “Гибель капитализма” для Дома печати в Ленинграде, портреты революционных деятелей, костюмы для “Ревизора” и пр.)17. Он тянулся к декоративным работам, к фрескам, к плакату, но поддержки со стороны художественных кругов не встретил. Может быть, здесь виновата отчасти всегдашняя непреклонность, “негибкость” Филонова, требующая особенно чуткого и внимательного отношения, в то время как все складывалось, как нарочно, весьма для него неблагополучно.
В 1931 г. в “Русском музее” (Ленинград) должна была открыться выставка работ Филонова. (В течение последних 3–4 лет это уже не первая попытка!18) Были собраны почти все его работы, вплоть до конфектных этикеток, – около 300 названий! Две залы. Но тут долгая бюрократическая канитель – и выставка Филонова не была открыта, не была вынесена на суд советского зрителя!
Вот еще последняя злостная деталь:
В 1931 г., встретившись с Ю. Тыняновым, я разговорился с ним о его последних работах. Тынянов признался:
– Меня сейчас очень интересует вопрос о фикциях. Их жизнь, судьба, отношение к действительности.
Мы обсуждали с Тыняновым его удивительную повесть “Подпоручик Киже” о фиктивной жизни, забивающей подлинную, и я заметил:
– Судьба вашей книги – тоже судьба этой описки, фикции.
– Как так?
– Да вот возьмем такую сторону ее (литературной части я сознательно не коснулся) – рисунки в вашей книге сделаны, очевидно, учеником Филонова?
– Да.
– И учеником не из самых блестящих. Вот видите: подлинный Филонов пребывает в неизвестности, ему не дают иллюстрировать (или он сам не хочет?), а ученик его, очень бледный отсвет, живет и даже как самая настоящая фикция пытается заменить подлинник!19
Кажется, Ю. Тынянов вместе со мной подивился странной судьбе Филонова, этого крупнейшего ультрасовременного живописца20.
Сатир одноглазый
(о Д. Бурлюке)
Давид Бурлюк – фигура сложная. Большой, бурный Бурлюк врывается в мир и утверждается в нем своей физической полновесностью. Он широк и жаден. Ему все надо узнать, все захватить, все слопать.
Каждый молод молод молод
Животе чертовский голод…
Все что встретим на пути
Может пищу нам идти.1
Он хочет все оплодотворить. Ему нравится все набухшее, творчески чреватое.
Мне нравится беременный мужчина…
Мне нравится беременная башня
В ней так много живых солдат.
И вешняя брюхатая пашня,
Из коей листики зеленые торчат.2
Это голод неутолимый, постоянный, неразборчивый. Жадность его требует красок, и он разрисовывает себе лицо, надевает золотой жилет, а позднее, в 1918 г., – разрисовывает фасады домов, развешивает на них свои картины3. Когда Бурлюку не хватает пищи или вещей, он готов их выдумать сам. Он делает это величественно и наивно, как делают дети, еще неискушенные в масштабах нового для них мира и создающие свою фантастическую реальность.
Несмотря на вполне сложившийся характер с резким устремлением к новаторству, к будетлянству, несмотря на осторожность во многих делах, а порою даже хитрость, – Бурлюк так и остался большим шестипудовым ребенком. Эта детскость, закрепленная недостатком зрения, все время особым образом настраивала его поэзию. Своеобразная фантастичность, свойственная слепоте и детству, была основным направлением, лейтмотивом в стихах Бурлюка.
Попробуйте, читатель, день-другой пожить с одним только глазом. Закройте его хотя бы повязкой. Тогда половина мира станет для вас теневой. Вам будет казаться, что там что-то неладно. Предметы, со стороны пустой глазной орбиты неясно различимые, покажутся угрожающими и неспокойными. Вы будете ждать нападения, начнете озираться, все станет для вас подозрительным, неустойчивым. Мир окажется сдвинутым – настоящая футур-картина.
Близкое следствие слепоты – преувеличенная осторожность, недоверие. Обе эти особенности жили в Бурлюке и отразились в его стихах. Он не верит даже мирнобе-гущей реке:
Желтеет хитрая вода4.
Он полагает, что глазомер – ненадежная вещь. Нужны точность, линейка и циркуль:
На глаз работать не годится.
(“Аршин гробовщика”)5
Житейская сверхпредусмотрительность Бурлюка однажды поразила меня. Как-то я и Бурлюк шли по городскому саду в Херсоне. Дело было вечером: Бурлюк вдруг поднял камень и попросил меня сделать то же.
– Зачем это?
– Возьмите, возьмите. Пригодится! – ответил Бурлюк. – Для хулиганов!
Я улыбнулся: житель Херсона, я никогда не слыхал о хулиганах в этом саду.
Если бы я был приверженцем биографического метода в искусстве, то весь футуризм Д. Бурлюка мог бы вывести из его одноглазия.
Я этого делать не буду. Все же надо указать, что некоторые своеобразные черты одноглазого Бурлюка резко отразились в его творчестве.
Бурлюк замечает преимущественно сдвиги и катастрофы:
Поезд на закруглены‰
О, загляденье,
Ложится на бок
Вагонов жабок6.
Но дальше грозней. Вот надвигается гильотина осени:
Серые дни
Осенний насос
Мы одни,
Отпадает нос.
Я хром.
Серые дни,
Увяданье крас.
Мы одни,
Вытекает глаз…7
И эта мрачная природа населена жабами, разлагающимися гадами, трупами. Он замечает убийства и убийц. В стихотворении “Редюит срамников”, озаглавленном впоследствии “Крикоссора”, он пишет о ночном сборище каких-то темных личностей. В развалинах старой часовни они “сошлись обсудить грабежей дележи”. “Гнев-слепец” (сравни “кривые палачи”) довел их до ссоры:
Злобоссорой обострили спор
Где сошлись говорить меж собой
Взгляд-предатель, кинжал и топор8.
История представляется Бурлюку ракетообразной, взрывной; жизнь – “бешеной кошкой”.
Россия бросилась вокруг
Поспешной кошкой.9
Известно, что двоеглазие, стереоскопичность нашего зрения, существенно помогают нам судить об удаленности предметов. Поэтому естественна утеря перспективы у Бурлюка.
Он вполне реально мог ощущать, например, такую доисторическую картину:
Чудовище таилось между скал
Заворожив зеленые зеницы…10
Или в другом месте:
Насыпь изогнулась —
Ихтиозавр
Лежащий в болоте11.
В действительности же все эти чудовища, ихтиозавры, убийцы и т. п. ужасы могли быть самыми обыденными явлениями, как в рассказе Э. По, на который ссылается Ю. Олеша в “Записках писателя”:
Человек, сидевший у открытого окна, увидел фантастического вида чудовище, двигавшееся по далекому холму. Мистический ужас охватил наблюдателя.
В местности свирепствовала холера. Он думал, что видит самое холеру, ее страшное воплощение.
Однако через минуту выяснилось, что чудовище небывалой величины есть не что иное, как самое заурядное насекомое, и наблюдатель пал жертвой зрительного обмана, происшедшего вследствие того, что насекомое ползло по паутине на ничтожнейшем расстоянии от наблюдающего глаза, имея в проекции под собой дальние холмы12.
Но герой Э. По быстро избавляется от иллюзии. А Бурлюк все время вынужден жить в странном искаженном мире. Порой он сам восклицал в тоске:
Сатир несчастный, одноглазый
Доитель изнуренных жаб![11]11
Кстати, последнюю строчку очень любил В. Хлебников и часто ее цитировал, особенно в применении к простачкам-меценатам: “они нас интересуют только в смысле “доения изнуренных жаб”. (Действительно, наши “меценаты” были не многим богаче нас! Будетлянство росло на другой опаре!13)
[Закрыть]
“Ослепленная страсть”, чудовища и безумие окружили его навсегда. Маяковский в “Облаке в штанах” пишет о Бурлюке:
Как в гибель дредноута от душащих спазм
Бросаются в разинутый люк, —
сквозь свой до крика разорванный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Ненормальность зрения Бурлюка приводит к тому, что мир для него раскоординировался, смешался, разбился вдребезги. Бурлюк привыкает к этому и даже забывает о своем бедствии. Он не стесняется своего одноглазия ни в стихах, ни в жизни. Однажды, где-то на Дальнем Востоке, ему пришлось в каком-то кафе схватиться с одним комендантом. Дошло до ссоры. Комендант грозил отправить Бурлюка в солдаты. Бурлюк кричал:
– Нет, не отправите!
– Отправлю! – комендант выходил из себя.
– Попробуйте! – сказал Бурлюк, вынул свой стеклянный глаз и торжествующе показал коменданту.
Самая художественная деятельность Бурлюка представляется мятущейся футуристической картиной, полной сдвигов, разрывов, безалаберных нагромождений. Он – и художник, и поэт, и издатель, и устроитель выставок. Сверх того, он художник – какой хотите! Если вам нужен реалист, то Бурлюк реалист. Есть рассказ Б. Лившица о картине Давида Давидовича “под Левитана”. Известен его же анатомически точный портрет Рериха14. Вам нужен импрессионист: извольте, Бурлюк покажет вам десятки своих пленэров. Вам нужен неоимпрессионист – и таких полотен вы найдете у Бурлюка дюжины. Вам нужен кубист, футурист, стилизатор – сколько угодно, – и таких сотни. Которые же настоящие? Кто это знает! Знает ли это сам Бурлюк? Он в некотором отношении напоминает Ренана с его безбожием. Тот говорил: так как нам ничего в точности неизвестно, то самое лучшее быть готовым ко всему. Так вы меньше всего проиграете!..
– Давид Бурлюк, как настоящий кочевник, раскидывал шатер, кажется, под всеми небами…
Так говорил Маяковский еще в 1914 г.15 Отмечая разрыв теоретических построений Бурлюка с его эклектизмом на практике, Маяковский осуждающе добавляет:
– Хорошо, если б живописью он занимался!..16
Бурлюк – писатель. Он журналист, он – теоретик (см. его работы о живописной фактуре, о Бенуа, о Рерихе и др.). В качестве поэта он тоже своеобразный универмаг. Вы хотите символиста? Хорошо. Возьмите Голлербаха в издании жены Бурлюка и на стр. 14 вы встретите откровенное признание этого критика, что он не может “удержаться от соблазна выписать целиком стихотворение Бурлюка, которое могло бы быть характерным для поэзии символ истов":
Еще темно, но моряки встают
Еще темно, но лодки их в волнах…
Покинут неги сладостный уют…17
Голлербах приводит также стихи Бурлюка, типичные для 70-х годов прошлого столетия:
На свете правды не ищи, здесь бездна зла.
(см. Э. Голлербах “Поэзия Давида Бурлюка”)18
А вот и более древнее – в духе Тредьяковского:
В бедном узком чулане:
“С гладу мертва жена”…
Это было в тумане
Окраин Нью-Йорка на!
(“Жена Эдгара”)19
Есть еще одна характерная для художественной деятельности Бурлюка черта. Если собрать его рисунки 1912-22 гг., окажется, что на 90 проц<ентов> они изображают толстых голых баб во всех поворотах. Преобладающий – таз и ягодицы. Есть и такие рисунки, где видны “два фаса” – лицо и таз (графический сдвиг). Встречаются – трехгрудые и многогрудые женщины, полновесные “мешки с салом”, как говаривал сам Бурлюк. В его стихах найдем немало соответствующих образов:
Розы вскрой грудей…
Пусть девы – выпукло бедро,
И грудь, – что формой Индостан…20
Обворожительно проколота соском
Твоя обветренная блузка…21
Девочка, расширяясь бедрами,
Сменить намерена мамашу.
Коленки круглые из-под короткой юбки
Зовут:
– Приди и упади22.
Откуда это обилие таких объемных и телесных образов? Повышенный интерес к шарам и полушариям – у человека, которому они представляются лишь кругами или плоскостными секторами?
Только беспросветной наивностью и esprit mal гоигпё некоторых критиков (например, уже помянутого Голлер-баха) можно объяснить их слюнявые рассуждения об эротобесии, о барковщине и порнографии Бурлюка. Очень легкий и скользкий путь, ведущий к копанию на потеху мещан в семейных скандальчиках, к рассказам о гинекеях, якобы устроенных для братьев Бурлюков их же матерью! (См. воспоминания Б. Лившица Тилея”23.)
В действительности здесь поразительно логическое следствие того же физического дефекта – одноглазия. Тут действует широко распространенный психический закон. Ощущение своей неполноценности, своей ущербности в каком-нибудь отношении вызывает непреодолимое стремление восполнить ее, преодолеть, восторжествовать над ней, хотя бы в чисто умозрительной плоскости, а тем более в искусстве и особенно – в изобразительном.
Человек хочет уверить не только себя, но и других в своей мнимой победе над враждебной ему природой. Поэтому он с невероятным упорством рисует преувеличенно выпуклые формы, жирные телеса, особенно обращая внимание на шарообразные части. Он хочет сказать:
– Смотрите, я зрячий!
– “Тысячеглаз, чтобы видеть все прилежно”, – уверяет он в стихе.
Но так как это ему самому кажется малоубедительным, он нагромождает аргументы – вводит разные сексуальные детали, так сказать, вещественные доказательства достоверности своего видения, наличия факта.
Именно такой смысл, мне кажется, имеют настойчивые подчеркивания Бурлюком своей эротичности, своего сатириазиса.
Интересно сравнить раздутые округлости разухабистых рисунков Давида Бурлюка с прямолинейными и удлиненными, строгими фигурами в работах его брата Владимира (см., например, иллюстрации в сборнике “Дохлая луна”, второе издание). Не обусловлена ли эта резкая противоположность в художественной манере братьев разницей их зрения?!
Но как ни распинается Давид Давидович, как ни подделывает многоглазую жадность, – он предан и изобличен своими работами. Его рисунки разрастаются только в ширину, но не вглубь. Они остаются плоскостными, но с резко нарушенными пропорциями фигур. Попытки дать многопланность, сделать пространство многомерным – жалким образом приводят к чисто количественному эффекту, к бесконечному повторению одной и той же двухмерности. Человеку с нормальным зрением это очевидно. И трагедия Бурлюка в том, что он с настойчивостью маньяка принимается все вновь и вновь за ту же безнадежную задачу – за… кубатуру круга!
То же в его стихах. Выпуклая грудь представляется ему плоской географической картой (очертаньями Индостана). “Бедро бело – сколь стеарин”, – пишет он. Эта белизна, лишенная светотени, выдает плоскостность образа. Еще: “Округлости… выкроек бедра” – площе не скажешь! (Все три примера из последней автоюбилейной книги Бурлюка “½ века”. Нью-Йорк, 1932 г.24)
Не в этом ли, не в нерешенности ли для Бурлюка столь важного для него самого задания – освоить глубину мира, лежит причина того, что он единственный из будетлян не изменил живописи?
То, что оказалось для нас слишком бедным и плоским, что заставило нас искать другие средства и пути своего выражения в искусстве (энмерное слово!), – для Бурлюка стало несокрушимым камнем преткновения. Он беспомощно ползает по холсту, смутно лишь догадываясь о том, что настоящий мир с его неисчерпаемыми далями находится за раскрашиваемой поверхностью, за станком циклопа-художника!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































