Текст книги "К истории русского футуризма. Воспоминания и документы"
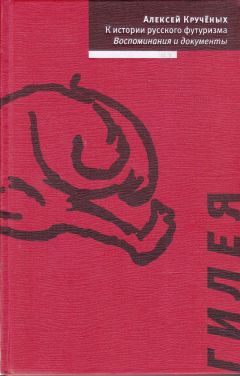
Автор книги: Алексей Крученых
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Конец Хлебникова
Художница М.С.1 рассказывает:
– Было это примерно в 1918-19 гг. у нас на даче под Харьковом. Хлебников, бездельничая, валялся на кровати и хитро улыбался.
– Я самый ленивый человек на свете! – заметил он и свернулся калачиком. Было тихо, уютно.
– Витюша, вы лежите как маленький ребенок. Хотите – я вас спеленаю?
– Да, это будет хорошо! – пропищал Хлебников.
М.С. спеленала его простыней, одеялами и связала несколькими полотенцами.
Хлебников лежал и наслаждался.
М.С. всунула ему в рот конфетку.
– Витя, вам хорошо?
– Да, очень хорошо! (Все это тихим, пискливым голосом.)
И в полном блаженстве Хлебников пролежал так несколько часов…
Пусть это выдумано, но выдумано хорошо!
Шаржировано положение, в котором мог очутиться Хлебников и в котором трудно представить, например, Маяковского.
Если в жизни и в поэзии Маяковский спец по грубости, громыханию, громким “булыжным” словам, то В. Хлебников – мастер нежности, шепота и влажных звуков.
Маяковский мужественность – город – завод. Хлебников женственность – деревня – степь.
Конечно, футуризм вытравлял из Хлебникова излишнюю деревенщину, но природные черты его проглядывали во многом.
Когда Маяковский разнеживался или исходил любовной томностью, он впадал в стихию Хлебникова.
И не из его ли словообразований эти пришепетывания и слезные токи влюбленного Голиафа:
Должно быть маленький, смирный любеночек…
Стихами велеть истлеть ей…2
И не слышатся ли “увлажненные” слова Хлебникова в таких строчках Маяковского:
На цепь нацарапаю имя Лилино
И цепь исцелую во мраке каторги3.
Сравнить у Хлебникова (из ранних стихов):
Ляля на лебеде, Ляля любовь!4
И из позднейших:
Пришло Эль любви, лебедя, лелеки.
На лыжах звука Эль – либертас и любовь.
(“Царапина по небу”)5
Несмотря на значительную разницу в характерах, Хлебникова и Маяковского объединяло то, что в них было много дикарского и жизнь обоих сложилась трагично.
Оба были силачами и работягами до изнеможения. Надеясь на свои силы, не считались с действительностью эти надорвавшиеся великаны.
Хлебников так рассчитывал на свою всевыносливость, что ночевал на снегу в лесу. Звериный инстинкт его часто выручал – Велимир в него верил и не любил докторов, не любил лечиться. Вообще сторонился культурного и городского: всю жизнь относился враждебно к телефону, спать предпочитал на соломе или на голом тюфяке, а простыни сбрасывал на пол.
Как любил и знал звериный быт Хлебников – слишком общеизвестно. Его “Зверинец” (1909 г.), “Мудрость в силке”, “Вила и леший” (1913 г.) – это образцовые поэмы лесной и звериной жизни.
В последние годы им написана звериная Илиада – трудно определить иначе этот величаво-жуткий эпос.
Вот чисто гомеровский отрывок из стихотворения “Голод”.
Хмуро в лесу. Волк прибежал издалека
На место, где в прошлом году
Он скушал ягненка.
Долго крутился юлой, весь мир обнюхал,
Но ничего не осталось —
Дела муравьев, – кроме сухого копытца.
Огорченный, комковатые ребра поджал
И утек за леса.
Там тетеревов алобровых и седых глухарей,
Заснувших под снегом, будет лапой
Тяжелой давить, брызгами снега осыпан…
Лисанька, огневка пушистая,
Комочком на пень взобралась
И размышляла о будущем…
Разве собакою стать?
Людям на службу пойти?
Сеток растянуто много —
Ложись в любую…
Нет, дело опасное.
Съедят рыжую лиску,
Как съели собак!
Собаки в деревне не лают…
И стала лисица пуховыми лапками мыться.
Взвивши кверху огненный парус хвоста,
Белка сказала, ворча:
“Где же мои орехи и жёлуди? —
Скушали люди!”
Тихо, прозрачно, уже вечерело,
Вечером тихим сосна целовалась
С осиной.
Может, на завтра их срубят на завтрак.
(Т. Ill, стр. 192–193)6
Еще несколько подобных вещей написаны Хлебниковым в бытность в Пятигорске для тамошних Кавроста и Тергосиздата7. Здесь, между прочим, произошел чрезвычайно типичный для Хлебникова случай.
Поэту хотели помочь и решили устроить его в Роста. Начинаются обычные для Хлебникова недоразумения.
– Привлечь к агитации и пропаганде – но как впряжешь в одни оглобли “коня и трепетную лань”? – вопрошал бюрократ из Центропечати.
Велимира определили ночным сторожем, так как писатель он для Роста, дескать, неподходящий. Но в кампанию помощи голодающим обратились к Хлебникову, чтобы он написал несколько стихотворных призывов, один из которых мы цитировали выше.
Руководители Роста были в большом восторге от вещей Хлебникова, уверяли, что это самое настоящее народное творчество, необходимое для советской общественности, что “в ответственные моменты поэт бывает с массами”, и проч, и проч. (см. воспоминания Козлова в “Красной Нови”, № 8 за 1927 г.). Но Хлебников так и остался ночным сторожем.
Непрактичный Велимир не извлекал материальной выгоды из своих произведений и всю жизнь провел полунищим скитальцем, умея только агитировать о помощи другим — голодающим и бесприютным.
Во время гражданской войны Хлебникову пришлось особенно плохо. Как беспаспортного, его часто арестовывали (у него не было даже карманов, и вообще – зачем настоящему страннику паспорт?!). Он много голодал и болел (сыпной тиф). Друзья уговаривали его лечиться.
– Лечение успеется! – говорил Хлебников.
Он рвался в столицу, чтоб напечатать свои произведения, главным образом вычисления о будущих войнах.
В 1921 г. уже в Москве он таинственно сообщал мне о своих открытиях, доверяясь:
– Англичане дорого бы дали, чтобы эти вычисления не были напечатаны!
Я смеялся и заверял Хлебникова, что англичане гроша не дадут, несмотря на то, что “доски судьбы” грозили им погибелью, неудачными войнами, потерей флота и пр.
Хлебников обижался, но все же, видимо убежденный, дал мне свои вычисления для обнародования. У меня сохранилась его записка:
Алексею Крученых
“Часы человечества”
Разрешается печатать.
В. Хлебников
10/II-22
Эта вещь вошла в “Доски судьбы” (изд. 1922 г.).
В Москве Велимир снова заболел, жаловался, что у него пухнут ноги. Некоторым не в меру горячим поклонникам удалось уговорить его уехать в деревню и оттуда грозить англичанам, а заодно и всем неверующим в грозные вычисления8.
К сожалению, материальная часть похода была в печальном состоянии. Хлебников в дороге простудился (весною уснул на сырой земле). Медпомощь в деревне была недостаточна, к тому же Велимир гнал от себя лекарей.
Незадолго до смерти он написал письмо д-ру А. П. Давыдову (Москва):
Александр Петрович.
Сообщаю Вам, как врачу, свои медицинские горести. Я попал на дачу в Новгородской губер. ст. Боровенка, село Санталово (40 верст от него), здесь я шел пешком, спал на земле и лишился ног. Не ходят. Расстройство (неразборчиво) службы. Меня поместили в Коростецкую “больницу” Нов-гор. губ., гор. Коростец, 40 верст от жел. дор.
Хочу поправиться, вернуть дар походки и ехать в Москву и на родину. Как это сделать?9
Это последняя весть от Велимира Хлебникова – “Предземшара”. Болезнь быстро развивалась и привела к преждевременному концу. Хлебников умер 37 лет – в возрасте Байрона, Пушкина и Маяковского.
Маяковский и зверье
I
Некоторые критики (Иванов-Разумник, Чуковский, Воронский)1 обвиняли лефовцев вообще, Маяковского в частности, в том, что они подпали под власть “машинной Вещи”, “ликвидировали душу” и забыли “живого человека”, забыли “духовное”.
Они – бездушные механизированные люди.
Некоторые же критики, наоборот, обвиняли футуристов, Маяковского в особенности, в эгоцентризме, в ячестве (см., напр., статьи Полонского, Лежнева)2.
Все эти обвинения взаимно исключают друг друга. А по существу именно Маяковского в одном никогда нельзя было упрекнуть: в отсутствии любви к живому, в том, что он “убивал душу”. Напротив. Он очень любил и много места уделял всему живому и сам был слишком жив и даже страстен.
Ненавижу всяческую мертвечину,
обожаю всяческую жизнь3.
Маяковский не выискивал себе тем в книгах, а брал непосредственную жизнь, чем и не нравился “духовникам”. Он громыхал по улицам, азартничал в домах, “бабахал” с трибуны и все время зорко всматривался. От его взгляда не могли укрыться ни люди, ни звери. Последние его особенно интересовали. Поражали своей примитивной, но ярко выраженной жизненностью. Еще, кажется, никто не обращал внимания, насколько Маяковский любил зверей, и ни в одном исследовании о нем нет такой главы “Маяковский и зверье”, а вместе с тем она должна быть написана, как очень показательная для этого “механизированного” человека.
Эта глава будет интересна не только сама по себе, она весьма важна для выяснения самого главного, “нутряного” в творчестве Маяковского4.
Маяковский любил зверей еще с детства. Сестра его Людмила Владимировна в воспоминаниях о мальчике-Маяковском пишет (журнал “Пионер” № 14,1930 г.):
Детство Володи протекало в трудовой деревенской обстановке. Жили в лесничестве, в окружении грандиозной и разнообразной природы.
Дом всегда был полон птиц и животных: лошадь, множество собак, кошек. Объездчики, зная нашу любовь к зверям, приносили маленьких живых лис, белок, медвежат, джейранов (диких ко3).
Звери – любимые друзья Володи.
Эта чисто детская любовь к животным осталась у него на всю жизнь.
В книгах для детей Маяковский много и занимательно пишет о зверях и зверушках. Здесь подделка быстро обнаружилась бы, не имея подлинного чувства, взрослый человек быстро бы впал в сюсюканье.
Этого нет у Маяковского.
Он рассказывает детям про зверей из зоопарка как старший товарищ; словами наблюдательного художника говорит преимущественно о том, что запомнилось глазу.
Как живые в нашей книжке
Слон,
слониха
и слонишки.
Двух и трехэтажный рост
С блюдо уха оба
впереди на морде хвост
под названьем “хобот”.
Сколько им воды, питья,
сколько платья снашивать!
Даже ихнее дитя
ростом с папу нашего.
(“Что ни страница, – то слон, то львица”)5
Весело и легко он зарисовывает обезьяну из зверинца.
Обезьян.
Смешнее нет.
Что сидеть как статуя?! —
Человеческий портрет
даром, что хвостатая.
Зверю холодно зимой
Зверик из Америки…
Видел всех. Пора домой.
До свиданья, зверики.
(“Что ни страница, – то слон, то львица”)
Зверей из зоопарка он наблюдал эпизодически и так же и описывал. О верблюде, встречающемся на Кавказе часто6, он говорит иначе, подметив его характерные черты, и, описывая верблюжью нетребовательность и работоспособность, дает уже не описание, а небольшую характеристику животного.
Вот верблюд, а на верблюде
возят кладь,
и ездят люди.
Он живет среди пустынь,
ест невкусные кусты,
он в работе круглый год
он, верблюд,
рабочий скот.
(“Что ни страница, – то слон, то львица”)
Особенно тепло он говорит о домашних животных, повадки которых изучил основательно.
С любовью и уважением, например, о кошачьей чистоте:
Вот
кот.
Раз шесть
моет лапкой
на морде шерсть.
Все с уважением
относятся к коту
за то, что кот
любит чистоту.
(“Гуляем ”)
Кошачьим именем можно назвать даже любимую женщину.
Мне вспоминается такая шутка Маяковского при подношении подарка:
Милым кисам
Взамен поздравлений и писем!..
Для детей кошка описывается как тип. Когда же Маяковский добирается до собаки, он дает портреты (когда любят, помнят данное лицо, плюс мельчайшие детали окружения) и невольно впадает в лирику. У него появляются нежные, ласкательные имена, “внимательное отношение к собаке”, словом, Маяковский на время превращается в ребенка. Словарь его приближается к детскому: “щен”, “пончиковый бок”, “злюня” и т. д.
Вслушайтесь в живую сцену со щенком и Петей Бур-жуйчиковым (“Сказка о Пете толстом ребенке и Симе, который тонкий”)
Петя,
выйдя на балкончик,
жадно лопал сладкий пончик…
Четверней лохматых ног
шел мохнатенький щенок.
Сел.
Глаза на Петю вскинул:
– Дай мне, Петя, половину!
Но у Пети
грозный вид.
Отвернуться норовит.
Не упросишь этой злюни.
Щен сидит, глотает слюни.
Невтерпеж
поднялся —
скок, —
впился в пончиковый бок.
Петя,
посинев от злости,
отшвырнул щенка за хвостик.
Нос и четверню колен
об земь в кровь расквасил щен.
Омочив слезами садик
сел щенок на битый задик.
Изо всех щенячьих сил
нищий щен заголосил:
– Ну, и жизнь —
не пей, не жуй
Обижает нас буржуй!
В минуты отдыха Маяковский, шутя и развлекаясь, любил рисовать зверей. Особенно часто и хорошо он рисовал собак. В шутливых записочках это иногда было вместо подписи, обычно – “взамен печати”7.
У него был в последние годы жизни бульдог – Булька, который описан в очерке Л. Эльберта “Краткие данные” (“Огонек”)8.
Говоря о своей собаке, даже в повседневности, Маяковский и то впадал в лиризм.
– Какая собака! До чего приятная собака. Самая первая на свете собака!
Булька – французский бульдог, собачья дама – вывела в ласке глаза из орбит. Маяковский смотрит на нее хмуро и нежно и мажет у Бульки мокрый нос.
– Очень интересный бульдог, необычайно интересный бульдог будет булькиным мужем. Забеременеет собака, вне сомнения, забеременеет собачка. Не лезь, Булечка, нельзя меня раздражать. Мужчины стали очень нервные – и т. д.
Отношение к собакам иногда даже сентиментально. Запаршивевшей собаке, очевидно, выгнанной хозяевами и хронически голодной, Маяковский в порыве жалости готов отдать собственную печень для прокорма.
Я зверье еще люблю —
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.
Увидишь собаченку —
Тут у булочной одна —
Сплошная плешь, —
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
– ешь!
(“Про это”)
Даже женщина, любимая Маяковским, неравнодушна к зверям:
Может,
Может быть,
когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей
и она
– она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
(“Про это”)
Вот еще из цикла идиллических и сильно “прособаченных” стихов, может быть, и написанное в письме для любимой. Очень уж оно блокнотистое, поверхностно-жизнерадостное и, конечно, не без иронии.
Краснодар
Солнце жжет Краснодар,
Словно щек краснота.
Красота!
Вымыл все февраль
и вымел —
не февраль,
а прачка,
и гуляет
мостовыми
разная собачка.
Подпрыгивают фоксы
показывают фокусы
Кроме лапок,
вся, как вакса
низко пузом стелется
волочит
вразвалку такса,
длинненькое тельце.
Бегут,
Трусят дворняжечки
мохнатенькие ляжечки
Лайка
лает
взвивши нос
на прохожих Ванечек.
Пес такой
уже не пес
это —
одуванчик.
Легаши,
сеттера,
мопсики этцетера.
Даже
если
пара луж,
в лужах
сотня солнц юлится.
Это ж
не собачья глушь,
а собачкина столица.
(1926 г.)
Любовь к животным прошла через всю жизнь и через все творчество Маяковского. Иногда он так остро понимал чувства зверя, что представлял себя как бы перевоплотившимся в него. Об этом и пойдет сейчас речь.
II
Звери, показанные Маяковским детям – звери веселые и назидательные: кто чист, кто добр, но все это звери “без психологии”.
Но когда Маяковский для себя, интимно говорит о звере, этот зверь становится образом незаслуженно оскорбленного существа, с его воем, слезами, бесприютной, пустынной тоской, отчаяньем. Страдания животного понятны Маяковскому, потому что обычно его собственная боль беспредельна, зоологически-примитивна, “зверина”9.
А тоска моя растет
непонятна и тревожна,
Как слеза на морде
у плачущей собаки.
(Трагедия “Владимир Маяковский”)
В минуты злости, рева, безысходности он реально ощущал себя загнанным зверем. Превращение первое:
Вот так я сделался собакой
Ну, это совершенно невыносимо.
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака, лицо луны гололобой
взял бы
и все обвыл.
У Маяковского завывание – не только литературная, стилистическая гипербола, но естественное следствие гипертрофии переживания. Нервы напряжены, взбухает сердце, голос срывается, визжит.
Но самое главное здесь – “завыл на луну”. Это мы уже встречали у него: “луной томлюсь ждущий и голенький”.
Голиаф захныкал! Как это должно быть жутко, и как это к нему не шло!
Надо здесь же заметить: в потрясающем чтении Маяковского всегда была одна “уязвимая пята” – когда он вдруг “пускал слезу”, скулил. Прорывался какой-то неуместный фальцет, как будто бас сфальшивил. Особенно неподходящее занятие это нытье для “агитатора, горлана-главаря”.
Казалось бы – ну, повыл немножко, что тут особенного? Но и щель в корабле как будто мелочь – а в нее может хлынуть океан, если вовремя не доглядеть. Так и завыванье было самой опасной щелью в творчестве Маяковского10.
Проследим дальше его превращение в неврастеника-пса:
Нервы, должно быть…
Выйду, —
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить.
Она – знакомая.
Хочу —
чувствую —
не могу по-человечьи.
Сказать уже нельзя! И растет что-то дикое, первобытное. Прорезаются звериные зубы… Об этом – в жилетку друзьям? Знакомым? Не поймут, засмеют! Об этом можно только извизжаться, по-собачьи провыть.
Что это за безобразие?
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
Такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.
Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь
бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
– Городовой!
Хвост!
Провел рукой и остолбенел…
этого-то
Всяких клыков почище
Я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади
большой, собачий.
Что теперь?
Один заорал, толпу растя…
Второму прибавился третий, четвертый,
смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.
И когда, ощетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав, гав, гав!
(“Все сочиненное В. Маяковским” стр. 48)
Старушка, конечно, кричала про черта, а здесь было слишком человеческое, “от осмотров укутанное” собачьей шкурой, рассказанное как смешливый анекдот.
Но когда идет вопрос о самом “бесчеловечном” из человеческих чувств, об измене любимой, – Маяковский опять возвращается к этому образу.
Собакой забьюсь под нары казарм
Буду
бешеный
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.
(“Облако в штанах”)
И безнадежно выть. Такова уж судьба зверя: самое яркое у него – страдание, и оно-то больше всего тревожит Маяковского. Грубое отношение людей к животным настолько задевает Маяковского, что иной раз обычная рядовая11 уличная сцена совершенно выводит его из равновесия.
Обывательский смешок над упавшей лошадью разнуздывает в Маяковском бурю “мировой скорби”.
И повод для этой скорби гнездится не в небесах, средь облаков, Казбеков или в мрачных неприступных ущельях. Нет, “все это было, было в Одессе” или в любом городе СССР.
Превращение второе.
Хорошее отношение к лошадям
Били копыта.
Пели будто:
– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута
улица скользила
Лошадь на круп
грохнулась
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить
сгрудились.
Смех зазвенел и зазвучал:
– Лошадь упала
Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные…
Улица опрокинулась
течет по-своему…
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
слеза по морде катится
пропадая в шерсти.
И какая-то общая
звериная тоска
плеща
вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
Но чтобы избавиться от этой страшной “звериной тоски”, оказывается, нужно очень немного (на первый взгляд!). Надо только кусочек нежности, жалости, человеческого сострадания. Какой трюизм! И каким надо быть одиноким и тоскующим, чтоб заговорить, да еще со слезой, о таких примитивных, “дошкольных”, понятных даже лошади, вещах!
“Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка.
Все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь”.
Может быть
– старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя
казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок
Пришла веселая
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок
и стоило жить
и работать стоило.
Какой примитивизм! Вот уж подлинно “телячья” наивность!12
Насколько Маяковский не любил выспренних небожителей, настолько он нежен к [несовершенным] земно-жителям. Это не значит, что он “низмен” или что его “рефлексы” симпатического подражания вызывались только чахлой городской фауной. Нет, здесь сознательное снижение: Земля заслоняет прокисшее Небо (“Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою…”)13. Чтоб быть ближе к земле, Маяковский сам становится на четвереньки, сам готов превратиться в четвероногого. “Хорошее отношение к лошадям” стало крылатым словом…
Но это так, попутно. Главное в зверях – их безысходная, душу раздирающая, тоска.
В поэме “150.000.000” Маяковский, зная, что этот вопль сильнее человеческого, – обращается опять к зверью, к его предельно выразительному языку.
Звери в своем шествии заслоняют человека – лавина их наплывает на людей, и звериный вопль при катастрофе понятен всему живому.
И все эти
сто пятьдесят миллионов людей,
биллионы рыбин,
триллионы насекомых,
зверей,
домашних животных,
сотни губерний,
со всем, что построилось,
стоит,
живет в них,
все, что может двигаться,
и все, что не движется,
все, что еле двигалось,
пресмыкаясь,
ползая,
плавая,
лавою все это, лавою!
Невыносим человеческий крик,
но зверий
душу веревкой сворачивал.
(Я вам переведу звериный рык,
если вы не знаете языка зверячьего).
Маяковский спец по звериному языку. Звери, оказывается, изголодались вконец и прут к американским пастбищам, все покрывая своим ревом, гиком и гудом:
Го, го,
Го, го, го, го,
Го, го!
Идем, идем!
Сквозь белую гвардию снегов!
(“150.000.000”)
И еще в одной вещи зверий язык – глухой, грозный:
Ночью вскочите.
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва
над язвой смерчи мух.
Лосем обернусь, —
в провода
впутаю голову ветвистую,
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.
(“Ко всему” <1916 >)
И в самой последней лирической поэме Маяковского – “Про это” – мы встретим целый зверинец, – но какой он трагический.
…проглоченным кроликом в брюхе удава
по кабелю
вижу
слово ползет…
(стр. 11)14
Тут уже намечается “сдавленное горло” лирической песни. А главное в этой поэме – третье, самое ноющее, превращение.
Несчастно-влюбленный поэт рычит:
Вчера человек,
единым махом
Клыками свой размедведил вид я!
Косматый,
шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж!
В телефоны бабахать!?
К своим пошел
в моря ледовитые!
Это уже знакомая нам дорога! Старинные “истоки звериных вер”. Отсюда и начинается его третье и последнее превращение, как назвал это сам Маяковский —
“Размедвеженье”
Медведем,
когда он смертельно сердится
На телефон
грудь
на врага тяну
а сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет
ручьище красной меди
рычанье и кровь
лакай, темнота!
Не знаю
плачут ли
нет медведи,
но если плачут
то именно так.
То именно так:
без сочувственной фальши
скулят
заливаясь ущельной длиной
И именно так их медвежий Балыпин
скуленьем разбужен ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
Недвижно задравши морду, как те,
повыть,
избыться
и лечь в берлогу
царапая логово в 20 когтей.
(“Про это”)
Последнее убежище Маяковского – это не дом со столовой и с супружеской спальней, а уединенная, пещерообразная звериная берлога. (Здесь жизнь и поэзия Маяковского опять переплетаются!)
Об этом он говорил уже давно. Например, в необычайно напряженной вещи 1915 г. “Себе любимому посвящает эти строки автор”
– Где для меня уготовано логово?
Помню, как это смятенное произведение читала Клавдия Я-он: с необычайной болью, угнетенностью и надрывом, переходившим в истошный вопль. Конечно, Маяковский так не читал и нехорошо бы читать так все его вещи, но в данном случае, думаю, эта трактовка была удачна.
В “Себе любимому” дан последний крик надорвавшегося великана, дана предсмертная тоска человека, не желающего примириться не то чтобы с “морковным кофе”15 или другим суррогатом, но даже и с Петраркой.
Если б был я
маленький
как великий океан
на цыпочки б волн встал.
Приливом ласкался к луне бы.
Его океан нежности не сравним ни с чем в природе!
Но еще больше изнывал и подергивался, дрожал в вопле дальше:
Если б быть мне косноязычным
как Дант
или Петрарка
душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
Но томная, тонкая, теплящаяся лирика не для него. Последним, безнадежным взрывом, переходящим в хрип и в стон:
Пройду
любовищу мою волоча.
В какой ночи
бредовой
недужной
какими Голиафами я зачат
такой большой
и такой ненужный!
Контраст – разительный! И… жалкий!16
Такие резкие колебания для массивной громады гибельны: они не сгибают ее, а ломают, опрокидывают.
Но назойливая гипертрофия мелких человечьих страстишек и по-иному опасна для крупно построенного человека. Висячий мост выдерживает чудовищные нагрузки. Но вот его всколебал, раскачал неумолимо правильной мелкой дробью шагов марширующей роты неопытный командир, забывший “Строевой устав пехоты”, – и мощная конструкция рушится с грохотом, как сердце поэта[12]12
Вспомним катастрофу с Чугунным мостом через Фонтанку в довоенном Петербурге.
[Закрыть].
А между тем были же выходы. Можно было парализовать эти мелкие, подстегивающие, как хлыст, удары, выбивавшие поэта из его собственного большого ритма. И порой Маяковский находил выходы. Он преодолевал порывы стихийного отчаяния, уныния – и звериный надоедный вой и стон уже не нужны были ему. Все животное слишком примитивно, заунывно, со слякотной слезой. А когда бодр, радостен, энергичен – тогда мало одного То-го-го” и “простого как мычание”.
Тогда призыв и приказ:
Эй, стальногрудые!
Крепкие, эй!
Бей, барабан!
Барабан, бей!
Требуется организованность, маршевый шаг, команда и… самое современное оружие:
Пули, погуще!
по оробелым!
в гущу бегущим
Грянь, парабеллум!
Это уже не размедвеживанье, а технизация.
Плачущих лошадей заменяют ревущие поезда.
Наши плавники – пароходы,
Наши крылья – аэроплан.
(“150.000.000”)
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































