Текст книги "К истории русского футуризма. Воспоминания и документы"
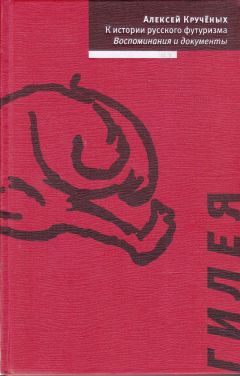
Автор книги: Алексей Крученых
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Знакомство с Бурлюками, Маяковским и Хлебниковым. Первые выступления
Познакомился я с Бурлюками еще в Одессе. Насколько помню, в 1904-05 гг. существовавшее там общество искусств устроило очередную выставку, на которой всех поразили цветные картины Бурлюков1.
Им пришлось выступить среди серовато-бесцветных холстов подражателей передвижникам. Картины Бурлюков горели и светились ярчайшими ультрамарином, кобальтом, светлой и изумрудной зеленью и золотом крона. Это все были plein air’bi, написанные пуантелью.
Помню одну такую картину. Сад, пропитанный летним светом и воздухом, и старуха в ярко-синем платье. Первое впечатление от картины было похоже на ощущение человека, вырвавшегося из темного подвала: глаз ослеплен могуществом света.
Фигуры, писанные Бурлюками, были несколько утрированы и схематичны, чтобы подчеркнуть то или иное движение или композицию картины. Бурлюки срезали линию плеча, ноги и т. д. Подчеркивание это необычно поражало глаз.
Впоследствии, когда я увидел Гогена, Сезанна, Матисса, я понял, что утрирование, подчеркивание, предельное насыщение светом, золотом, синькой и т. п. – все эти новые элементы, канонизированные теорией неоимпрессионизма, на самом деле были переходом к новым формам, подготовлявшим в свою очередь переход к кубофутуризму2.
Кроме красочной необузданности, у Бурлюков был еще трюк: их картины, вместо тяжелых багетов или золоченых рам, тогда модных, окаймлялись веревками и канатами, выкрашенными в светлую краску. Это казалось мне шедевром выдумки. Публика приходила в ярость, ругала Бурлюков вовсю и за канаты, и за краски. Меня ругань эта возбуждала.
Конечно, я познакомился с бывшим на выставке Владимиром Бурлюком. Атлетического сложения, он был одет спортсменом и ходил в черном берете. В то время подобный костюм казался вызовом для всех.
В нашем живописном кругу трех братьев Бурлюков различали несколько своеобразно: Владимира звали “атлетом”, младшего – Николая – студентом, а “самого главного” – Давидом Давидовичем. Не знаю, что было бы, если бы я сразу встретился с Давидом Давидовичем, но, знакомясь с Владимиром, я не предчувствовал, что мы будем так близки во времена футуризма. Нечего говорить, что самую выставку Бурлюков и их картины я считал “своим”, кровным.
Один из моих товарищей советовал мне ближе узнать этих художников. Я ухватился за эту мысль и еще до поездки в Москву собрался к Бурлюкам. Они жили в огромном имении графа Мордвинова “Чернянках”, где их отец был управляющим. Я предупредил телеграммой о своем визите. Но это оказалось лишним. У Бурлюков все было поставлено на такую широкую ногу, что моя ничтожная личность пропадала в общем хаосе. К управляющему сходилось множество народу, стол трещал от яств.
Давид Давидович встретил меня ласково. Он ходил в парусиновом балахоне, и его грузная фигура напоминала роденовского Бальзака. Крупный, сутулый, несмотря на свою молодость, расположенный к полноте, – Давид Давидович выглядел медведеобразным мастером. Он казался мне столь исключительным человеком, что его ласковость сначала была понята мною как снисходительность, и я приготовился было фыркать и дерзить. Однако недоразумение скоро растаяло.
Правильно, по-настоящему оценить Давида Давидовича на первых порах мешает его искусственный стеклянный глаз. У слепых вообще лица деревянны и почему-то плохо отображают внутренние движения. Давид Давидович, конечно, не слепой, но полузряч, и асимметричное лицо его одухотворено вполовину. При недостаточном знакомстве эта дисгармония принимается обыкновенно за грубость натуры, но в отношении Давида Давидовича это, конечно, ошибочно. Более тонкого, задушевного и обаятельного человека едва ли можно встретить.
Этот толстяк, вечно погруженный в какие-то искания, в какую-то работу, вечно суетящийся, полный грандиозных проектов, – заметно ребячлив. Он игрив, жизнерадостен, а порою и… простоват.
Давид Давидович очень разговорчив. Обыкновенно он сыплет словами – образными и яркими. Он умеет говорить так, что его собеседнику интересно и весело. Записывать свои мысли он не любит, и мне кажется, что все записанное не может сравниться с его живым словом. Это – замечательный мастер разговора.
К завтракам и обедам сходилась большая семья, масса знакомых, гостивших здесь, и все, кто имел дело к управляющему: врач, контрагенты.
Стол накрывался человек на сорок. Думается, что и у графа Мордвинова не было такого приема.
Кроме троих братьев Бурлюков, было еще три сестры. Старшая Людмила – тоже художница, две другие – подростки.
За обедом Давид Давидович много болтал. Между прочим, мне памятен рассказ про каменную бабу, недавно отрытую им где-то в курганах. У бабы были сложены руки на животе. Давид Давидович острил:
– Из этого видно, что высокие чувства не были чужды этой богине.
С этой каменной бабой случилось нечто курьезное. Когда отец Бурлюков ушел на пенсию, граф разрешил ему вывезти домашние вещи на его, мордвиновский, счет. И вот каменная баба совершила путешествие по железной дороге из Тавриды к Бурлюкам в Москву, а там – никому не нужная – была брошена где-то на задворках.
После обеда, когда столовая пустела, братья Бурлюки, чтоб размяться, пускали стулья по полу, с одного конца громадной залы на другой. Запуская стул к зеркалу, Владимир кричал:
– Не рожден я для семейной жизни!
Затем мы шли в сад писать этюды. За работой Давид Давидович читал мне лекции по пленэру. Людмила Давидовна, иногда ходившая к нам на этюды, прерывала брата и просила его не мучить гостя словесным потоком. В ответ на это Давид Давидович сначала как-то загадочно, но широко и добродушно улыбался. Лицо его принимало детское, наивное выражение. Потом все это быстро исчезало, и Давид Давидович строго отвечал:
– Мои речи сослужат ему большую пользу, чем шатанье по городским улицам и ухаживание за девицами!
Иногда лекции эти затухали сами собой, и тогда Давид Давидович многозначительно произносил свое обычное “ДДДа”, упирая на букву д. Некоторое время молча накладывал на холст пуантель. Затем вдруг принимался громогласить, декламировать Брюсова, – почти всегда одно и то же:
Читал стихи он нараспев. Тогда я еще не знал этого стиля декламации, и он казался мне смешным, после я освоился с ним, привык к нему, теперь порой и сам пользуюсь им.
Кроме строчек про моторы Давид Давидович читал мне множество других стихов символистов и классиков. У него была изумительная память.
Читал он стихи, как говорится, походя, ни к чему. Я слушал его декламацию больше с равнодушием, чем с интересом. И казалось, что, уезжая из Чернянок, я заряжен лишь живописными теориями пленэра. На самом деле именно там я впервые заразился бодростью и поэзией.
* * *
…Бурлюк [же] познакомил меня в Москве с Маяковским4. Вероятно, это было в самом начале 1912 г., где и как – точно не помню. Ничего не могу сказать и о нашей первой встрече.
Позже я постоянно видел Маяковского в Школе живописи и ваяния – в столовке, в подвале. [Там он обжирался компотом и заговаривал насмерть кассиршу, подавальщиц и посетителей.]
Маяковский того времени – еще не знаменитый поэт, а просто необычайно остроумный, здоровенный парень лет 18–19, учившийся живописи, носил длинные до плеч черные космы, грозно улыбался. Рот у него был слегка завалившийся, почти беззубый, так что многие знакомые уже тогда звали его в шутку “стариком”.
Ходил он постоянно в одной и той же бархатной черной рубахе [имел вид анархиста-нигилиста].
Помню наше первое совместное выступление, “первый бой” в начале 1912 г. на диспуте “Бубнового валета”5, где Маяковский прочел целую лекцию о том, что искусство соответствует духу времени, что, сравнивая искусство различных эпох, можно заметить: искусства вечного нет – оно многообразно, диалектично. Он выступал серьезно, почти академически.
Я в тот вечер был оппонентом по назначению, “для задирки”, и ругал и высмеивал футуристов и кубистов.
Мысль, которой я держался в своем возражении, была очень проста, и мне было легко не сбиться и не запутаться. Я указывал, что раз искусство многообразно, то, значит, оно движется вперед вместе с прогрессом, и, следовательно, современные нам формы должны быть совершеннее форм предыдущих веков. Куда я гнул, было понятно самому недалекому уму.
Дело в том, что Маяковский и другие докладчики на этом диспуте делали экскурсы в отдаленные эпохи и сравнивали современное искусство с примитивами, а в особенности с наивными произведениями дикарей. При этом само собой подразумевалось, что примитивы и дикари давали самые совершенные формы. И вот я объявлял это ретроградством – сравнивать себя с дикарями и восторгаться их искусством. Я бранил и бубнововалетчиков, и кубистов, от живописи перешел к поэзии и здесь разделал под орех всех новаторов. В аудитории царили восторг и недоумение. А я поддавал жару.
О чудачествах новаторов я спросил:
– Не правда ли, они до чортиков дописались. Например, как вам понравится такой образ: “разочарованный лорнет”?
Публика в смех.
Тогда я разоблачил:
– Это эпитет из “Евгения Онегина” Пушкина!6
Публика в аплодисменты.
Показав таким образом, что наши ругатели сами не знали толком, о чем идет речь, я покрыл их заодно с “поверженными” мною кубистами.
Выступал с громким эффектом, держался свободно, волновался только внутренне. Это был первый диспут “Бубнового валета”.
Бурлюк, Маяковский и я после этого предложили “Бубновому валету” (Кончаловскому, Лентулову, Машкову и др.) издать книгу с произведениями “будетлян”. Название книги было “Пощечина общественному вкусу”. Те долго канителили с ответом и наконец отказались7. У “Бубнового валета” тогда уже был уклон в “мирискусстничество”. А если прибавить эту последнюю обиду, станет понятно, почему на следующем диспуте “валетов” мы с Маяковским жестоко отомстили им.
Во время скучного вступительного доклада, кажется, Рождественского, при гробовом, унылом молчании всего зала, я стал совершенно по-звериному зевать. Затем в прениях Маяковский, указав, что “бубнововалетчики” пригласили докладчиком аполлонщика Макса Волошина, заявил, перефразируя Козьму Пруткова:
– Коль червь сомнения заполз тебе за шею,
Дави его сама, а не давай лакею8.
В публике поднялся содом, я взбежал на эстраду и стал рвать прицепленные к кафедре афиши и программы.
Кончаловский, здоровый мужчина с бычьей шеей, кричал, звенел председательским звонком, призывал к порядку, но его не слышали. Зал бушевал, как море в осень.
Тогда заревел Маяковский – и сразу заглушил аудиторию9. Он перекрыл своим голосом всех. Тут я впервые и “воочию” убедился в необычайной голосовой мощи разъяренного Маяковского. Он сам как-то сказал:
– Моим голосом хорошо бы гвозди в стенку вколачивать!
У него был трубный голос трибуна и агитатора.
В 1912-13 гг. я много выступал с Бурлюками, Маяковским, особенно часто с последним.
С Маяковским мы частенько цапались, но Давид Давидович, организатор по призванию и “папаша” (он был гораздо старше нас), все хлопотал, чтоб мы сдружились.
Обстоятельства этому помогали: я снял летом 1912 г. вместе с Маяковским дачу в Соломенной сторожке, возле Петровско-Разумовского10.
– Вдвоем будет дешевле, – заявил Маяковский, а в то время мы порядком бедствовали, каждая копейка на учете. Собственно, это была не дача, а мансарда: одна комната с балконом. Я жил в комнате, а Маяковский на балконе.
– Там мне удобнее принимать своих друзей обоего пола! – заметил он.
Тут же, поблизости, через 1–2 дома, жили авиатор Г. Кузьмин и музыкант С. Долинский. Воспользовавшись тем, что оба они были искренно заинтересованы новым искусством и к нам относились очень хорошо, Маяковский стал уговаривать их издать наше “детище” – “Пощечину”. Книга была уже готова, но “бубнововалетчики” нас предали. А Кузьмин, летчик, передовой человек, заявил:
– Рискну. Ставлю на вас в ординаре!
Все мы радовались.
– Ура! Авиация победила!
Действительно, издатель выиграл – “Пощечина” быстро разошлась и уже в 1913 г. продавалась как редкость11.
Перед самым выходом книги мы решили написать к ней вступительный манифест, пользуясь издательским благоволением к нам.
Я помню только один случай, когда В. Хлебников[2]2
О моем знакомстве с ним дальше. – А.К.
[Закрыть], В. Маяковский, Д. Бурлюк и я писали вместе одну вещь – этот самый манифест к “Пощечине общественному вкусу”.
Москва, декабрь 1912 г. Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы.
Помню, я предложил: “Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина”.
Маяковский добавил: “С парохода современности”.
Кто-то: “сбросить с парохода”.
Маяковский: “Сбросить – это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода…”
Помню мою фразу: “Парфюмерный блуд Бальмонта”12.
Исправление В. Хлебникова: “Душистый блуд Бальмонта” – не прошло.
Еще мое: “Кто не забудет своей первой любви – не узнает последней”13.
Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине: “Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет”.
Строчки Хлебникова: “Стоим на глыбе слова мы”.
“С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество” (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.).
Хлебников по выработке манифеста заявил: “Я не подпишу это… Надо вычеркнуть Кузмина – он нежный”[3]3
Речь идет о поэте Михаиле Кузмине, авторе книг: “Сети”, “Глиняные голубки” и др.
[Закрыть]. Сошлись на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию о своем особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидел!
Закончив манифест, мы разошлись. Я поспешил обедать и съел два бифштекса сразу – так обессилел от совместной работы с великанами…
* * *
Не давая опомниться публике, мы одновременно с книгой “Пощечина общественному вкусу” выпустили листовку под тем же названием.
Хлебников особенно ее любил и, помню, расклеивал ее в вегетарианской столовой (в Газетном пер<еулке>) среди всяческих толстовских объявлений, хитро улыбаясь, раскладывал на пустых столах, как меню.
Вот текст этой листовки:
Пощечина общественному вкусу
В 1908 г. вышел “Садок Судей”[4]4
Ошибка Д. Бурлюка: “Садок Судей” I вышел в начале 1910 г.
[Закрыть]. В нем гений – великий поэт современности Велимир Хлебников впервые выступил в печати. Петербургские мэтры считали Хлебникова сумасшедшим. Они не напечатали, конечно, ни одной вещи того, кто нес с собой возрождение русской литературы. Позор и стыд на их головы!..Время шло. В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский, Б. Лившиц, В. Кандинский, Николай Бурлюк и Давид Бурлюк в 1913 году выпустили книгу “Пощечина общественному вкусу”.
Хлебников теперь был не один. Вокруг него сгруппировалась плеяда писателей, кои, если и шли различными путями, были объединены одним лозунгом: “Долой слово-средство, да здравствует самовитое, самоценное слово! Русские критики, эти торгаши, эти слюнявые недоноски, дующие в свои ежедневные волынки, толстокожие и не понимающие красоты, разразились морем негодования и ярости. Неудивительно! – им ли, воспитанным со школьной скамьи на образцах описательной поэзии, понять Великие откровения Современности.
Все эти бесчисленные сюсюкающие Измайловы, Ношпп-culus’bi, питающиеся объедками, падающими со столов реализма – разгула Андреевых, Блоков, Сологубов, Волошиных и им подобных, утверждают (какое грязное обвинение!), что мы “декаденты”, последние из них, и что мы не сказали ничего нового, ни в размере, ни в рифме, ни в отношении к слову.
Разве были оправданы в русской литературе наши приказания – чтить права поэтов:
На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами!
На непреодолимую ненависть к существовавшему языку!
С ужасом отстранять от гордого чела своего, из банных веников сделанный вами, венок грошовой славы!
Стоять на глыбе слова “мы” среди моря свиста и негодования!
На обороте листовки были помещены для наглядности и сравнения “в нашу пользу” произведения: против текста Пушкина – текст Хлебникова, против Лермонтова – Маяковского, против Надсона – Бурлюка, против Гоголя – мой.
Меньше всего мы думали об озорстве. Но всякое новое слово рождается в корчах и под визги всеобщей травли. Нам, участникам, книги и декларации не казались дикими ни по содержанию, ни по оформлению. Думаю, что они не поразили бы и теперешнего читателя, не очень-то благоговеющего перед Леонидами Андреевыми, Сологубами и Куприными. Но тогдашние охранители “культурных устоев” из “Нового времени”, “Русского слова”, “Биржевки” и проч, устами Буренина, А. Измайлова, Д. Философова и др. пытались просто нас удушить.
Теперь эта травля воспринимается как забавный бытовой факт. Но каково было нам в свое время проглатывать подобные булыжники! А все они были в таком роде:
– Вымученный бред претенциознобездарных людей…
Это – улюлюканье застрельщика строкогонов А. Измайлова. От него не отставали Анастасия Чеботаревская, Н. Лаврский, Д. Философов и т. д., и т. д.
Писали они по одному рецепту:
– Хулиганы – сумасшедшие – наглецы.
– Такой дикой бессмыслицей, бредом больных горячкой людей или сумасшедших наполнен весь сборник…
Бурлюков
дураков
и Крученых напридачу
на Канатчикову дачу…
и т. д.
Таково было наше первое боевое “крещение”!..
* * *
Тот же Д. Бурлюк познакомил меня с Хлебниковым где-то на диспуте или на выставке. Хлебников быстро сунул мне руку. Бурлюка в это время отозвали, мы остались вдвоем. Я мельком оглядел Хлебникова.
Тогда в начале 1912 г. ему было 27 лет. Поражали: высокий рост, манера сутулиться, большой лоб, взъерошенные волосы. Одет был просто – в темно-серый пиджак.
Я еще не знал, как начать разговор, а Хлебников уже забросал меня мудреными фразами, пришиб широкой ученостью, говоря о влиянии монгольской, китайской, индийской и японской поэзии на русскую.
– Проходит японская линия, – распространялся он. – Поэзия ее не имеет созвучий, но певуча… Арабский корень имеет созвучия…
Я не перебивал. Что тут отвечать? Так и не нашелся.
А он беспощадно швырялся народами.
– Вот академик! – думал я, подавленный его эрудицией. Не помню уж, что я бормотал, как поддерживал разговор.
В одну из следующих встреч, кажется, в неряшливой и студенчески-голой комнате Хлебникова, я вытащил из коленкоровой тетрадки (зампортфеля) два листка – наброски, строк 40–50 своей первой поэмы “Игра в аду”. Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг – собственные. Это было характерной чертой Хлебникова: он творчески вспыхивал от малейшей искры. Показал мне испещренные его бисерным почерком странички. Вместе прочли, поспорили, еще поправили. Так неожиданно и непроизвольно мы стали соавторами.
Первое издание этой поэмы вышло летом 1912 г. уже по отъезде Хлебникова из Москвы (литография с 16-ю рисунками Н. Гончаровой).
Об этой нашей книжке вскорости появилась большая статья именитого тогда С. Городецкого в солидно-либеральной “Речи”. Вот выдержки:
– Современному человеку ад, действительно, должен представляться, как в этой поэме, – царством золота и случая, гибнущего в конце концов от скуки…
– Когда выходило “Золотое руно” и объявило свой конкурс на тему “Чорт”– эта поэма наверняка получила бы заслуженную премию14.
Уснащено обширными цитатами. Я был поражен. Первая поэма – первый успех.
Эта ироническая, сделанная под лубок, издевка над архаическим чертом быстро разошлась.
Перерабатывали и дополняли ее для второго издания – 1914 г. мы опять с Хлебниковым. Малевали черта на этот раз К. Малевич и О. Розанова15.
Какого труда стоили первые печатные выступления! Нечего и говорить, что они делались на свой счет, а он был вовсе не жирен. Проще – денег не было ни гроша. И “Игру в аду”, и другую свою16 книжечку “Старинная любовь” я переписывал для печати сам литографским карандашом. Он ломок, вырисовывать им буквы неудобно. Возился несколько дней.
Рисунки Н. Гончаровой и М. Ларионова были, конечно, дружеской бесплатной услугой. Три рубля на задаток типографии пришлось собирать по всей Москве. Хорошо, что типограф посчитал меня старым заказчиком (вспомнил мои шаржи и открытки, печатанные у него же!) и расщедрился на кредит и бумагу. Но выкуп издания прошел не без трений. В конце концов, видя, что с меня взятки гладки, и напуганный моим отчаянным поведением, дикой внешностью и содержанием книжек, неосторожный хозяйчик объявил:
– Дайте расписку, что претензий к нам не имеете. Заплатите еще три рубля и скорее забирайте свои изделия!
Пришлось в поисках трешницы снова обегать полгорода. Торопился. Как бы типограф не передумал, как бы дело не провалилось…
Примерно с такой же натугой печатал я и следующие издания ЕУЫ (1913–1914 гг.)17.
Книги Тилеи” выходили на скромные средства Д. Бурлюка. “Садок судей” I и II вывезли на своем горбу Е. Гуро и М. Матюшин.
Кстати, “Садок судей” I – квадратная пачка серенькой обойной бумаги, односторонняя печать, небывалая орфография, без знаков препинания (было на что взглянуть!) – мне попался впервые у В. Хлебникова. В этом растерзанном и зачитанном экземпляре я впервые увидел хлебниковский “Зверинец” – непревзойденную, насквозь музыкальную прозу. Откровением показался мне и свежий разговорный стих его же пьесы “Маркиза Дезес”, оснащенный редкостными рифмами и словообразованиями.
Чтобы представить себе впечатление, какое тогда производил сборник, надо вспомнить его основную задачу – уничтожающий вызов мракобесному эстетизму “аполлонов”. И эта стрела попала в цель! Недаром после реформы правописания аполлонцы, цепляясь за уничтоженные яти и еры, дико верещали (см. <№№> 4–5 их журнала за 1917 г.):
– И вместо языка, на коем говорил Пушкин, раздастся дикий говор футуристов18.
Так озлило их, такие пробоины сделало в их бутафорских “рыцарских щитах”, так запомнилось им даже отсутствие этого достолюбезного “ятя” в “Садке”!..
Моя совместная с Хлебниковым творческая работа продолжалась. Я настойчиво тянул его от сельских тем и “древлего словаря” к современности и городу.
– Что же это у вас? – укорял я. – “Мамоньки, уже коровоньки ревмя ревут”. Где же тут футуризм?
– Я не так написал! – сердито прислушиваясь, наивно возражал Хлебников. – У меня иначе: “Мамонька, уж коровушки ревмя-ревут, водиченьки просят сердечные…” (“Девий бог”).
Признаться, разницы я не улавливал и прямо преследовал его “мамонькой и коровонькой”.
Хлебников обижался, хмуро горбился, отмалчивался, но понемногу сдавался. Впрочем, туго.
– Ну вот, про город! – объявил он как-то, взъерошив волосы и протягивая мне свеженаписанное. Это были стихи о хвосте мавки-ведьмы, превратившемся в улицу:
А сзади была мостовой
с концами ярости вчерашней
ступала ты на пальцы башни,
рабы дабы
в промокших кожах
кричали о печали,
а ты дышала пулями в прохожих
И равнодушно и во сне
Они узор мороза на окне.
Да эти люди иней только,
из пулеметов твоя полька
и из чугунного окурка
твои Чайковский и мазурка…
Я напечатал эти стихи в “Изборнике” Хлебникова19.
Такой же спор возник у нас из-за названия его пьесы “Оля и Поля”.
– Это “Задушевное слово”, а не футуризм! – возмущался я и предложил ему более меткое и соответствующее пьеске – “Мирсконца”, которым был озаглавлен еще наш сборник 1912 г.
Хлебников согласился, заулыбался и тут же начал склонять:
– Мирсконца, мирсконцой, мирсконцом.
Кстати, вспоминаю, как в те годы Маяковский острил:
– Хорошая фамилия для испанского графа – Мирсконца (ударение на “о”).
Если бы не было у меня подобных стычек с Хлебниковым, если бы я чаще подчинялся анахроничной певучести его поэзии, мы несомненно написали бы вместе гораздо больше. Но моя ерошливость заставила ограничиться только двумя поэмами. Уже названной “Игрой” и “Бунтом жаб”, написанным в 1913 г. (напечатано во II томе собрания сочинений Хлебникова)20.
Правда, сделали совместно также несколько мелких стихов и манифестов21.
Резвые стычки с Виктором Хлебниковым (имя Велимир – позднейшего происхождения) бывали тогда и у Маяковского. Вспыхивали они и за работой. Помню, при создании “Пощечины” Маяковский упорно сопротивлялся попыткам Велимира отяготить манифест сложными и вычурными образами, вроде: “Мы будем тащить Пушкина за обледенелые усы”. Маяковский боролся за краткость и ударность.
Но часто перепалки возникали между поэтами просто благодаря задорной и неисчерпаемой говорливости Владимира Владимировича. Хлебников забавно огрызался.
Помню, Маяковский как-то съязвил в его сторону:
– Каждый Виктор мечтает быть Гюго.
– А каждый Вальтер – Скоттом! – моментально нашелся Хлебников, парализуя атаку.
Такие столкновения не мешали их поэтической дружбе. Хлебникова, впрочем, любили все будетляне и высоко ценили.
В. Каменский и Д. Бурлюк в 1912-14 гг. не раз печатно и устно заявляли, что Хлебников – “гений”, наш учитель, “славождь” (см., например, листок “Пощечины”, предисловие к I тому “Творений” Хлебникова изд. 1914 г. и др.)22.
Об этом нелишне вспомнить сейчас, когда некоторые “историки литературы” беззаботно пишут:
– Вождем футуристов до 1914 г. был Давид Бурлюк.
Нельзя, конечно, отрицать больших организационных заслуг Давида Давидовича. Но сами будетляне своим ведущим считали Хлебникова.
Впрочем, надо подчеркнуть: в раннюю эпоху футуристы шли таким тесным, сомкнутым строем, что все эти титулы неприложимы здесь. Ни о каких “наполеонах” и единоначальниках среди нас тогда не могло быть и речи!..
Гораздо теснее мне удалось сработаться с В. Хлебниковым в области декларативно-программной. Мы вместе долго бились над манифестом о слове и букве “как таковых”. Плоды этих наших трудов увидели свет лишь недавно в “Неизданном Хлебникове”23.
Помимо этого Велимир живо отзывался на ряд других моих исследовательских опытов. Мою брошюру “Чорт и речетворцы” мы обсуждали вместе. Просматривали с ним уже написанное мною, исправляли, дополняли. Интересно, что здесь Хлебников часто оказывался отчаяннее меня. Например, я рисовал испуг мещанина перед творческой одержимостью. Как ему быть, скажем, с экстатическим Достоевским? И вот Хлебников предложил здесь оглушительную фразу:
– Расстрелять как Пушкина, как взбесившуюся собаку!
Многие вставленные им строки блещут остротой издевки, словесным изобретательством.
Так, мое нефтевание болот сологубовщины24 Хлебников подкрепил четверостишием о недотыкомке:
Я Вам внимаю, мои дети,
воссев на отческий престол.
Душ скольких мне услышать Нети
позволит подданных глагол25.
Здесь замечательна “Неть” – имя смерти.
Не меньше участие Хлебникова и в моей работе “Тайные пороки академиков”. Эта вещь также обсуждалась мною с Велимиром, и там есть несколько его острых фраз.
Однако сотрудничество Хлебникова и здесь, как оно ни было ценно, таило свои опасности. Приходилось быть все время начеку. Его глубокий интерес к национальному фольклору часто затуманивал его восприятие современности. И порой его языковые открытия и находки, будь они неосмотрительно опубликованы, могли бы быть использованы нашими злейшими врагами, в целях далеко даже не литературных.
Способность Хлебникова полностью растворяться в поэтическом образе сделала некоторые его произведения объективно неприемлемыми даже для нас, его друзей. Конкретно назвать эти вещи трудно, так как они затерялись и, вероятно, погибли. Другие – мы подвергали серьезному идейному выпрямлению.
Еще резче приходилось восставать против опусов некоторых из протеже слишком увлекавшегося красотами “русской души” Хлебникова. Так, вспоминаю, были категорически отвергнуты редакцией “Садка судей” II некоторые стихи в сильно сусанинском духе 13-летней Милицы. Сопроводительное хвалебное письмо Велимира об этих стихах, полное предчувствия социальных катастроф, но весьма непродуманное, напечатано мною лишь недавно в “Неизданном Хлебникове” как документ большого эпистолярного мастерства поэта26.
Случалось мне, например, решительно браковать и редакторские поправки Хлебникова, продиктованные его, остро выраженным в то время, национализмом.
В моих строчках (из “Пощечины”):
Нож хвастлив
взоры кинул
и на стол
как на пол
офицера опрокинул —
умер он… —
Хлебников усмотрел оскорбление армии и безуспешно настаивал на замене офицера – хроникером.
Наша определенная общественно-политическая ориентация, органически связанная с революционными установками в искусстве, никогда не подавалась нами оголенной, но она обусловливала содержание наших художественных вещей. Только подслеповатость иных критиков объясняет созданную ими легенду о нашей дореволюционной аполитичности27.
Вся история нашего воздействия на В. Хлебникова говорит о твердости социально-политической линии будетлян. И если Хлебников впоследствии, в суровые годы войны и революции, далеко ушел от специфического историзма, национализма и славянофильства, – то немалую роль сыграло здесь его товарищеское окружение. В дружеской атмосфере нашей группы постепенно рассеивались сусальные призраки святорусских богатырей и ископаемых “братьев-славян”28.
Хлебников был труден, но все же податлив!
Сохранилось у меня небезынтересное и не опубликованное до сих пор письмо Хлебникова того периода.
После сдачи нами в печать “Пощечины” неусидчивый Велимир неожиданно исчез. В начале 1913 г. я получил от него большое послание, вероятно, из Астрахани.
Оно хорошо характеризует простоту взаимоотношений внутри нашей молодой еще группы, проникнутых откровенностью и доверием.
Отчетливо отразился в письме весь широкий круг интересов и занятий Хлебникова, и тут ясно видны его панславистские симпатии и поиски идеализированной самовитой России. Правда, здесь же он говорит уже об изучении Индии, монгольского мира, японского стихосложения – симптом будущего перехода на позицию “международника”, как выражался впоследствии сам Велимир.
Любопытно, что даже наше отрицательное отношение к ярлыкам и кличкам, которые механически навязывались нам извне, находит у Хлебникова очень своеобразное истолкование (пренебрежительное упоминание об “истах”, выстуживании русской обители и т. д.).
Вот это письмо:
Спасибо вам за письмо и за книжку: у ней остроумная внешность и обложка[5]5
Речь идет о книге “Мирсконца”. —А.К.
[Закрыть]. Я крепко виноват, что не ответил однажды на письмо, но это случилось не по моей воле. Во всяком случае хорошо, что вы не приняли это за casus belli. Мною владеет хандра, довольно извинительная, но она растягивает все и всё, и ответ на письмо я присылаю через месяц после письма.Стихов “щипцы старого заката – заплата” я не одобряю: это значит вместе с водой выплеснуть ребенка – так говорят немцы, – хотя чувствуется что-то острое, но недосказанное.
Длинное стихотворение[6]6
Мое стихотворение из “Пощечины”. —А.К.
[Закрыть] представляется соединением неудачных строк с очень горячим и сжатым пониманием современности. (В нем есть намек на ветер, удар бури, следовательно, судно может итти, если поставить должные паруса слов.) Чтоб сказать “стучат изнутри староверы огнем кочерги”[7]7
Мое стихотворение из “Мирсконца”. —А.К.
[Закрыть], нужно видеть истинное состояние русских дел и дать его истинный очерк. Тот же молодой выпад и молодая щедрость слышна в “огни зажгли смехачи”, т. е. щедрость молодости, небрежно бросающей должный смысл и разум в сжатых словах, и бескорыстная служба року в проповеди его наказов, соединяемая с беспечным равнодушием к судьбе этой проповеди. Правда, я боюсь, что староверы относятся не только к сословию людей старого быта, но и вообще к носителям устарелых вкусов, но я думаю, что и в этом случае вы писали под давлением двух разумов: – сознательного и подсознательного; и, следовательно, одним острием двойного пера касались подлинных староверов. Эти два места, при правильном понимании их, драгоценны для понимания вообще России, собственно у русских (их племенная черта) отсутствующего. Итак, смысл России заключается в том, что “староверы стучат огнем кочерги”, накопленного предками тепла, а их дети-смехачи зажгли огни смеха, начала веселия и счастья. Отсюда взгляд на русское счастье как на ветхое вино в мехах старой веры.Наряду с этим существуют хныкачи, слезы которых, замерзая и обращаясь в сосульки, обросли русскую избу. Это, по-видимому, дети господ “истов”, ежегодно выстуживающих русскую обитель. Жизнь они проходят как воины дождя и осени. Обязанность олицетворения этих сил выполняют с редкой честностью.
Еще хорошо: “куют хвачи черные мечи собираются силачи”. Другие строки не лишены недостатков: сохраняя силу и беспорядочный строй, уместный здесь, они не задевают углом своих образов ума и проходят мимо. Между прочим, любопытны такие задачи:
1) Составить книгу баллад (участники многие или один).
– Что? – Россия в прошлом, Сулимы, Ермаки, Святославы, Минины и пр… Вишневецкий.
2) Воспеть задунайскую Русь. Балканы.
3) Сделать прогулку в Индию, где люди и божества вместе.
4) Заглянуть в монгольский мир.
5) В Польшу.
6) Воспеть растения. Это все шаги вперед.
7) Японское стихосложение. Оно не имеет созвучий, но певуче. Имеет 4 строчки. Заключает, как зерно, мысль и, как крылья или пух, окружающий зерна, видение мира. Я уверен, что скрытая вражда к созвучиям и требование мысли, столь присущие многим, есть погода перед дождем, которым прольются на нашу землю японские законы прекрасной речи. Созвучия имеют арабский корень. Здесь предметы видны издали, точно дальний гибнущий корабль во время бури с дальнего каменного утеса.
8) Заглядывать в словари славян, черногорцев и др. – собирание русского языка не окончено – и выбрать многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны. Одна из тайн творчества – видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа, крайних точек ширины и вышины. Так, воздвигнувший оси жизни Гете предшествовал объединению Германии кругом этой оси, а бегство и как бы водопад Байрона с крутизны Англии ознаменовал близившееся присоединение Индии.
Присылается вещь “Вила” недоконченная. Вы вправе вычеркнуть и опустить кое-что и, если вздумается, исправить[8]8
Поэма “Вила и Леший” была помещена мною в книге Хлебникова “Ряв” без всяких изменений. – А.К.
[Закрыть].Это вещь нецельная, написана с неохотой, но все же кое-что есть, в особенности в конце.
Ваш В.Х.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































